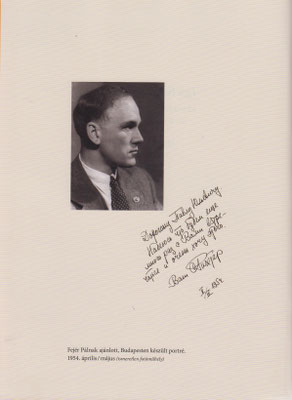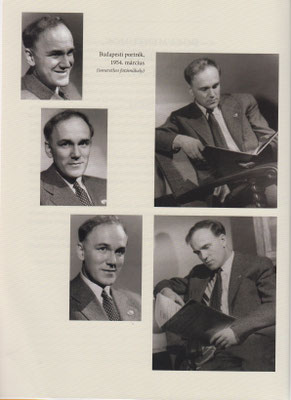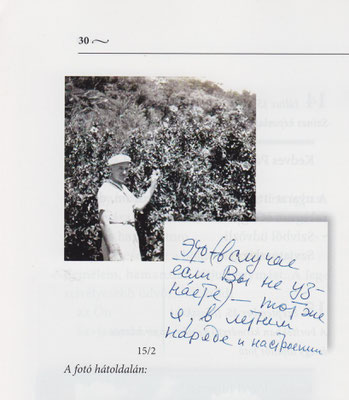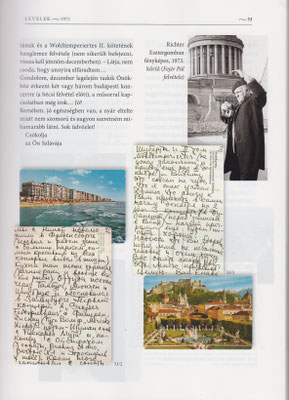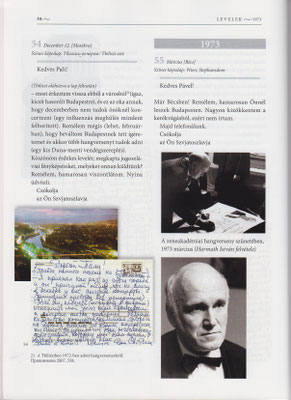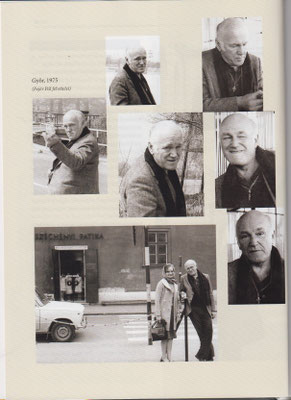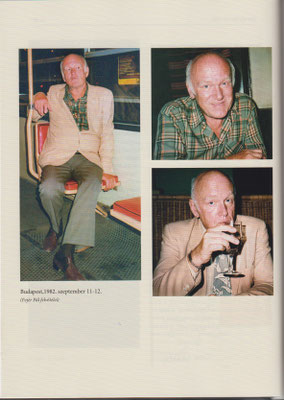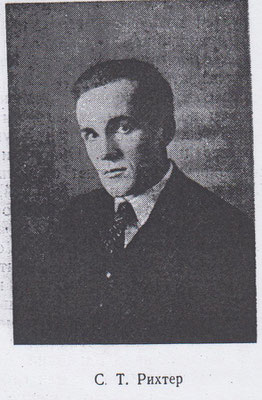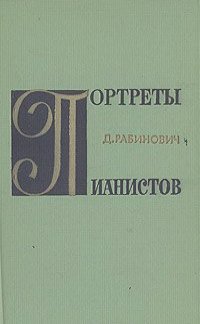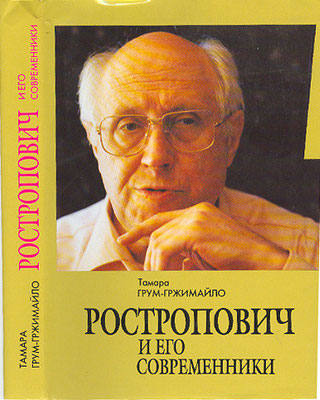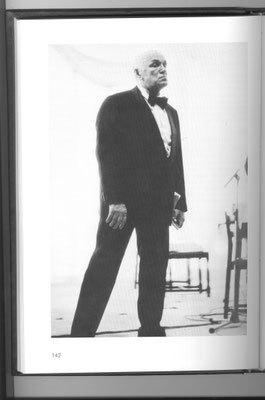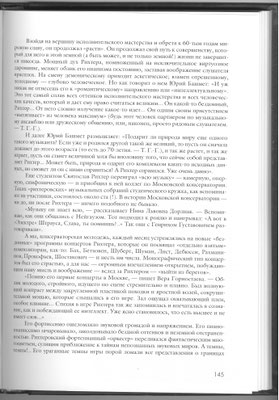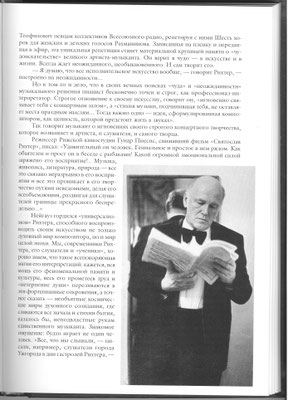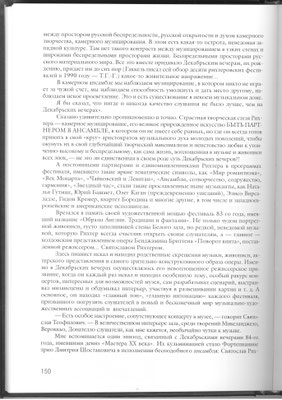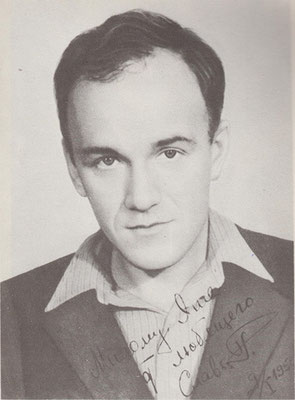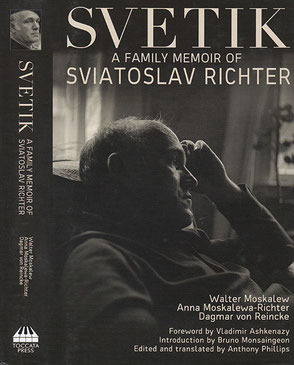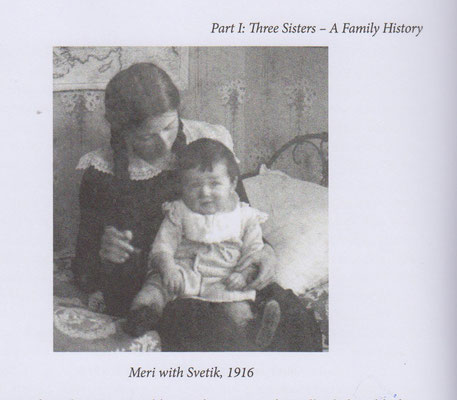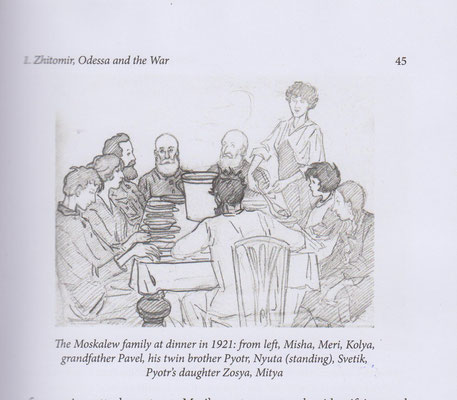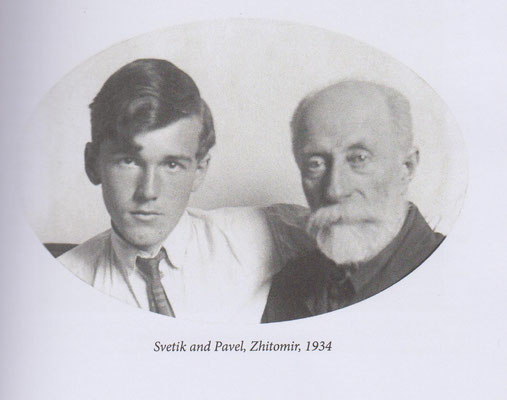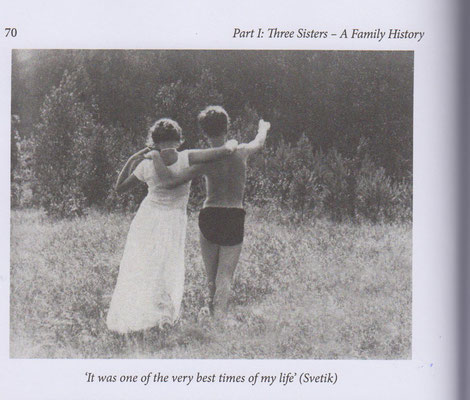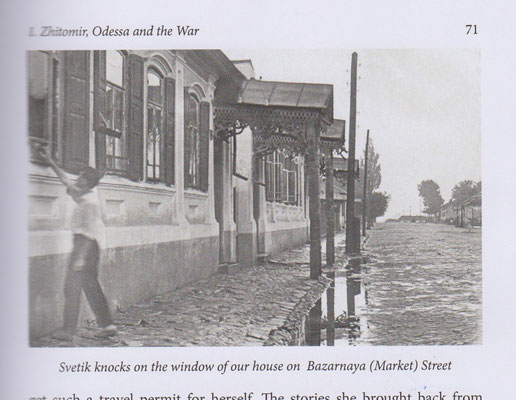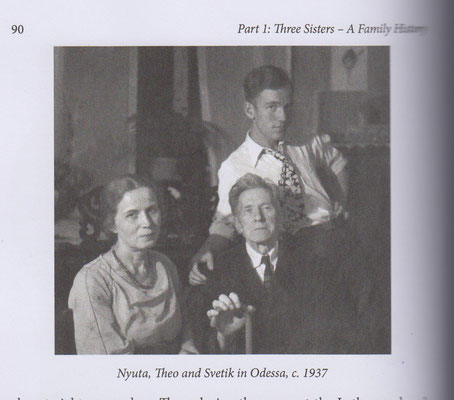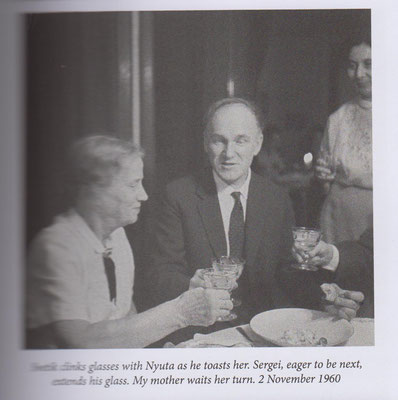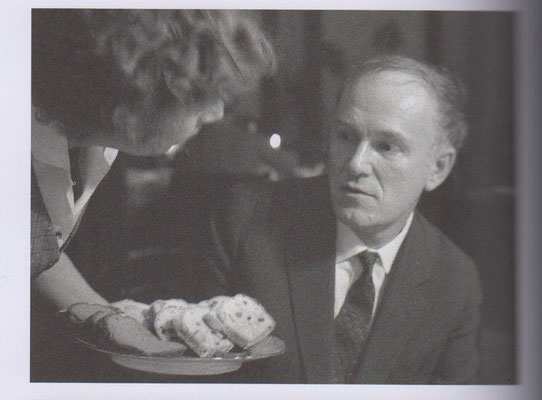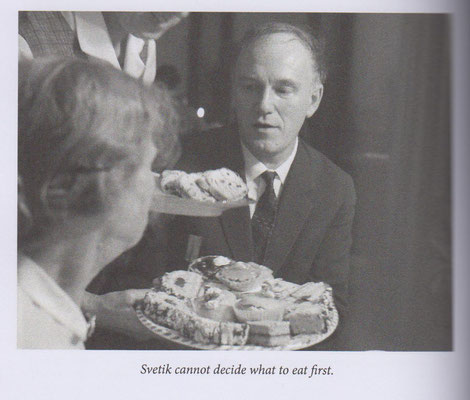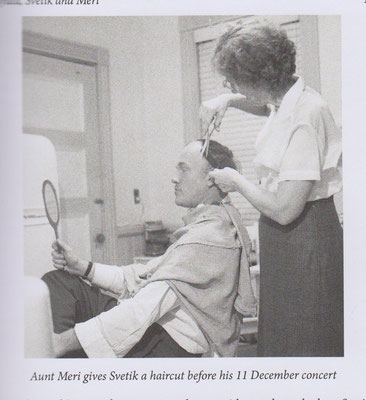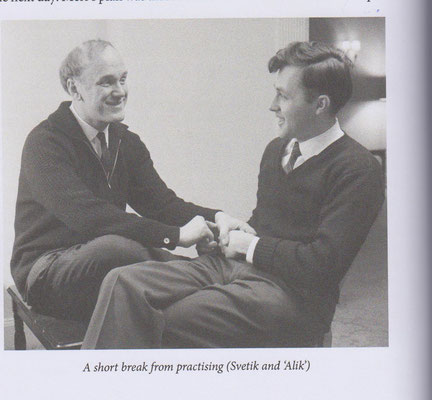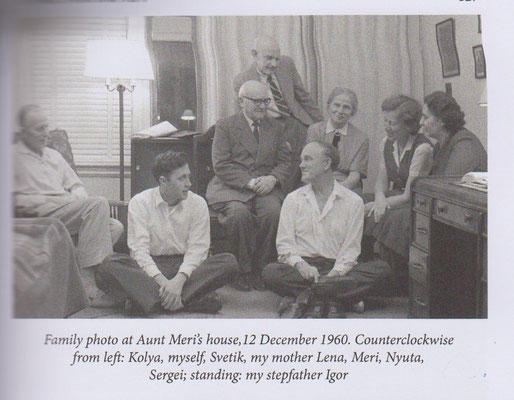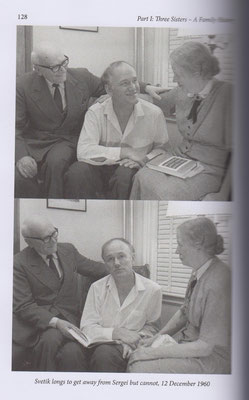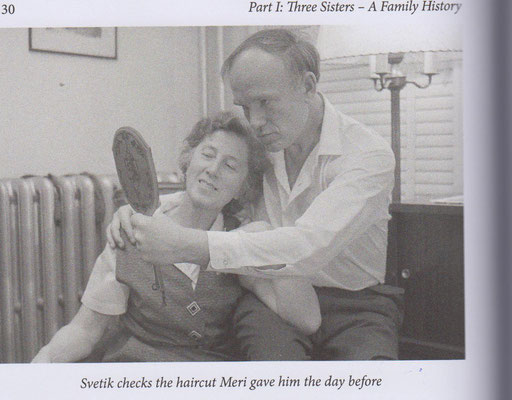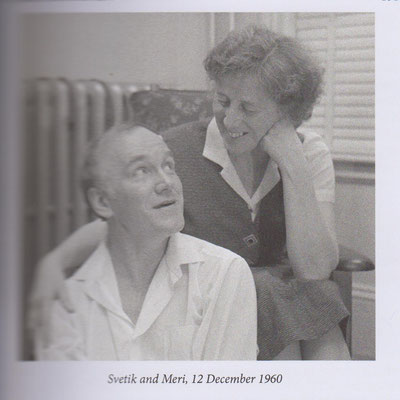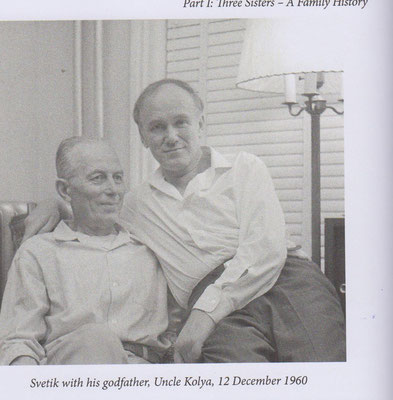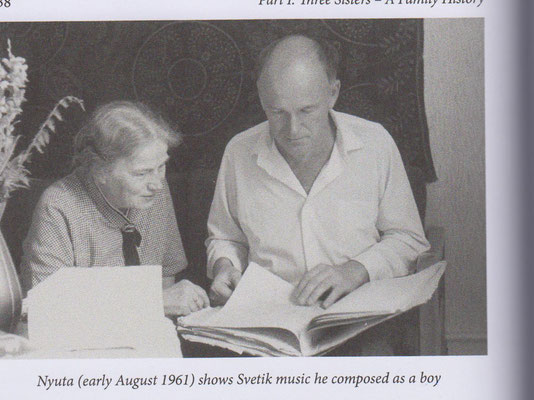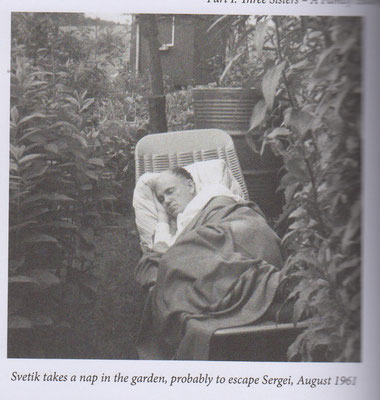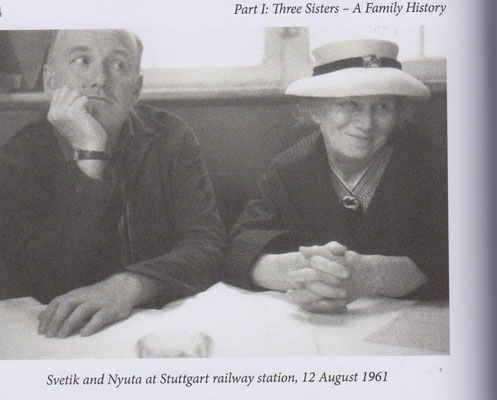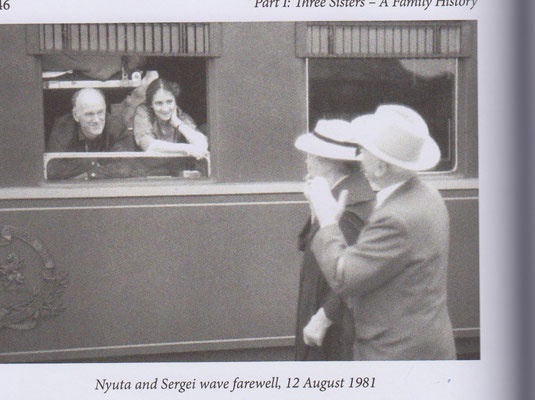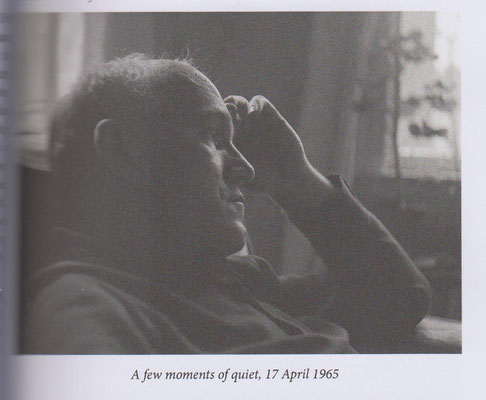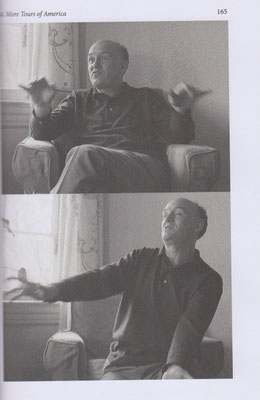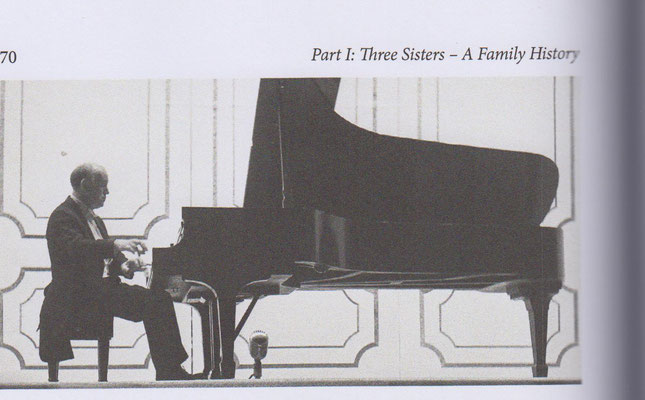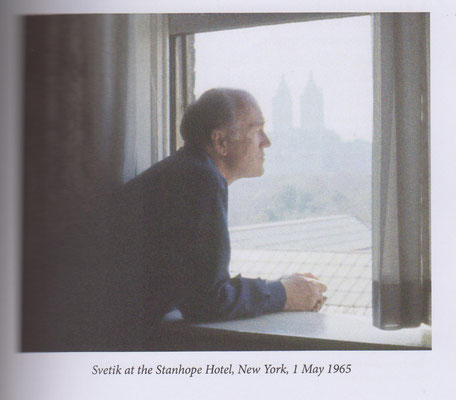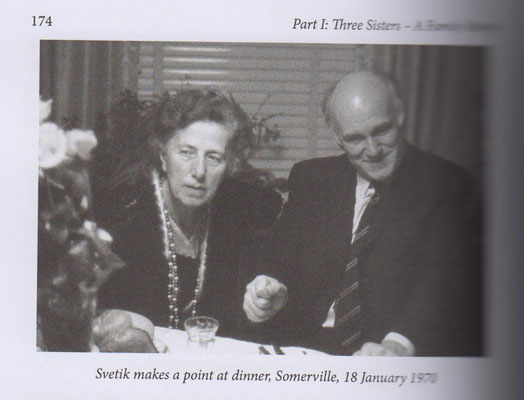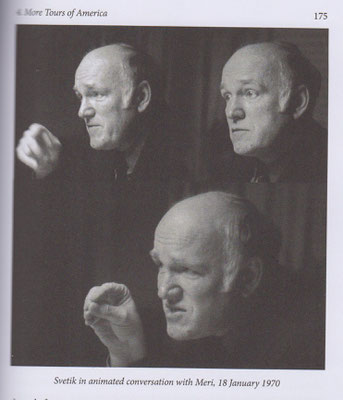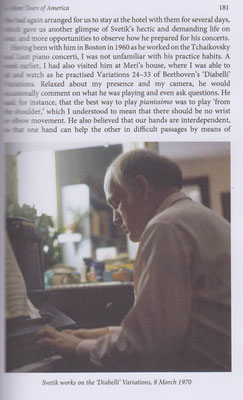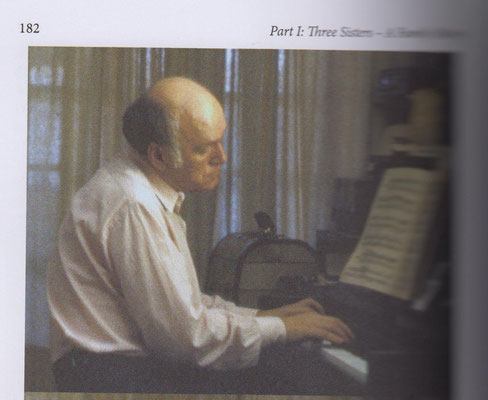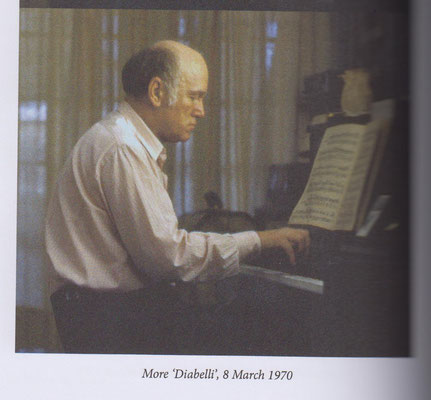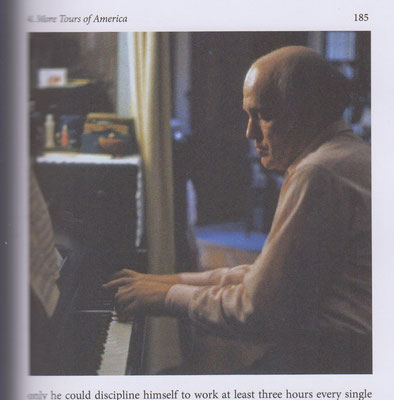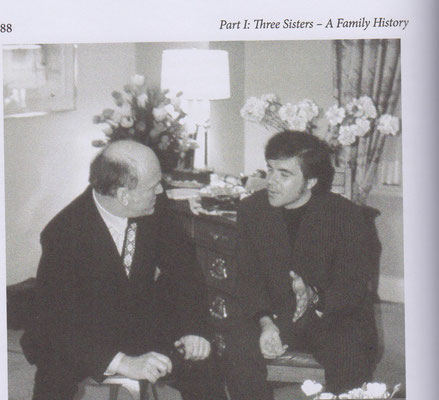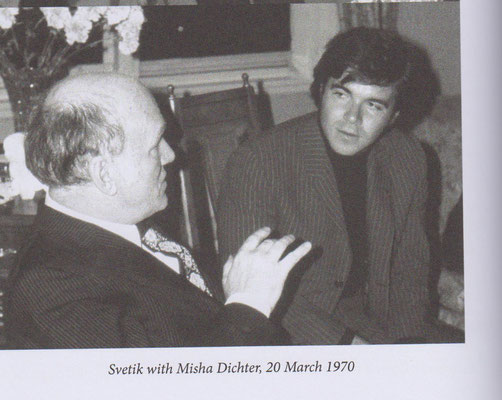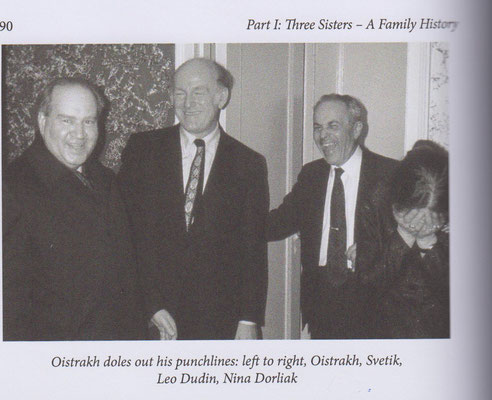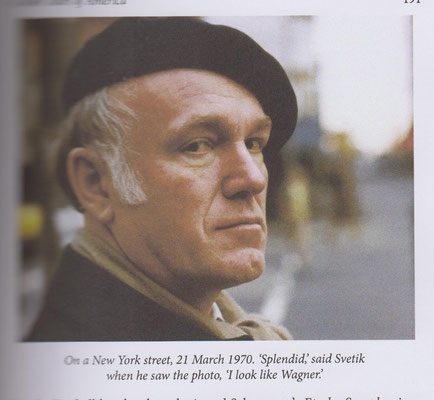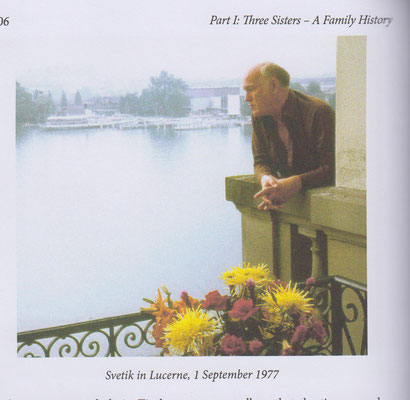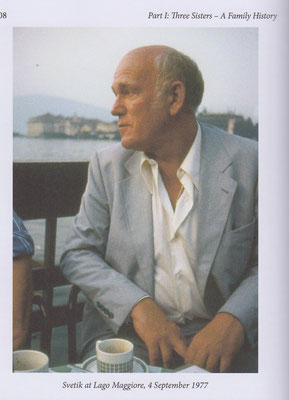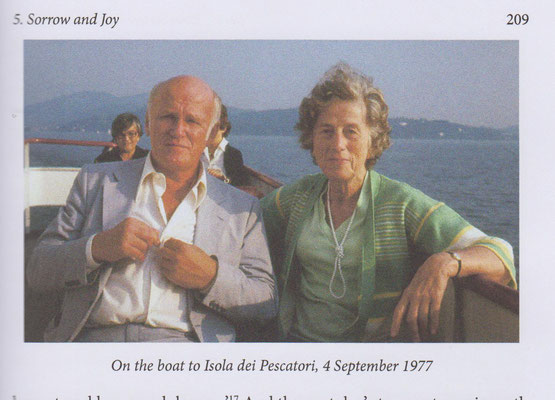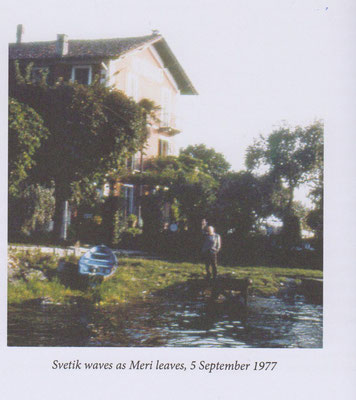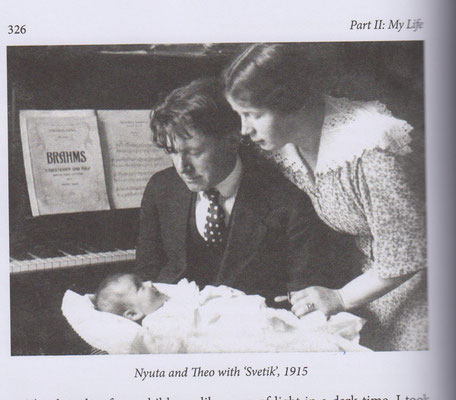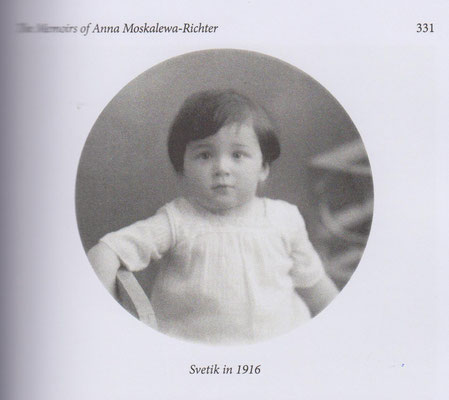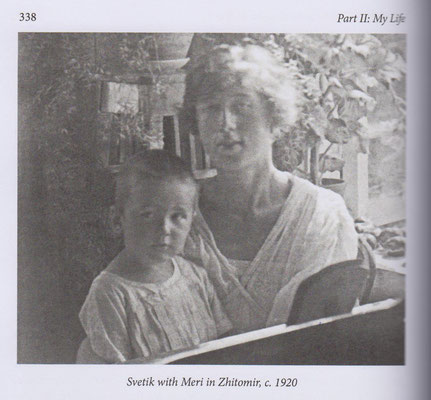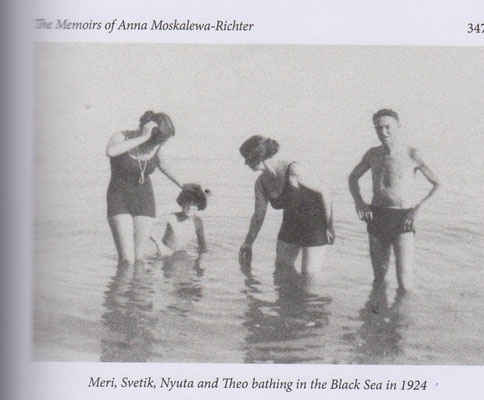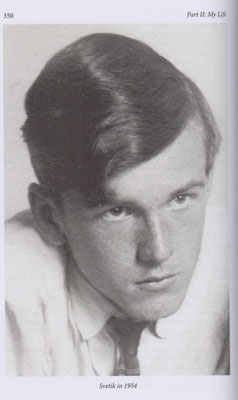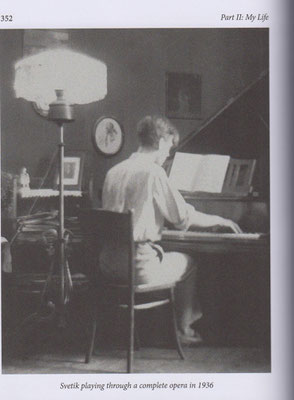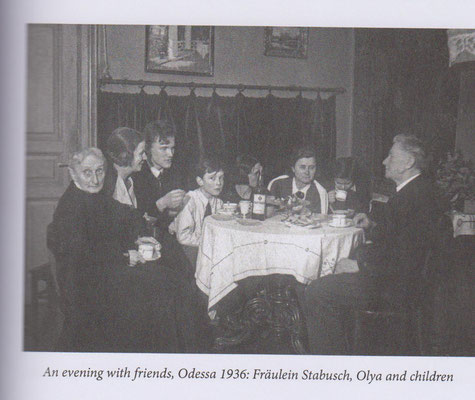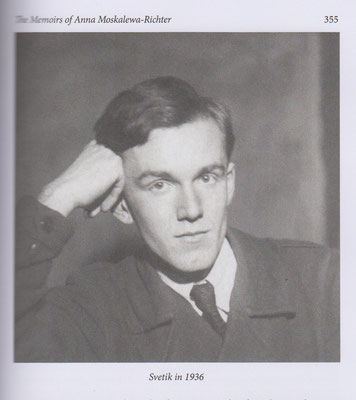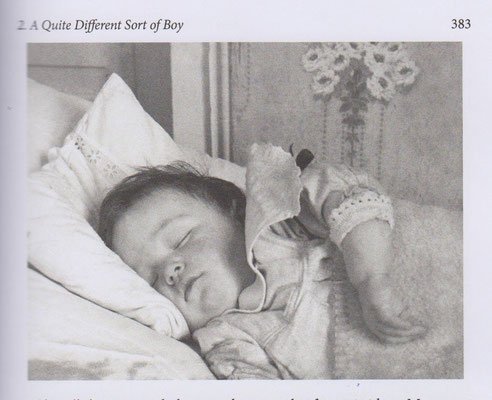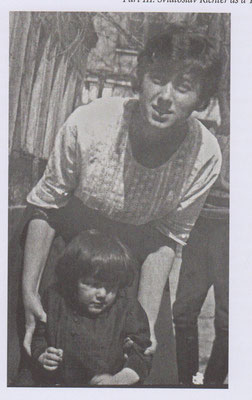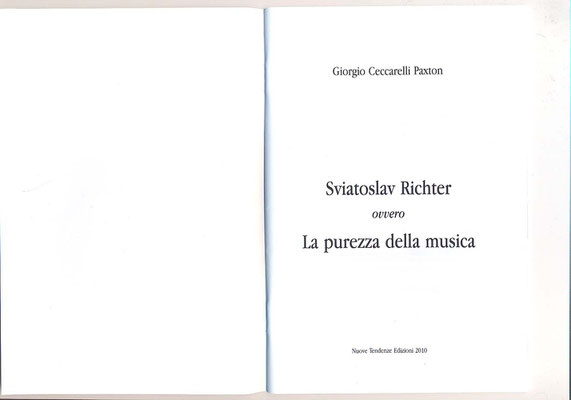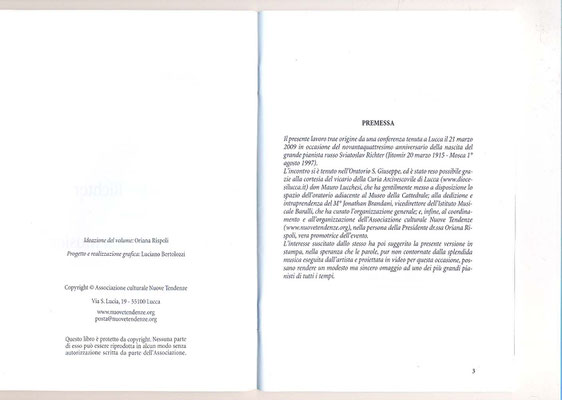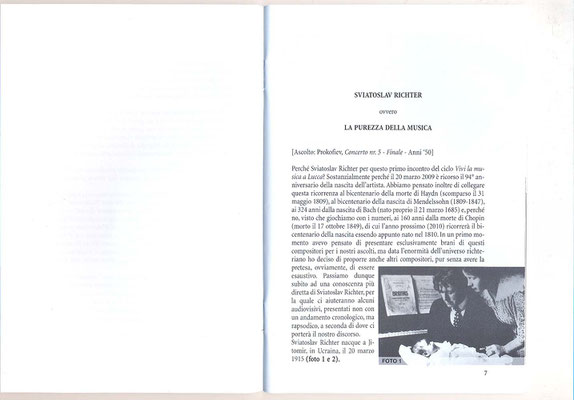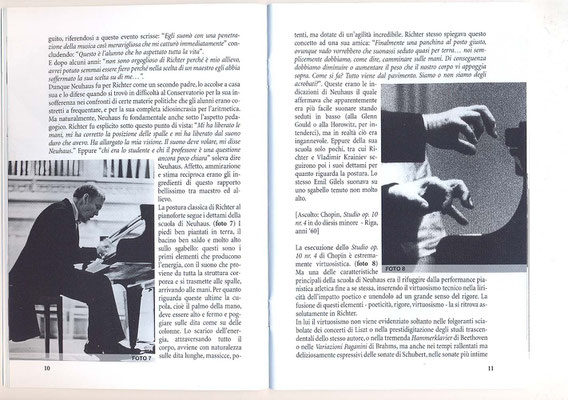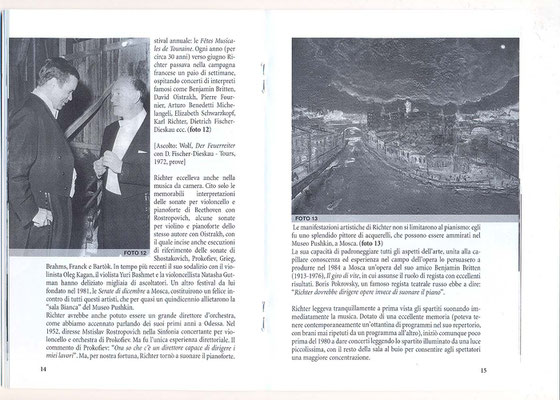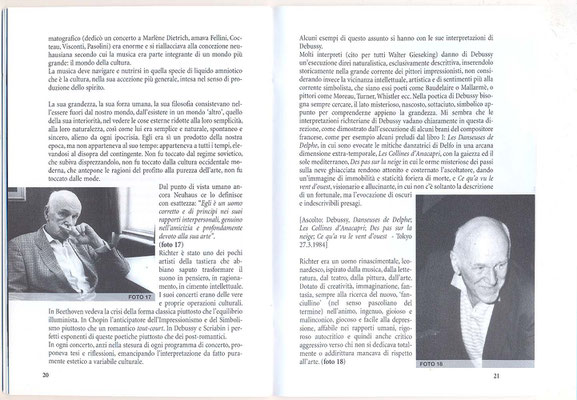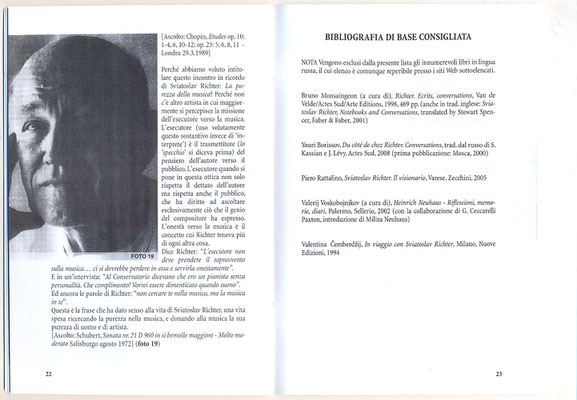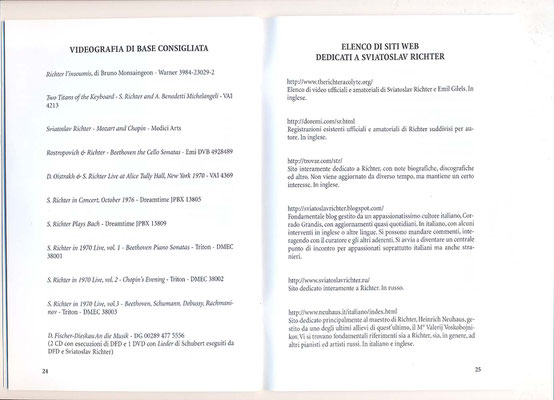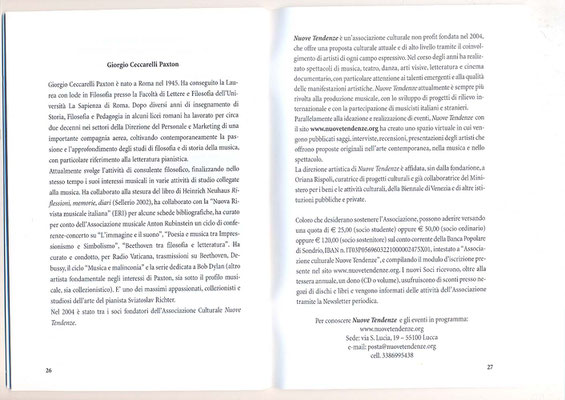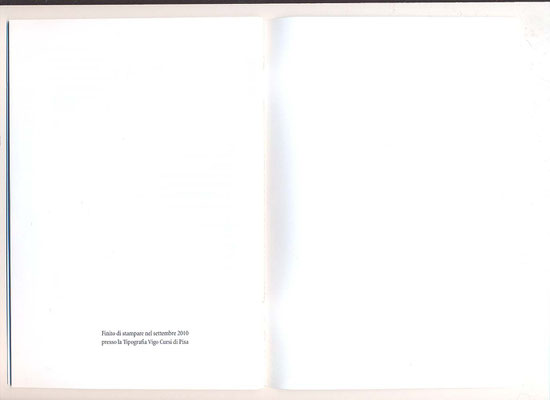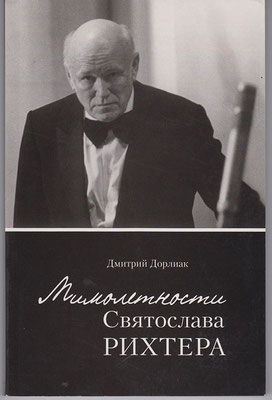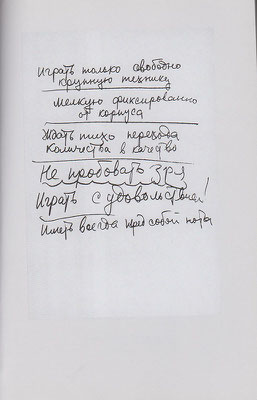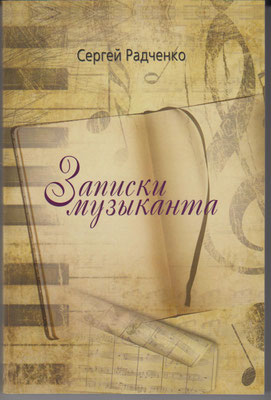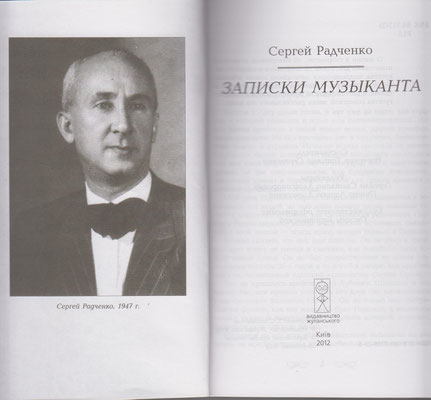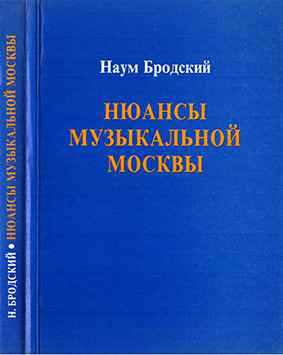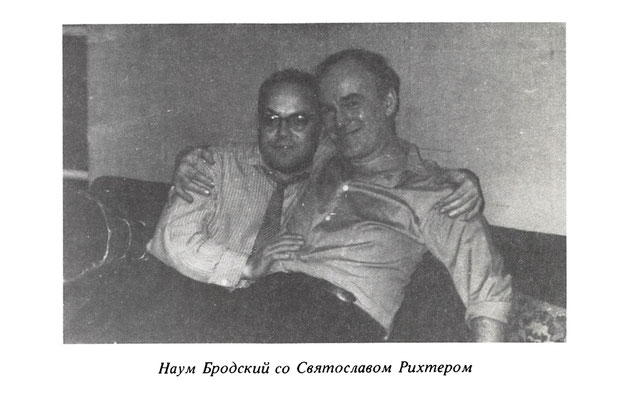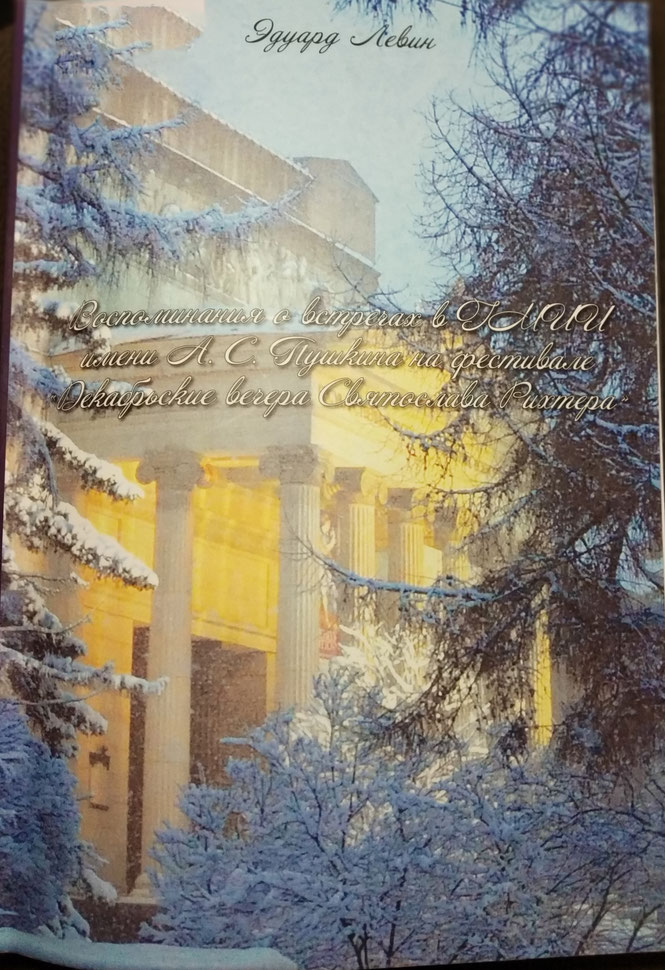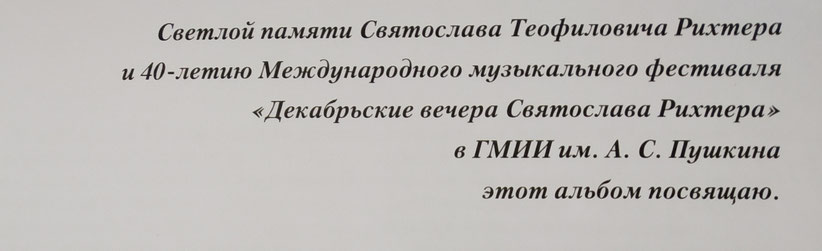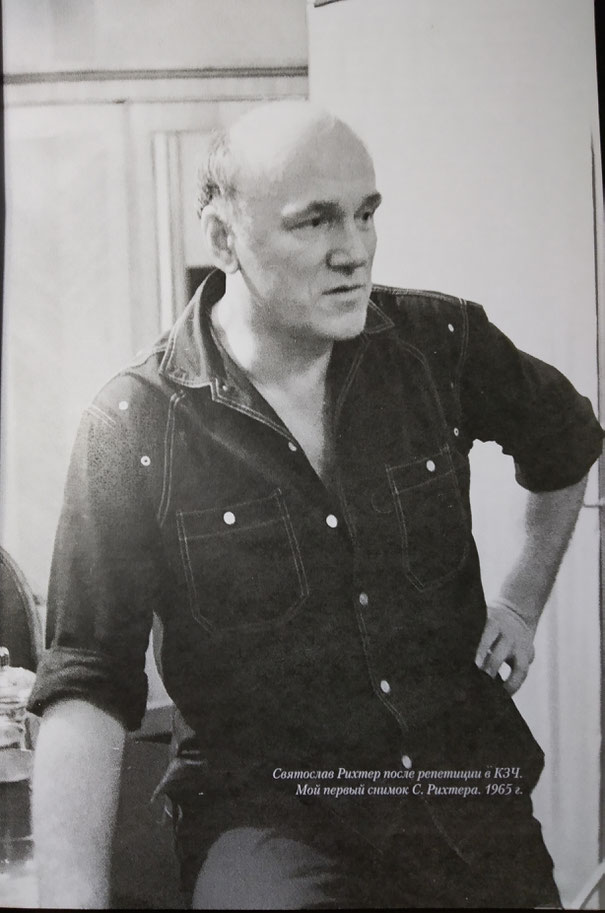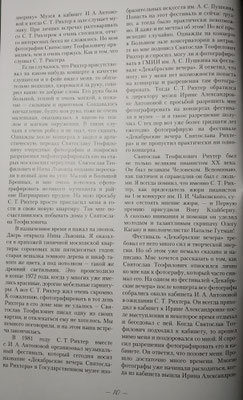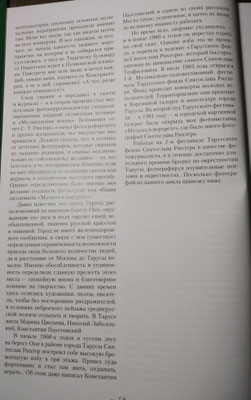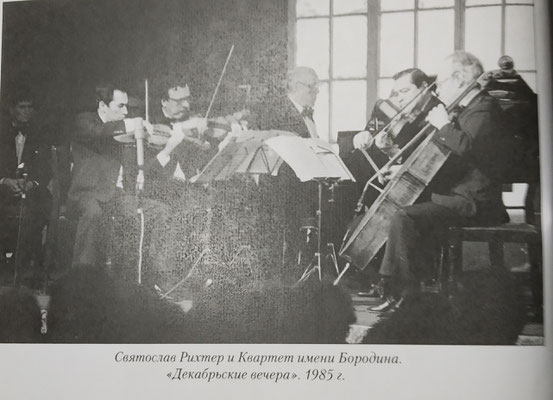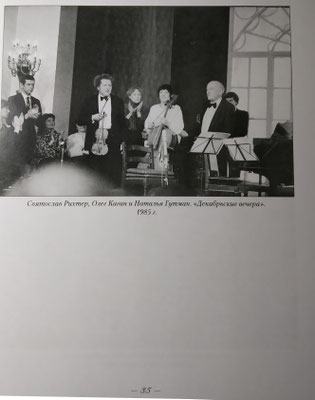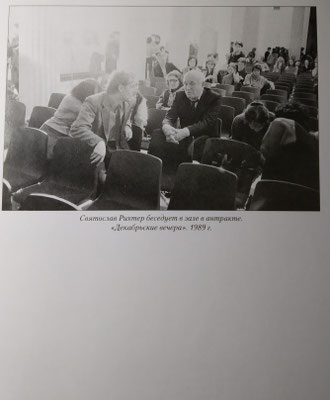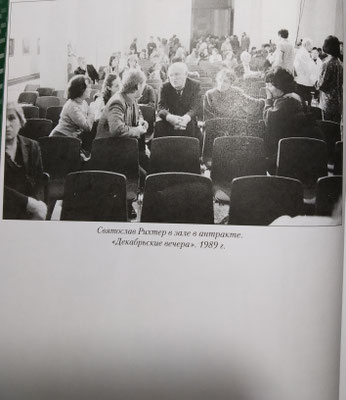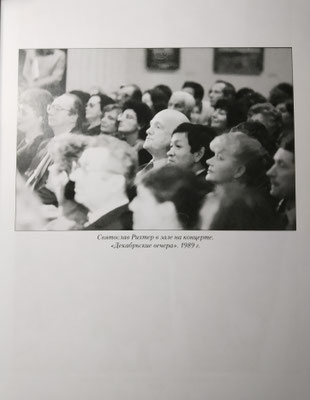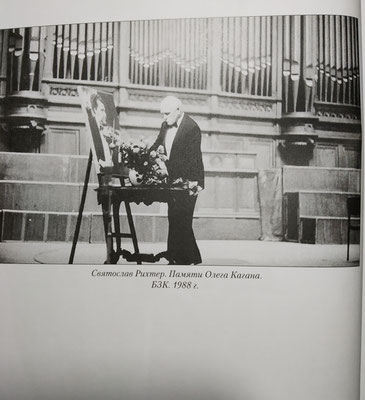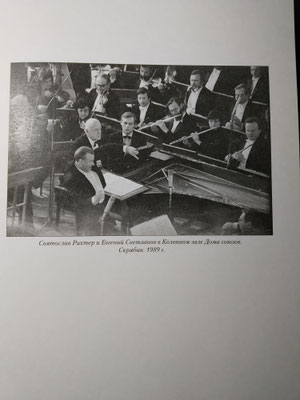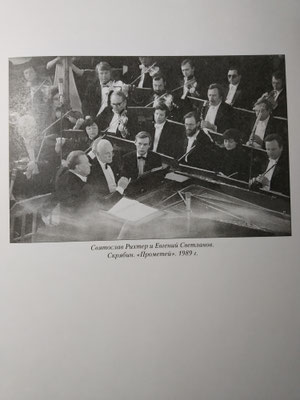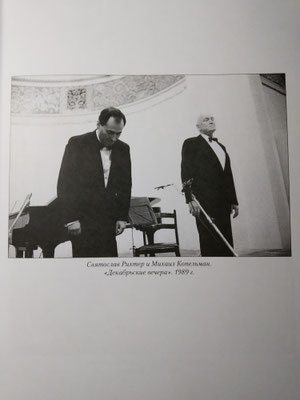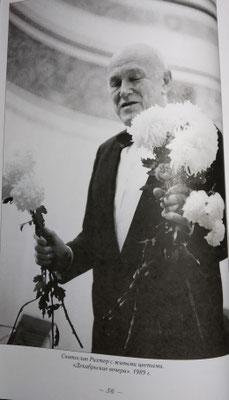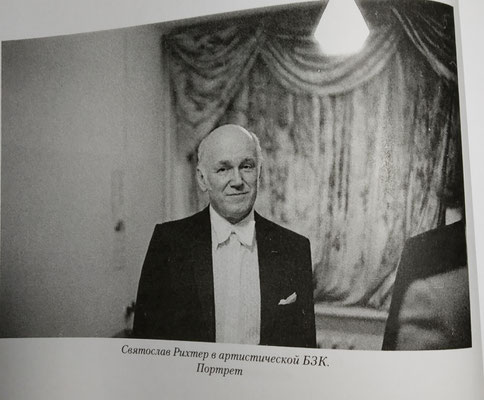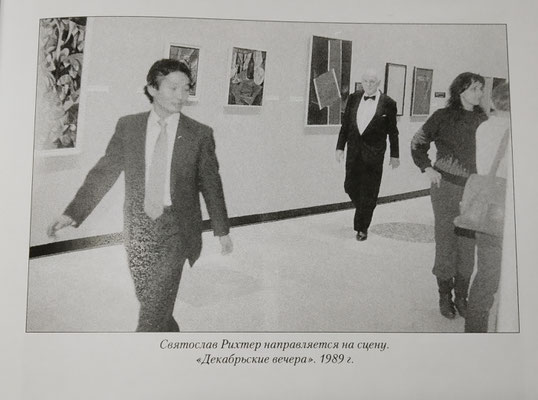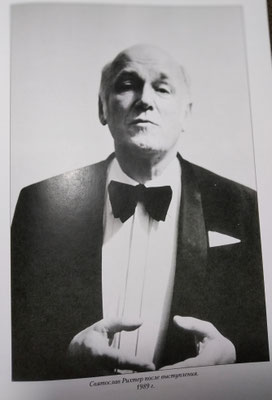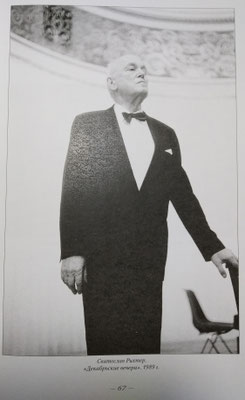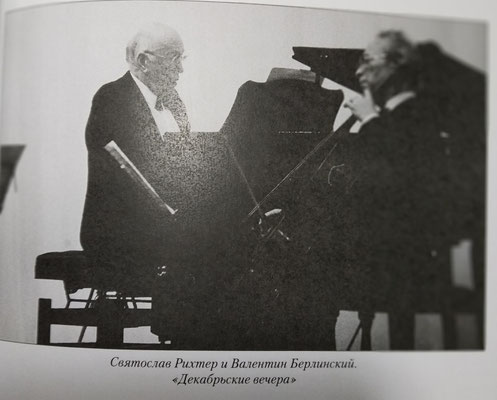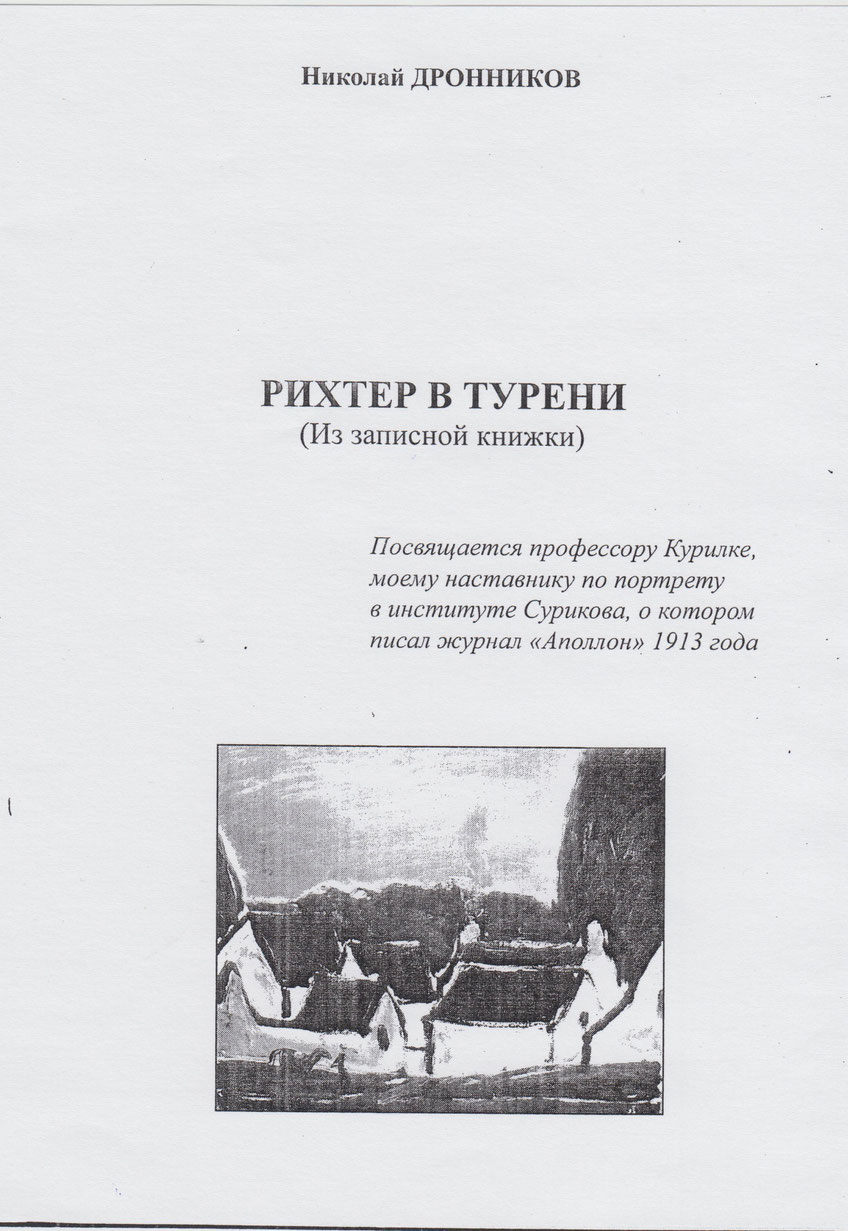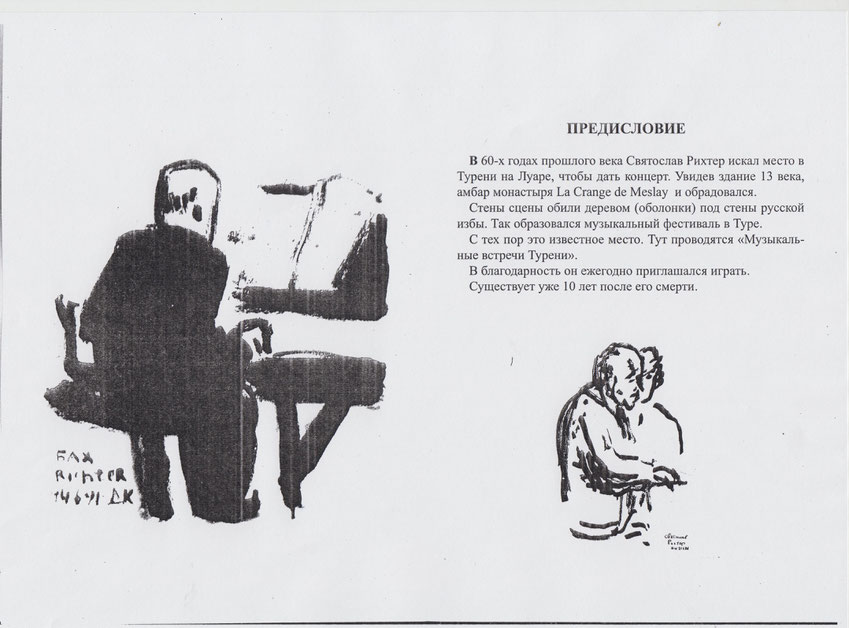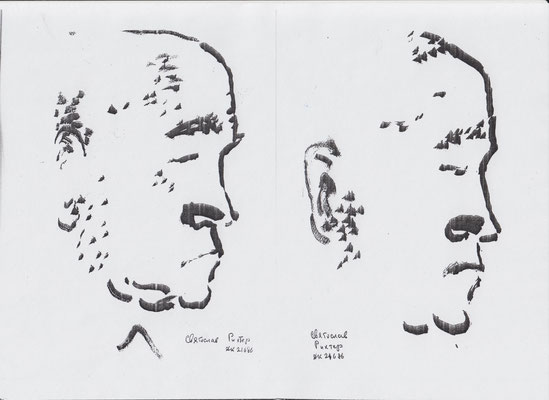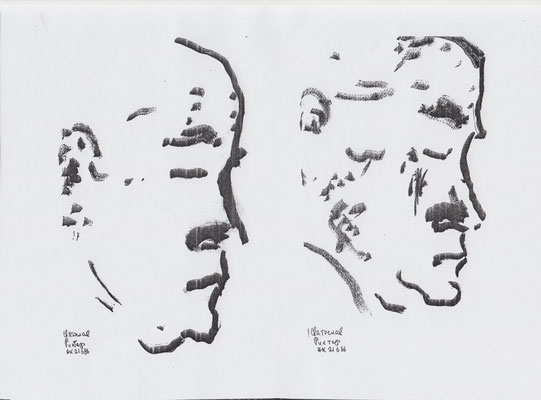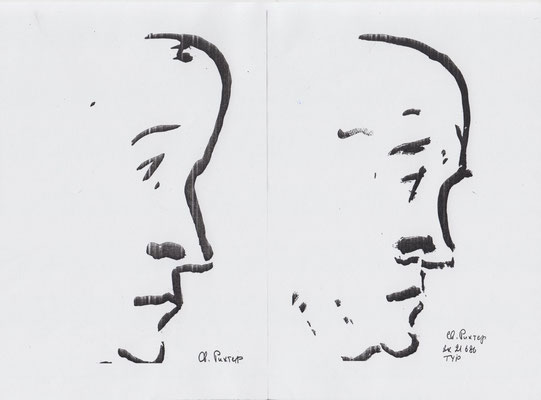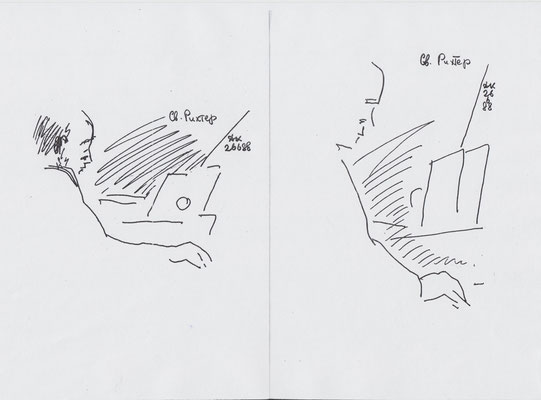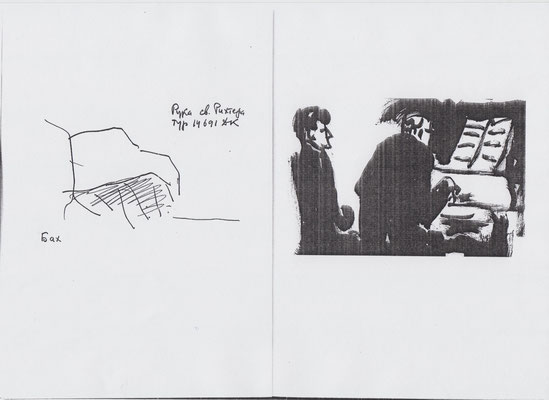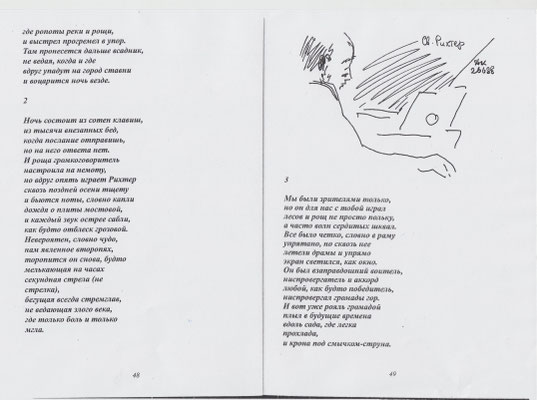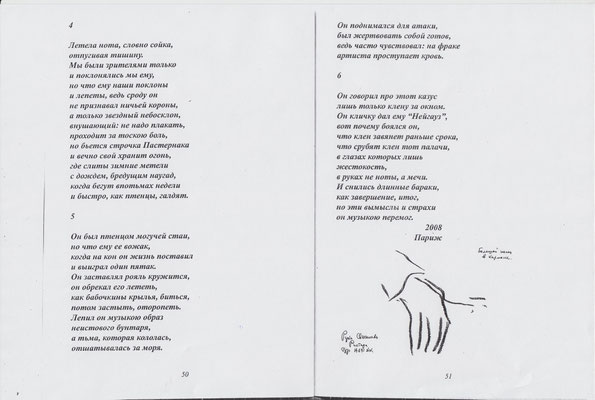Содержание раздела "Книги"
Акопян Л. "Музыка ХХ века. Энциклопедический словарь". М.: "Практика", 2010, 854 с.
Аджемов К. Незабываемое. М.: Музыка, 1972. С. 88-103.
Г. Нейгауз. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ УРОК И ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 03/12/1937, Москва, Центральный заочный музыкально-педагогический институт повышения квалификации педагогов.
В сборнике "Вопросы фортепианного исполнительства. Вып. 4" – М.:Музыка, 1976.
Дмитрий Николаевич Журавлев. Жизнь. Искусство. Встречи.
Театральное общество. М.: 1985
Egy barátság levelei. Sz. Richter és Ny. Dorliak levelei Fejér Pálhoz.
Письма С. Рихтера и Н, Дорлиак Палу Фейер. Budapest 2015.
ВСПОМИНАЯ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА
Святослав Рихтер глазами коллег, друзей и почитателей
Москва "Константа" - 2000
Г.Коган.
Советское пианистическое искусство и русские традиции. М.: 1948.
Школа Нейгауза. Фрагмент.
В.Ю.Дельсон
СВЯТОСЛАВ РИХТЕР
В помощь слушателям народных университетов культуры. Беседы о музыке.
М.: "Советский композитор", 1960 г. 26 с.
В.Дельсон.
Святослав Рихтер
"Музгиз", М.: 1961, 119 с.
В.Дельсон.
ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ. СВЯТОСЛАВ РИХТЕР.
«Советский композитор». М.: 1970, с. 118-127.
Д.Рабинович.
Портреты пианистов
«Советский композитор»; издание 2-е,
М.: 1970, 280 стр.
СВЯТОСЛАВ ТЕОФИЛОВИЧ РИХТЕР
С.Хентова.
«О музыке и музыкантах».
«Советский композитор», М.: 1970.
Святослав Рихтер: пианист современности.
Л.Гаккель.
Из сборника популярных очерков «Рассказы о музыке и музыкантах».
"Советский Композитор", М.-Л.: 1973, с. 124-151.
Для музыки и для людей.
Пожидаев Г. А.
Рассказы о музыке.
М.: «Молодая гвардия», 1975.
Г.Цыпин
В книге Л.Григорьев, Я.Платек.
«Мастера музыки и балета».
«Советский композитор», М.: 1978, 315 с.
Святослав Рихтер
Г.М.Цыпин
Святослав Рихтер
В книге "Портреты советских пианистов". «Советский композитор», 1982. Стр. 86-96 (Та же статья Г.Цыпина опубликована в книге Л.Григорьев, Я.Платек.
«Мастера музыки и балета».)
В.Лазурский. «Путь к
книге», 1985, изд-во «Книга». Начало. Одесса 20-е годы. Отчий дом. Фрагмент.
Вадим Могильницкий.
Святослав Рихтер
Изд-во "Урал", 2000 г., 345 с.
В.Могильницкий.
Рихтер-ансамблист.
Челябинск, 2012. Изд-во Игоря Розина. 95 с.
«Мастера исполнительского искуства»
Г. Цыпин
Святослав РИХТЕР
М.: «Музыка» - 1987, 32 с.
А.Д.Алексеев. История фортепианного искусства.
«Музыка», М.: 1988.
Л.Григорев, Я.Платек. «Современные пианисты».
М.: «Советский композитор», 1990, 464 с.
Золотов А.А..
Хроники Рихтера. Пианист века.
Из книги "Листопад или минуты музыки"
«Современник», М.: 1989, с.230-264.
Тамара Грум-Гржимайло (из книги “Ростропович и его современники. В легендах, былях и диалогах”.
М.: Изд-во “Агар”, 1997). ГЛАВА XIII. “Его все озаряющее присутствие”.
Бруно Монсенжон.
Рихтер. Диалоги. Дневники.
Классика, М.: 2002, 480 с.
Я.Мильштейн.
Вопросы теории и истории исполнительства. Сборник статей. М. Сов.композитор 1983г. 266 с.
Автобиографические признания.
Я.Мильштейн. Из дневников.
Д.К.Самин.
Из книги «100 великих музыкантов». СВЯТОСЛАВ ТЕОФИЛОВИЧ РИХТЕР
«Вече», М.: 2002
В.Чемберджи.
О Рихтере его словами.
М.:Аграф, 2004, 336 с.
(2-е издание - Москва : Издательство АСТ, 2017.)
Д.Терехов.
Рихтер и его время. Записки художника.
Неоконченная биография (факты, комментарии, новеллы, эссе)
"Согласие", М.:2002.
Ю.Борисов.
По направлению к Рихтеру.
Наумов Л. Под знаком Нейгауза. Беседы с Екатериной Замоториной. М.: РИФ «Антиква», 2002.
Григорий Самуилович Фрид. Дорогами раненой памяти. Воспоминания. - М., 1994.
Walter Moskalev. SVETIK
Алла Рябцова.
Землякам про Святослава Ріхтера.
Житомир, "ПОЛІССЯ" - 2010, 92 с.
Игорь Горин.
"Мне как молитва эти имена От Баха до Рихтера"
Санкт-Петербург, 2007
Джорджио Чеккарелли Пакстон.
Sviatoslav Richter ovvero La purezza della musica (на итальянском языке).
Nuova Tendenze Edizioni 2010.
Д.Дорлиак. «Мимолетности Святослава Рихтера».
ИПЦ «Художник и книга», М.:2005, 106 с.
В.Чинаев.
«Музыка России». Альманах, вып.9.
С.Рихтер
М.: «Советский композитор», 1991, с.107-120.
Андрей Вознесенский.
Андрей Вознесенский. «Мне четырнадцать» (фрагмент)
Юрий Нагибин
Из книги «Вечная музыка».
Московские гнезда. В Нащокинском переулке.
«Ночной Марсель в притоне “Трех бродяг”»
Встречи с Генрихом Нейгаузом
Изд-во ВЗОИ. М.: 2004.
Вера Прохорова
Четыре друга на фоне столетия.
Рихтер, Пастернак, Булгаков, Нагибин и их жены.
Мемуары в письмах и воспоминаниях.
Игорь Оболенский
Пастернак, Нагибин, их друг Рихтер и другие.
Издатель АСТ, 317 с.
Сергей Радченко
«Записки музыканта»
Видавництво Жупанського. Київ: 2012.
Фрагмент из книги.
Екатерина Поспелова
"Что видно с балкона" Сборник рассказов.
Издательство za-za.
Про Святослава Рихтера
фрагмент из книги.
Валентин Семенович Максименко:
«Семья С.Т.Рихтера и Одесса» (Одесса, "Астропринт", 2001, 59 с.),
«Святослав Рихтер. Страницы одесские и не только» (Одесса, "Астропринт", 2003, 207 с).
Карл Расмуссен.
"Святослав Рихтер" (на английском язіке).
Музыкант Рихтер и художник Дронников / [текст И. Потоцкий, Н. Дронников ; рис. Н. Дронников]. - Одесса : Друк, 2008. - 67, [2] с. : ил.
С. С. ПРОКОФЬЕВ И Н. Я. МЯСКОВСКИЙ/ Переписка
ВСЕСОЮЗНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ КОМПОЗИТОР», Москва 1977
Кирилл Виноградов. "У Генриха Густавовича в классе" («Вспоминая Нейгауза», издательский
Дом «Классика-ХХI», 2007),
фрагмент.
Рихтер, Святослав Теофилович (20.3.1915, Житомир, — 1.8.1997, Москва). Русский пианисте немецкими корнями. Детство и юность провел в Одессе, где учился у своего отца, пианиста и органиста, получившего образование в Вене, и работал концертмейстером оперного театра. Свой первый концерт дал в 1934. В возрасте 22 лет, формально будучи самоучкой, поступил в Московскую консерваторию, где учился у Нейгауза. В 1940 впервые публично выступил в Москве, исполнив 6-ю сонату Прокофьева; впоследствии стал первым исполнителем его 7-й и 9-й сонат (последняя посвящена Р.). В 1945 выиграл Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей. С первых же шагов на профессиональном поприще воспринимался как виртуоз и музыкант исключительного масштаба. В 1940—50-х годах власти не выпускали Р. за пределы СССР и стран советского блока; лишь в 1960 он сенсационно дебютировал в Финляндии и США, а в 1961—62 — в Великобритании, Франции, Италии и Австрии. По инициативе Р. были учреждены фестивали Музыкальные празднества в Турени (1964) и Декабрьские вечера (1980), а также музыкальный фестиваль в Тарусе (проводится с 1993). Последние 10-15 лет Р. предпочитал выступать в небольших залах провинциальных городов. Последний концерт Р. состоялся в Любеке спустя 10 дней после его 80-летия.
Для нескольких поколений советских и российских музыкантов и любителей музыки Р. был не только выдающимся пианистом, но и носителем высочайшего артистического и нравственного авторитета, олицетворением современного универсального музыканта-просветителя. Огромный репертуар Р., расширявшийся вплоть до последних лет активной жизни, включал музыку разных эпох, от «Хорошо темперированного клавира» Баха и сюит Генделя до Концерта Гершвина, Вариаций Веберна и «Движений» Стравинского. Во всех репертуарных сферах Р. проявил себя как уникальный художник, сочетающий абсолютную объективность подхода к нотному тексту (тщательное следование авторским указаниям, уверенный контроль над деталями, избегание риторических преувеличений) с необычайно высоким драматическим тонусом и духовной сосредоточенностью интерпретации. Высшие достижения Р.-солиста связаны с музыкой особенно любимых им Гайдна, Шуберта, Шопена, Дебюсси и Прокофьева, а также Моцарта (отдельные концерты и сонаты), Бетховена (1-й и 3-й концерты, ряд сонат, 15 вариаций с фугой Е-dur, «Диабелли-вариации»), Шумана (Концерт, «Абегг-вариации», Токката, «Симфонические этюды», Фантазия, Юмореска, «Ночные пьесы», «Венский карнавал», различные миниатюры), Листа (оба концерта, некоторые этюды, Соната Н-moll и др.), Брамса (2-й концерт, сонаты, вариации, поздние пьесы), Мусоргского (непревзойденные «Картинки с выставки»), Равеля, Бартока (2-й концерт), Шимановского, Хиндемита, Шостаковича (прелюдии и фуги). Присущие Р. обостренное сознание ответственности перед искусством и способность к самоотдаче проявились и в его особой приверженности к ансамблевому исполнительству. На раннем этапе карьеры Р. его основными ансамблевыми партнерами были пианист, ученик Нейгауза Анатолий Ведерников (1920-1993), певица Нина Дорлиак (сопрано, жена Р., 1908-1998), скрипачка Галина Баринова (1910-2006), виолончелист Шафран, с 1949/50 до конца 1960-х — Ростропович (их в своем роде совершенная, подлинно классическая совместная работа — все виолончельные сонаты Бетховена). В 1960-х Р. выступал в фортепианном дуэте с Бриттеном, исполняя не только его музыку, но и произведения Моцарта, Шуберта, Шумана, Дебюсси. Среди певцов, которым он аккомпанировал в 1960-80-х, — Фишер-Дискау («Прекрасная Магелона» Брамса, песни Шуберта и Вольфа) и Шрайер («Зимний путь» Шуберта). В 1966 началось содружество Р. и Ойстраха; в 1969 они осуществили премьеру Скрипичной сонаты Шостаковича. Р. был частым партнером Квартета им. Бородина и охотно сотрудничал с музыкантами более молодого поколения, в т. ч. с Каганом, Леонскои, Гутман, Башметом, Кочишем, пианистами Василием Лобановым (р. 1947) и Андреем Гавриловым (р. 1955). Искусство Р. как солиста и ансамблиста увековечено в огромном количестве студийных и концертных записей, сделанных с 1946 по 1994.
Лит.: Б. Монсенжон. Рихтер. Диалоги. Дневники (М., 2002),
Ю. Борисов. По направлению к Рихтеру (М., 2003);
Чемберджи. О Рихтере его словами (М., 2004);
Святослав Рихтер «О музыке» (М., 2007).

Аджемов К. Незабываемое. М.: Музыка, 1972. С. 88-103.
Святослав Теофилович Рихтер
Осенью 1937 года в Московской консерватории заговорили об исключительно одаренном пианисте, поступившем в класс Нейгауза. Он удивил взыскательных профессоров исполнением таких сложнейших сочинений, как соната Бетховена соч. 101 и Четвертая баллада Шопена.
Святославу Рихтеру было тогда 22 года. Он приехал из Одессы, где талант его формировался под руководством отца. Как-то в перерыве между лекциями в толпе молодежи, заполнявшей площадки учебного корпуса консерватории, мне впервые встретился этот обаятельный молодой человек. Высокий, стройный, порывисто устремленный, он легко сбегал по лестнице, беседуя с товарищами. С первого взгляда запомнилось его лицо — высокий лоб, приветливая улыбка. Невольно я остановился, чтобы приглядеться к этому интересному человеку. Но Рихтер проскользнул мимо меня так же стремительно, как появился.
Уже в годы учения Рихтер выделялся незаурядными познаниями в области музыки и музыкальных стилей. Помнится, на вопрос одного своего сверстника о темах струнных квартетов Бетховена (обычно пианисты не слишком хорошо знакомы с квартетной литературой) Рихтер сразу же напел эти темы...
Выступления молодого музыканта на студенческих вечерах класса Нейгауза приносили ему все новый и новый успех. Очень интересно играл он Фантазию Шумана, сонату Листа, прелюдии Рахманинова. Не только музыканты откликались на эти выступления. Как-то профессор Цинговатов, известный литературовед, приглашенный в консерваторию вести курс русской литературы для аспирантов, рассказывал о впечатлении, произведенном на него игрой молодого Рихтера. Цинговатов несколько раз повторил: «Святослав всех заслонил, он выше всех пианистов. Я все понимаю, когда слушаю его, даже самые сложные построения звуков».
Любя театр, я не раз встречал Рихтера на спектаклях. Хотелось познакомиться с ним. Однажды мы оказались вместе в очереди, выстроившейся у театра Вахтангова, где труппа Малого театра выступала с инсценировкой «Евгении Гранде» Бальзака. «Сколько в этом человеке внутреннего изящества, как содержателен он», — подумалось мне после нескольких фраз, которыми мы обменялись.
В конце 1940 года Московская филармония привлекла Рихтера для участия в концертах. Помню, что при первом своем выступлении с симфоническим оркестром в Большом зале Московской консерватории, пианист играл си-бемоль- минорный концерт Чайковского. Масштабность, сила, властность в состязании с оркестром вызвали в аудитории чувство восторга перед солистом. Многие уже слышали о молодом питомце Нейгауза и спешили друг перед другом выразить восхищение засиявшим новым ярким: талантом.
«Действительно, какая силища в этом музыканте», — думалось мне. Возникали и критические замечания. Мне казалось, что кантилена у пианиста суховата, а звучанию недостает тембрального богатства, широты палитры, которыми чаровали нас в то время Софроницкий, Игумнов, Нейгауз. Звуковая сторона игры Рихтера далека от совершенства, но странно — это не влияет на силу воздействия его исполнения. ..
Впоследствии долгое время это ощущение не покидало меня.
Ближе познакомились мы в годы войны. Рихтер оставался в Москве и часто выступал на радио. Из редакции музыкального вещания, где я работал, звонили Нейгаузу, в квартире которого Рихтер часто бывал, а то и жил. Святослава Теофиловича просили сыграть Бетховена (к примеру, двухчастную сонату соч. 90, «укладывавшуюся» в четырнадцать минут, отведенные для музыки); или Чайковского (Большая соната), Листа (этюды высшего исполнительского мастерства, ноктюрн, фрагменты из «Годов странствий»); или Шопена, Шумана, Рахманинова. Играл он всегда с неподдельным горением, как-то значительно. Даже в тех случаях, когда в программу включалось сочинение не из ранга шедевров, пианист достигал высокой художественности. Не забыть трогательно-взволнованного исполнения Рихтером ми-минорной сонаты Грига. Эту передачу слушал А. Ф. Гедике — поклонник творчества норвежского композитора: «Слава-то как сыграл сонату Грига — поэзия!»...
Принял участие Рихтер в исторически памятном концерте, состоявшемся в канун 7 ноября 1941 года после торжественного заседания в честь 24-й годовщины Октября. Заседание и концерт проходили в помещении станции метро «Маяковская» (немецкие войска находились в непосредственной близости от Москвы). Пели ведущие солисты Большого театра, среди инструменталистов был Рихтер.
В Колонном зале Дома Союзов Всесоюзное радио проводило открытые концерты, транслировавшиеся по основной программе. Наряду с известными артистами в них принимали участие и молодые музыканты. Как-то Рихтер выступил в концерте цикла «Мастера искусств» с нежно-печальным си-минорным вальсом Шопена и бурно-стремительной тарантеллой Листа «Венеция и Неаполь». Публика восторженно встретила пианиста. Меня поразила целеустремленная подготовка Рихтера к этому выступлению. Не обращая внимания на окружавших, в артистической, заполненной служащими Колонного зала, артистами, редакторами, пианист разыгрывался перед выходом на эстраду, повторяя отдельные трудные куски из «Симфонических этюдов» Шумана. Многие с удивлением переглядывались, но не роптали — столько непосредственного горения было в этом разыгрывании Рихтера.
В Колонном зале пианист неоднократно выступал в годы войны и позже с фортепианными концертами. Особенно ярко, помнится, прозвучали у него Первый концерт Чайковского в ансамбле с Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио под управлением Константина Иванова и Второй концерт Рахманинова в программах Голованова. В другой раз он играл Первый концерт Прокофьева, играл с огромным подъемом, безраздельно захватив публику. Слушатели не хотели отпустить пианиста с эстрады и аплодировали так долго, что нарушили хронометраж передачи; трансляцию произведений, следовавших по программе вслед за прокофьевским концертом, пришлось отменить. Редакция получила тогда не одно письмо с выражением благодарности пианисту; многие просили повторить концерт.
Как-то, готовя очерк о Рихтере, мы попросили пианиста рассказать о себе. Ему явно не хотелось давать интервью, но все же несколько скупых слов он тогда произнес...
Его родина — Украина, город Житомир.
С первых лет сознательной жизни он потянулся к искусству, к нотам, к книгам. Восьми лет начал сочинять пьески для фортепиано, рисовал, много читал. Проигрывал клавиры опер, мечтая стать оперным дирижером. Пятнадцати лет поступил в кружок оперной самодеятельности при Одесском клубе моряков, разучивал оперные партии с участниками кружка. По окончании школы был принят в Одесский театр оперы и балета концертмейстером, работал с дирижером С. А. Столерманом. Он продолжал также свои фортепианные занятия. Первое выступление Рихтера в Одесском клубе инженеров с исполнением шопеновской программы определило его дальнейший путь.
«А потом я приехал в Москву и поступил в класс Генриха Густавовича Нейгауза», — закончил свой краткий рассказ Рихтер...
Первые же сольные выступления Рихтера в Москве привлекли к его искусству самую широкую аудиторию. Особенно запомнилось мне вдохновенное исполнение Седьмой сонаты Прокофьева, сыгранной пианистом в начале 1943 года (он явился первым исполнителем этого выдающегося сочинения). В сороковых годах Рихтер предпринял свою первую концертную поездку, выступив с клавирабендами во многих южных городах страны.
По окончании Великой Отечественной войны в 1945 году состоялся Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей.
В заполненном до отказа Малом зале консерватории слушали пианистов. Жюри, как обычно, располагалось на балконе. В партере можно было увидеть немало известных музыкантов. Тон, как всегда, задавала звонкоголосая молодежь.
Помню особую настороженность публики перед выступлением Рихтера. Он заметно волновался. Неожиданно погас свет. На эстраду вынесли свечи. Рихтер весь отдался музицированию. Он играл две прелюдии и фуги из первого тома «Хорошо темперированного клавира» Баха — до-диез-мажорную (третью) и си-минорную (двадцать четвертую). Прозрачная ткань до-диез мажорной прелюдии, радостное движение фуги, подобное светлому хороводу трех голосов... Но вот началась торжественно-скорбная си-минорная прелюдия и фуга — самая протяженная пьеса баховского цикла, бескрайняя по дыханию, философски значительная. Неторопливо раскрывалась гениальная музыка, в служителе которой каждый присутствовавший чувствовал человека высокой души и сердца... Исполнение запомнилось навсегда.
Когда много лет спустя мне довелось увидеть Кёльнский собор, по ассоциации с этим чудом готики вспомнилось мгновение, о котором я пишу, — Рихтер играет си-минорную прелюдию и фугу Баха...
Столь же исключительной, хотя совсем иной по звучанию, оказалась передача Рихтером этюда Листа «Дикая охота». Здесь перед нами был исполнитель-титан, казалось созданный для воплощения могучей романтической фрески. Предельная стремительность темпа, шквалы динамических нарастаний, огненный темперамент... Хотелось схватиться за ручку кресла, чтобы устоять перед дьявольским натиском этой музыки...
На третьем туре в Большом зале консерватории Рихтер исполнил Первый концерт Чайковского. Это было 29 декабря 1945 года. Искусство пианиста было отмечено Первой премией[1]. Успех был огромный. А. В. Нежданова находилась в числе членов жюри конкурса. «Я бы особую сверхпремию присудила Рихтеру. Слушаю его и вспоминаю Сергея Васильевича Рахманинова», — говорила Нежданова.
С тех пор каждое выступление Рихтера неизменно превращается в художественное событие, увлекающее широчайшую аудиторию. Уже три десятилетия мы слушаем пианиста. Все новые и новые образы присоединяются к галерее рихтеровских созданий (к счастью, очень многие исполнительские шедевры пианиста увековечены звукозаписью).
На первых же порах интенсивной концертной деятельности Рихтера отчетливо проявилось направление его творчества — музыкальное просветительство. Опираясь на свой могучий талант и феноменальную память, он не знает пределов расширению репертуара. С поистине сказочной быстротой подготавливает к исполнению все новые и новые программы. Особый секрет дарования Рихтера заключается в умении самое сложное сделать доступным восприятию широчайших кругов. Здесь ведущее место в его искусстве занимает интеллект, точность и четкость артистических концепций, стремление к наибольшей ясности трактовки.
«Как все ясно, когда играет Рихтер. Он мне, немузыканту, раскрывает тайны композиции и делает понятным все развитие», — говорит один из горячих почитателей пианиста художник В. Н. Горяев...
Искусство Рихтера подлинно демократично. Он не снижает требований к слушателю, обращаясь к нему как к равноправному участнику музицирования, не развлекая его, не подлаживаясь и не заискивая.
Уже в первых концертах, если программа была насыщенной, требовавшей большой сосредоточенности и внимания аудитории, Рихтер не играл на бис. Вовсе не исполнялись им пьесы бравурного стиля, широко бытовавшие тогда в концертах пианистов, — ни рапсодии Листа, ни вальсы Штрауса, ни полька Рахманинова, ни «Наварра» Альбениса.
С первых же шагов своей артистической жизни Рихтер сторонится транскрипций, считая, что подлинник всегда выше переложения. На моей памяти он лишь дважды «нарушил» это правило, сыграв как-то «Лесного царя» Шуберта—Листа, а в более поздние годы — вальс Золушки и Принца из балета Прокофьева.
Даже искушенных музыкантов Рихтер постоянно знакомит с целым рядом сочинений, десятилетиями не звучащих в концертных залах. Многие из них незаслуженно забыты, другие слывут невыигрышными для исполнения. Но странное дело — прикосновением таланта Рихтера они возвращаются к жизни. Им благоговейно внимает современный слушатель. Много-много навсегда, казалось, умолкнувших сочинений пробуждено артистом: фа-диез-минорная соната Брамса, ре-минорная соната Вебера, «Раздумье о мертвых» и «Серые облака» Листа, концертштюк и марши Шумана, «Джинны» Франка, концерт Дворжака, целый ряд опусов Шуберта, Чайковского, Глазунова. ..
Не забыть, как однажды в конце сезона в Малом зале консерватории, пианист играл .совершенно незнакомое тогда у нас обаятельное сочинение Пуленка «Aubade» — «Утреннюю серенаду» — в ансамбле с восемнадцатью оркестрантами. В другой раз, выступая в зале имени Чайковского, Рихтер открыл нам Второй фортепианный концерт Бела Бартока. Играл его с покоряющей силой.
Не раз приходилось удивляться творческой смелости артиста. Однажды Рихтер пригласил меня на концерт для студенческой аудитории в только что тогда законченном новом здании Московского университета на Ленинских горах. Пианист наметил для встречи с молодежью отнюдь не облегченную программу — «Серьезные вариации» Мендельсона, сонату ля мажор Шуберта (соч. 120) и Восьмую сонату Прокофьева.
В большом актовом зале собралось несколько сот студентов. Судя по разговорам окружавших меня молодых физиков и математиков, я понял, что они отнюдь не завсегдатаи клавирабендов. Лишь авторитет Рихтера привлек их на этот вечер. Как они будут слушать?
Зал притих, когда на эстраду быстрым шагом вышел концертант. Начались «Серьезные вариации». Дивная, такая человечная ре-минорная тема, порывы чувства, лиризм песенной вариации, ре-мажорпый хорал с его торжественным, как будто органным звучанием, трепетные заключительные страницы.
Рихтер создал свой неповторимый стиль исполнения Шуберта. Целый цикл сочинений венского гения в его интерпретации явился в свое время подлинным откровением и пробудил повсеместно широкий интерес к шубертовскому фортепианному наследию. В тот вечер он играл студентам поэтичную ля-мажорную сонату. Искренний лиризм, неясные порывы души, нежная печаль и безудержное веселье...
Соната Шуберта особенно понравилась молодежи. Хорошо помню радостное возбуждение публики, горячо благодарившей пианиста. Когда же во втором отделении Рихтер играл Восьмую сонату Прокофьева — произведение куда более сложное для восприятия, чем пьесы Мендельсона и Шуберта, — аудитория внимала артисту с полным доверием. После концерта Рихтер, как обычно, строжайшим образом оценивал свое исполнение. Далеко не все удалось ему, как он того хотел. Критиковал акустику зала, не предназначенного для концертных выступлений...
«А знаете, как слушали! Как непосредственно выражали свою оценку музыки. Это дорогого стоит», — заметил я.
В другой раз я присутствовал на концерте Рихтера в Доме Советской Армии, где перед внимательной аудиторией офицеров пианист, среди других сочинений, играл си-минорную сонату Листа. Как его слушали, как благодарили! Сколь многие, верю, после того вечера почувствовали величие и красоту музыки, потянулись к ней... Нет числа подобным выступлениям Рихтера, подтверждающим высказанную выше мысль о подлинно демократической направленности его искусства.
Одна из содержательных глав в жизни пианиста — его концерты в небольших городах. Я слышал восторженные рассказы о рихтеровских вечерах в Орле, в Калинине. Я знаю о сотнях писем, отзывов, откликов, дарственных надписей, адресов...
Знакомо мне и такое глубоко символичное приветствие, напоминающее о значении деятельности нашего артиста за рубежом. Гастролируя в 1961 году во Франции, Рихтер был приглашен в Ниццу для участия в празднествах в честь восьмидесятилетия Пабло Пикассо. Во Дворце спорта состоялся торжественный концерт. Пианист играл одно из своих любимых сочинений — Шестую сонату Прокофьева. На следующее утро во время встречи с артистами прославленный художник горячо благодарил нашего пианиста, поцеловал его и тут же на пригласительном билете набросал голубя (символическое изображение Пикассо голубя мира — целая эпоха в жизни искусства XX века), надписав: «Великому Рихтеру». Это было уже в тот период, когда Рихтер начал широко концертировать, объездив многие страны и города Европы, Азии, Америки.
B течение нескольких лет — с середины сороковых и в начале пятидесятых годов — мы ежедневно встречались со Святославом Теофиловичем, живя в одном и том же подъезде старого дома На Арбате. Рихтер соединил свою жизнь с другом моей молодости певицей Ниной Дорлиак. Святослав Теофилович был для меня и моей семьи просто Славой.
В маленькой квартире было тесно. Старая мебель. Стены увешаны портретами и семейными фотографиями. На книжных полках старинные издания. Русские классики. Много французских книг.
Около кабинетного рояля «Беккер» накопилась масса нот. Ноты и на пюпитре, и на закрытой крышке рояля. Окна двух небольших комнат глядят на старый арбатский двор, известный по знаменитой картине Поленова «Московский дворик». В нем сохранилась и старая церковка, и барский дом с мезонином, и старинные ворота.
В утренний час я захожу сюда. Рихтер еще не вставал. Он отдыхает после ночных занятий (Елена Фабиановна Гнесина разрешила пианисту работать в Институте имени Гнесиных сколько угодно в ночные часы, когда никто ему не будет мешать).
«Костя, послушайте, как шумно сейчас вокруг нас». Мы умолкаем. Действительно, отовсюду несутся звуки: захлопнулась дверь, кричат во дворе, из растворенных окон слышны голоса, радио доносит музыку...»
«А ночью — полнейшая тишина. Ничто, ничто не мешает». Выражение его лица вдумчиво-сосредоточенное. Оно совсем обычное — крупное лицо простого человека от земли. Вблизи вижу удивительные руки, огромные, тоже «от земли». Эти руки могут делать все — сильные, слаженные, настолько выразительные, что ими нельзя не любоваться. В них мощь и одновременно мягкость.
В то утро мы беседовали о литературе. Рихтер рассказывает о прочитанном романе Теккерея «Генри Эсмонд» — какая трогательно-прекрасная книга! Дает мне ее, велит не откладывая познакомиться с этим не столь известным сочинением английского писателя. Сожалеет, Что мало времени остается для чтения. Я знаю — он всегда желает самого полного общения с художественным явлением. Его мечта — прочитать все тома «Человеческой комедии» Бальзака. Слушая его, обнаруживаю, что знаю всего три-четыре романа из гигантской эпопеи.
Рихтер протягивает мне альбом, посвященный Эль Греко, говорит о своем увлечении художником. Какое гениальное мастерство композиции... Всматриваюсь в удлиненные лица, в глубину почти всегда грустно-сосредоточенных взоров. Краски Эль Греко даже в репродукции воздействуют как манящая сила жизни.
Часто при встречах с Рихтером мне вспоминались «Разговоры Эккермана с Гёте». Писатель призывал вновь и вновь смотреть картины больших мастеров (пусть в репродукции), чтобы поддерживать в себе чувство красоты. Не раз Рихтер дарил нам репродукции и фотоснимки картин старых итальянских мастеров, Дюрера и Кранаха, французских художников. Среди реликвий моего дома — подаренная им однажды замечательно выполненная репродукция картины Ренуара «Ложа».
Действительно, сколько в мире прекрасного, к чему человек должен идти повседневно, что он может узнать, а узнав, лучше творить, глубже чувствовать жизнь. Почти всегда думалось об этом после встреч с Рихтером.
Я знал, что пианист серьезно увлекается живописью и что сам он пробовал писать. Однажды попросил Рихтера показать его опыты.
Среди увиденных набросков и картин есть такие, которые запоминаются. Пристальный взор этого тонкого любителя улавливает в окружающей нас жизни много прекрасного и волнующего. Особенно удаются художнику картины природы и индустриальный пейзаж. Он видит его, чувствует его пульс и умеет по-своему передать.
Исключительная деликатность присуща Рихтеру. Она связана с какой-то замкнутостью и даже застенчивостью. Богатейший внутренний мир этого человека таится глубоко. У него всегда своя дума, свое затаенное.
Доброжелательно относится он ко многому в живописи, литературе, музыке. Слушая своих коллег, он нередко хвалит пианистов, которые отнюдь не симпатизируют ему самому. В этом сказывается объективность суждений музыканта. Но восторженный отзыв можно услышать от него очень редко. В этих случаях он употреблял немецкое слово «echt» (подлинно). Раз это было после «Сказа о каменном цветке» Прокофьева, другой — после фильма Феллини «La strada» («Дорога»)...
Как-то пианист высказал глубоко проницательное суждение о путях развития исполнительского искусства. Разговор зашел об одном высокоодаренном молодом пианисте, пленявшем лиризмом и импровизационно-свободной фразировкой в произведениях Шопена. Рихтер, ценя дарование юноши, отмечал, однако, что в наше время одни лишь эти качества не сформируют концертирующего артиста. Он говорил о необходимости уверенно-точного мастерства, некоей безотказности техники, без которой даже для высокоодаренного музыканта ныне большая эстрада немыслима. Сам Рихтер не раз сетовал, что он поздно пришел к роялю, к решению стать пианистом-концертантом. Это определило немалые трудности формирования его мастерства.
Работоспособности Рихтера нельзя было не удивляться. Помимо ночных занятий в Институте имени Гнесиных он много играл у преданной ему художницы А. И. Трояновской в Скатертном переулке. На Арбате мы также постоянно слышали, как Рихтер бесконечно отшлифовывал отдельные пассажи. Через этаж доносились к нам фрагменты из концертов Брамса и Рахманинова.
Слушая затем эти концерты с эстрады, невозможно было представить себе многотрудную, повседневную работу артиста. Казалось, что все выходит само собой, огромный подготовительный труд растворялся в совершенном владении сочинением. А ведь часто Рихтер бывал крайне неудовлетворен своей игрой, даже, казалось, терял веру в себя. В такие периоды он становился сумрачно-отрешенным, скрывался ото всех. К счастью, подобная депрессия проходила, и пианист снова погружался в напряженную работу.
Истинной радостью было слышать Рихтера в домашнем кругу. Так, однажды он сыграл для гостей Вторую сонату Шимановского — сочинение, только что им тогда разученное. Играл, как будто творя музыку, слушая и заставляя слушать каждый штрих сложной фактуры. В другой раз пианист познакомил со своей очередной работой, которую готовил длительное время. Это были прелюдии и фуги Шостаковича. Поразили ясность голосоведения, удивительное ощущение времени в протяженных разработках, тембральные противопоставления звучания... Когда Рихтер впервые исполнил прелюдии и фуги в Малом зале консерватории, его выступление было воспринято как откровение. Впоследствии пианист не раз исполнял их в своих зарубежных гастролях и тем самым открыл миру это выдающееся сочинение Шостаковича.
Вспоминается вечер, когда Рихтер играл своим гостям Дебюсси и Шопена. При звуках «Колоколов сквозь листья» нас словно окутала прозрачная пелена, все стало красивее, светлее, и долго еще, когда пьеса уже отзвучала, оставалось обаяние настроения. В той же интимной манере играл Рихтер баллады Шопена... Когда впоследствии французские газеты восторженно описывали концерт нашего пианиста в Париже, в обстановке, воссоздававшей музыкальные вечера эпохи Шопенa, — при зажженных свечах и в окружении зелени — вспомнилось это музицирование Рихтера, игравшего Шопена своим друзьям.
В более поздние годы пианист дополнял живое музицирование звукозаписью. Сколько интересных записей предлагал он нашему вниманию! Особенно запомнились вечера, когда нам открылось искусство Дитриха Фишера-Дискау — исполнителя Шуберта. Бархатно-теплое звучание баритона, проникновение в самый дух шубертовского мелоса, тончайшее мастерство легато и интонирования, когда мелос и слово неразрывны... (Впоследствии Рихтер составил ансамбль с этим изумительным немецким певцом.) Услышали мы однажды и запись обоих концертов Листа в исполнении самого гостеприимного хозяина и оркестра Лондонской филармонии под управлением К. Кондрашина. Запись эта — одна из самых прекрасных в фонотеке пианиста.
Как-то мы с Рихтером слушали радиокомпозицию по «Летописи моей музыкальной жизни» Римского-Корсакова. Читал артист театра имени Вахтангова Лев Снежницкий. По ходу чтения звучала музыка. Студентки консерватории исполнили четырехручную сонату Мусоргского. Рихтер насторожился. Он не слышал ранее эту сонату и нашел сочинение симпатичным. Далее следовали сцены из «Псковитянки». С наслаждением внимал этой музыке Рихтер. Он знал оперу отлично. Ведь дирижерская деятельность в области оперного искусства была мечтой его юности, когда он работал концертмейстером одесской оперы. С юных лет накапливались его знания оперной литературы. В тот вечер, слушая «Псковитянку», мы прониклись эпическим духом оперы и, благодаря Рихтеру, лучше вслушались в музыку. Он оживленно пояснял, словно сам участвовал в исполнении.
Несколько лет спустя мы встретились в Большом театре на спектакле Латвийского театра оперы и балета «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Вновь я был поражен тем, как глубоко знает Рихтер партитуру этой оперы-легенды. После длительного перерыва «Китеж» впервые звучал в Москве, многое в постановке казалось примитивным, но в целом звучание оперы захватывало. Каждое замечание Рихтера было удивительно верным и основывалось на глубоком почтении к гениальному созданию Римского-Корсакова. Ему хотелось наибольшей точности. Он не прощал поверхностного переосмысливания содержания, тем более купюр.
Встречал я Рихтера и на «Сказке о царе Салтане», и на «Снегурочке».
Когда пианист исполняет фортепианный концерт Римского-Корсакова (отнюдь не лучшее его сочинение), все понимание и глубокое знание оперного (да и не только оперного) творчества композитора своеобразно сказывается на интерпретации, неизменно захватывающей аудиторию. Со временем я понял: Рихтер всегда тщательно, досконально изучает каждое исполняемое им сочинение, но при этом стремится к самому широкому охвату творчества данного композитора. Это помогает ему овладеть истоками стиля автора и добиться удивительной органичности интонирования.
Подобное же чувство возникает при слушании «Картинок с выставки» Мусоргского. Рихтеровское исполнение этого Сочинения буквально гипнотизирует образностью, масштабностью. Ничего не изменяя в теисте Мусоргского, пианист сообщает фортепианному звучанию многокрасочность симфонической палитры, фразировка же своей выразительностью приближается к произносимому слову (и в «Старом замке», и в «Двух евреях», и в эпизоде «С мертвыми на мертвом языке»). Не раз присутствуя при триумфальном исполнении «Картинок», я понимал, что талант и фантазия Рихтера и в данной интерпретации дополнены глубочайшим знанием творчества автора «Бориса Годунова» и «Хованщины».
Страстно любя музыкальный театр, Рихтер никогда не переставал обогащать свое знание оперной музыки. Помню, как однажды (это было в апреле 1957 года) он пришел в Большую студию Дома звукозаписи, когда давалась «Электра» Рихарда Штрауса в трансляционной записи, полученной с 1 фестиваля «Флорентинский май». Опера исполнялась под управлением известного греческого дирижера Димитри Митропулоса.
В антракте я подошел к уважаемому гостю. Он был возмущен моим редакторским упущением. «Как можно давать эту запись, со столькими исполнительскими изъянами, вступают не вместе, поют неточно — это ужасно»... Я был смущен. Доверившись имени Митропулоса, включил запись в программу, не прослушав ее предварительно. Уже после этого вечера, сверяя исполнение с клавиром и отдавая себе отчет в неудовлетворительном исполнении, я понял справедливость разгневанности Рихтера.
Еще одно сильное впечатление навсегда связано для меня с искусством Рихтера. В день памяти глубокочтимой Ксении Николаевны Дорлиак — матери Н. Дорлиак — он для узкого круга друзей и знакомых покойной певицы исполнил по клавираусцугу музыкальную драму Вагнера «Парсифаль». В отдельных эпизодах к Рихтеру присоединялась на другом рояле пианистка Вера Шубина — друг семьи Дорлиак.
Комната погружена в полумрак. С первых же звуков вступления Рихтер заставляет услышать вагнеровский оркестр, а далее голоса действующих лиц, развитие драмы.
Исполнение возвышенно, строго, прекрасно.
Несколько часов, затаив дыхание, мы внимали этим волшебным звукам...
Пусть у читателя не сложится впечатление, что всегда и все выступления Рихтера оставляли подобное неизгладимое ; впечатление.
Труден путь артиста, и неминуемы неудачи, срывы. Нередко Рихтер играл далеко не в полную меру своего таланта, был перенапряжен, а то и как будто чрезмерно рассудочен.
Однажды в конце сезона, крайне утомленный беспрерывным концертированием, он играл в Малом зале консерватории «Прелюдию, хорал и фугу» Франка. Остановился и не смог закончить фугу. В другой раз неудачно сыграл «Мефисто-вальс» Листа, и лишь повторив пьесу на бис добился желаемого.
Я говорил об упорной работе пианиста над мастерством. Звуковая сторона игры лишь со временем приобрела в его искусстве то совершенство, которое ныне покоряет. То же относится к целому ряду иных моментов. Только длительный труд позволил пианисту блистательно играть многие этюды Шопена, хотя уже в начале своей деятельности он феноменально исполнял такие труднейшие пьесы, как Первый этюд Шопена или «Блуждающие огни» Листа. Сегодняшнюю идеальную выровненность мелкой техники (каждая нотка нежно звенит!) Рихтер тоже завоевывал годами труда. Певучесть мелкой техники, переливчатость и звонкость сообщают особое обаяние его интерпретации произведений Гайдна и Моцарта.
Еще в сороковых годах Рихтер полагал, что неминуем ренессанс старинной музыки, что
богатейшие сокровища инструментальной и вокальной музыки доромантической эпохи ждут своего нового рождения. Сам артист особенно большое внимание уделил Гайдну. Его исполнение цикла сонат Гайдна в пятидесятых — начале шестидесятых годов напомнило не только о красотах полузабытой музыки, но и о философской направленности творчества венского классика, воспевавшего чистоту человеческой души, искренне-наивную веру в преобразующую силу природы. Слушая сонаты Гайдна в целомудренно-бережной трактовке Рихтера, я неизменно тянулся к Руссо.
В более поздний период Рихтер стал особенно часто исполнять многие сонаты и концерты Моцарта. На родине композитора, в Зальцбурге, где я побывал в 1966 году, музыканты в один голос говорили, что Рихтер — самый правдивый и подлинный толкователь Моцарта.
Между концертами и упорным трудом пианист отдыхал, умел отвлекаться от напряженной работы. Еще в пятидесятых годах в цветущую пору весны и лета он задумал обойти окрестности Москвы на расстоянии нескольких десятков километров от города, очертить кольцо, начав его в одном месте, и после ряда переходов вновь вернуться к тому же месту с другой стороны.
О том, что Рихтер неутомимый ходок, было известно. Однажды, рассказывая ему о своем путешествии в Сванетию, я описывал трудную поездку на грузовике по Ингурской тропе от Зугдиди до Местии. Он слушал мои описания кавказской природы и так непосредственно заметил: «Зачем же на грузовике! Пешком нужно пройти, чтобы все увидеть». Сам он, живя в Гурзуфе, исходил немало крымских дорог.
Одно из звеньев подмосковного кольца мы прошли втроем — Рихтер, певец Олег Шумов и я. По Рижской дороге доехали до станции Павшино. Лодочник перевез нас на другой берег реки, и мы пустились в путь. Рихтер был хозяином группы, точно знал направление пути, всем распоряжался.
Он наслаждался открывшимися далями полей, жадно впитывал воздух, напоенный цветущими травами... По дороге мы осмотрели заброшенную церковку, шли опушками лесов, поднимались на холмы, спускались в долины. Говорили, а больше молчали, радуясь приволью. Через несколько часов пришли в район Крылатского, и когда подходили к автобусной остановке, Рихтер с нескрываемым сожалением остановил нас. Ему хотелось еще идти, не расставаться с природой.
Так же интересно было |на Истре, в одном из живописных уголков Подмосковья, где Рихтер отдыхал летом 1953 года. Он был в приподнятом настроении. На тенистой веранде читал гостям прозу Пастернака, рассказывал о творческих планах (то был период его влюбленности во Второй концерт Прокофьева), а затем повел нас по своим любимым тропам. Мы шли, завороженные лесом, светлыми полянами, пением птиц, теплым дыханием лета. Наш поводырь был предан этой природе всей силой души. Он подсмотрел эти уголки леса, эти тропки и открыл их своим друзьям. И все это было без доли позирования — естественно, как сама природа.
И в городе Рихтер умел отключаться от напряженности творческого труда. То ему приходила затея сыграть в домашней обстановке собственную пьесу, написанную еще в детские годы, то организовывались шарады и игры, неизменно увлекавшие гостей и самого хозяина, то устраивался шутливый маскарад... Но кончались эти недолгие интермеццо, и вновь Рихтер включался в труд.
С годами в искусстве Рихтера все отчетливее проявляется организующая сила ума, подчинение всех компонентов исполнительского творчества концепции. Пианист научился сдерживать свой огромный темперамент. Мысль — пытливая, значительная — руководит его исканиями.
Так, в новом исполнительском варианте Рихтер интерпретировал целый ряд сочинений своего репертуара. Многое в его трактовке поражало необычностью (например, очень медленный темп при исполнении отдельных частей бетховенских сонат). Одной из вершин его художественных исканий стало покорившее весь мир исполнение си-минорной сонаты Листа.
Многочисленные выступления пианиста с исполнением Первого концерта Чайковского под управлением разных дирижеров также демонстрируют все более ослепительное мастерство. В 1959 году он записал Первый концерт Чайковского в сопровождении оркестра Ленинградской филармонии под управлением Е. А. Мравинского. Эта запись — одна из лучших в фонотеке, посвященной искусству артиста. Но Рихтер продолжал совершенствовать исполнение концерта Чайковского. Запись этого сочинения в ансамбле с Венским филармоническим оркестром под управлением Герберта Караяна не повторяет знакомой трактовки. В этой записи ярко отражена упомянутая особенность, столь отличающая исполнение нашего артиста в последние годы — тяготение к медленным темпам. Непривычно замедленный темп на протяжении почти всего концерта сообщает развитию подлинную грандиозность. Во многих эпизодах переосмыслено интонирование. Каждое высказывание пианиста связано с высокой душевной настроенностью. Мы вслушиваемся в знакомое сочинение и, кажется, впервые «дослушиваем» каждый звук полностью. Фактура сочинения раскрывается объемно и ясно. Эта трактовка — результат длительных художественных исканий Рихтера. Слушая запись, нетрудно уловить особенность, присущую ныне Рихтеру, — склонность к предельному расширению исполнительского времени, при котором как бы укрупняется значение каждого нюанса, каждой интонации и в итоге всего содержания сочинения. В этом отношении искусство нашего пианиста сближается со школой выдающихся немецких дирижеров XX века. Апофеоз медленных темпов сообщает особую значительность музыкальному повествованию, развитию, выявлению музыкальной мысли.
Трудно представить, сколь популярен Святослав Рихтер во всем мире, как тянутся люди к его искусству.
Будучи однажды с группой советских туристов во Флоренции, я стал свидетелем курьезной сцены. Услышав русскую речь, одна пожилая женщина устремилась к нам с расспросами о нашем артисте. Будет ли он концертировать в Швейцарии — она заказала билет на его концерт в Женеве, так как в Италии не может попасть на выступления пианиста. А в Монте-Карло руководитель театра рассказывал о повышенном интересе публики к концертам Рихтера. «На этой сцене выступал Шаляпин, теперь будет Рихтер».
Как гордятся этой славой пианиста те, кто с первых шагов поверил в исключительность его таланта, кто помнит выступления молодого Рихтера с «Хорошо темперированным клавиром», кто присутствовал при его ослепительном исполнении концертов, «Годов странствий», этюдов высшего исполнительского мастерства и «Мефисто-вальса» Листа, цикла бетховенских сонат и вариаций, сонат Шуберта, Фантазии, концерта и фортепианных циклов Шумана, сочинений Брамса, Равеля, Дебюсси, Рахманинова; те, кому навсегда памятны вокальные вечера тонкого художника Н. Дорлиак в ансамбле с пианистом; те, кто слушал первое исполнение посвященной ему Девятой сонаты Прокофьева и других сочинений его любимого композитора. Всего не перечислишь.
Жизнь Рихтера в искусстве — это четверть века жизни нашей музыки.
В заключение очерка — два штриха из дорогих мне воспоминаний о нашей жизни на Арбате...
Рихтер заходит к нам и слышит, как студентка — моя ученица — играет Adagio cantabile из «Патетической сонаты» Бетховена. Останавливается около двери, из-за которой несутся звуки. «Какая музыка!» — с благоговением произносит он и прислоняется к двери, чтобы не помешать игре.
В другой раз мы с женой собираемся в театр на какой-то шекспировский спектакль. «Идти?» — Рихтер с недоумением смотрит на нас. Ради глубины шекспировского текста он готов простить даже недостатки исполнения. «Конечно, идти — Шекспир всегда хорош!»
Он страстно любит Бетховена, Шекспира, столь многое в искусстве, как вечные ценности художественной культуры человечества, явления жизни, которые нужно узнавать, постигать. .. Узнавать, не откладывая на завтра, чтобы успеть, чтобы не упустить мгновение.
Настала пора, когда Рихтер покинул старое Арбатское гнездо... Спустя годы и мы переехали из «Московского дворика». Житейские пути наши разошлись.
[1] Первая премия, наряду с Рихтером, была присуждена на этом конкурсе В. К. Мержанову, ныне профессору Московской консерватории..

Вопросы фортепианного исполнительства. Вып. 4. – М.:Музыка, 1976.
https://drive.google.com/file/d/13oXjFbcIEnTx6pVr0yX6G22H5EOiJE-z/view?usp=sharing
Г. Нейгауз
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ УРОК И ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. БЕСЕДЫ С Б. ТЕПЛОВЫМ И А. ВИЦИНСКИМ (СТЕНОГРАММЫ)
Редакция и комментарии А. Вицинского
Показательные уроки Нейгауза, стенографическую запись которых предпринял Теплов в 1936—1939 годах, происходили в Центральном заочном музыкально-педагогическом институте повышения квалификации педагогов.
Уроки виднейших педагогов-исполнителей были одной из форм занятий по специальности, практиковавшейся институтом. Они пользовались большим; успехом у педагогов музыкальных училищ и школ и собирали многочисленную аудиторию.
Исключительно эрудированный в вопросах музыкального исполнительства и педагогики, Б. М. Теплов считал, что уроки лучших педагогов могут явиться чрезвычайно благодарным объектом изучения и обобщения художественно-педагогического опыта. По мнению Теплова, многие работы тога времени по фортепианной педагогике были абстрактны, недостаточно связаны с художественной практикой, несли на себе печать механицизма и страдали отсутствием живого духа музыки.
Осуществляя записи уроков, Теплов находил, что материал, который будет собран в результате фиксации всего того, что является содержанием урока, может в значительной мере стать основой для построения художественно полноценной и научно обоснованной фортепианной педагогики.
С наибольшей увлеченностью и систематичностью проводил уроки в беседы со слушателями Г. Г. Нейгауз. К его урокам никто не оставался равнодушным. Они обладали особой привлекательностью, благодаря необычайной живости и эмоциональной непосредственности реакции на все происходящее на уроке, глубине и художественной убедительности указаний и исполнительского показа, полемической заостренности и горячности речи.
С иронией говорил он о бесплодных методических теориях, берущих за основу законы механики или догматически трактующих те или иные двигательные приемы игры и т. п.
Г. Г. Нейгауза волновали встречавшиеся еще случаи отсталости методического мышления и педагогической практики у некоторой части педагогов, особенно периферийных.
Все это вызывало у Нейгауза потребность спорить, доказывать и пропагандировать те истины, к которым он сам пришел трудным путем.
Особенно частые и горячие возражения возникали у Нейгауза по поводу бытовавшей еще в педагогической среде установки, противопоставлявшей две стороны работы — техническую и художественную, при явной недооценке ведущей, определяющей роли понимания музыкально-образного содержания разучиваемых произведений.
Часто в различных вариантах он повторял мысль: «Все должно исходить из музыки, от ее понимания. Надо направлять внимание учеников в сторону музыки, и не просто музыки, а всего того, чем она живет, — в сторону чувств, душевных переживаний, мыслей. Если мы не направим внимание ученика в эту сторону, мы немногого добьемся. Цель, ясное понимание цели рождает средства».
Такие положения были исходными для всей системы педагогических взглядов Нейгауза, их он развивал и стремился распространять в среде музыкантов — педагогов и учащихся — на протяжении многих лет.
При редкой способности к прямому, доверительному общению с людьми, с аудиторией, Нейгауз не мог ограничиваться исполнительством и педагогикой. Потребность приносить пользу любимому делу и общительность натуры порождали интенсивную деятельность в виде лекций, бесед, открытых и. показательных уроков, докладов, многочисленных статей — словом, всех доступных форм пропаганды своих прогрессивных педагогических и художественных воззрений.
Эта широкая просветительская деятельность замечательного пианиста еще не получила должного освещения и оценки, хотя по своей активности, она была в 30-е и 40-е годы, вероятно, беспримерной. Резонанс ее в музыкально-педагогических кругах был очень значителен. Завершением этой деятельности, в известном смысле, явился выход в свет его книги «Об искусстве фортепианной игры» (М . 1-е изд. — 1958).
В архиве Б. М. Теплова находилось больше десяти записей показательных уроков, лекций и бесед Г. Г. Нейгауза, большинство из которых представляет исключительный интерес и ценность. И лишь некоторые совершенно не могут быть использованы из-за очень низкого качества стенограмм ’.
В данном сборнике вниманию читателей предлагаются записи: показательный урок с С. Рихтером, бывшим тогда студентом первого курса Московской консерватории, и лекция, состоявшаяся вместо урока с неожиданно заболевшим учеником. Урок с С. Рихтером был 3 декабря 1937 года, лекция — 19 декабря 1938 года.
Беседы с выдающимися советскими музыкантами-исполнителями, так же как и записи показательных уроков, проводились по инициативе и при участии проф. Б. М. Теплова, который заранее продумывал их тематику и своими вопросами направлял эти беседы.
Начало этой работы относится к 1944 году, когда состоялись первые встречи Теплова и его сотрудников с К. Н. Игумновым, Г. Г. Нейгаузом.
В последующие годы (до 1948 г.) беседы с вокалистами продолжал вести Д. Л. Аспелунд, а с пианистами, значительно расширив их круг,— автор этих строк.
1 Стенограммы были переданы мне, как одному из бывших сотрудников Б. М. Теплова, работавшему под его руководством ряд лет в Институте психологии Академии педагогических наук РСФСР. В настоящее время отредактированные стенограммы находятся в архиве научных работ Московской консерватории.
Публикуемая в сборнике беседа с Нейгаузом состоялась 29 ноября 1944 года, незадолго до его концерта.
В этой беседе Нейгауз рассказал свою музыкальную биографию и ответил на многие другие вопросы, связанные с его исполнительской и педагогической деятельностью.
За прошедшие годы многие факты этой автобиографической повести стали уже известны из книги самого Нейгауза и статей о нем. Тем не менее данная стенограмма обладает несравненной полнотой сведений о сложном пути становления замечательного художника и представляет материал исключительой ценности.
Качество стенограмм потребовало значительной работы по их редактированию и литературно-стилистической правке. В отдельных случаях возникла необходимость в некотором сокращении и перегруппировке материала.
Цитаты, которые приводит Нейгауз, сверены по последним изданиям книг.
А. Вицинский
Г. Г. Нейгауз. Сегодня мы услышим две сонаты Бетховена. Сперва будет исполнена Соната B-dur op. 22, в четырех частях. Исполнит ее студент первого курса консерватории Рихтер. Причем это произведение мы с ним не проходили, это его самостоятельная работа. Затем Рихтер исполнит Сонату As-dur op. 110 Бетховена; над этой сонатой мы с ним работали. (С. Рихтер играет Сонату B-dur op. 22 Бетховена.)
Вероятно, многие из вас, товарищи, проходят эту сонату со студентами училища и хорошо ее знают. Прослушать ее в исполнении очень одаренного студента вуза, я думаю, вам было интересно.
Вы, вероятно, заметили, что у Рихтера в исполнении было много активной напряженности; он играл очень энергично, иногда слишком сжато и жестко. Я об этом думал, когда Рихтер ко мне приходил домой, где он занимался, разучивая сонату. Уже тогда я заметил, что он многое играл излишне громко и напряженно, и меня это немного беспокоило, несколько тревожила такая его направленность.
Святослав Рихтер — настоящий музыкант, прекрасно понимает музыку, сам сочиняет. С талантливыми людьми я меньше занимаюсь вопросами приемов игры, чем с менее талантливыми, так как более талантливые ученики эти приемы находят непосредственно сами.
Я подумал о том, что Рихтеру полезно дать вещь, которая требует большой мягкости и гибкости, тонкости звука. С этой целью я дал ему пьесу Дебюсси, и он, несмотря на кажущуюся жесткость своих приемов, сыграл эту вещь превосходно именно в смысле звука и владения фортепиано. Тут это исходило из совершенно другого образа, из самой музыки, и, несмотря на присущие пианисту мужественные приемы, оказалось, что он пьесу Дебюсси сделал очень хорошо.
Это поучительно именно в том отношении, что чем больше человек музыкально одарен, тем он самостоятельнее, своими индивидуальными, обусловленными его артистической организацией приемами может решать разнообразные звуковые задачи.
Часто приходится слышать такое мнение: скрипачи, например, говорят, что такими-то приемами может играть только Крейслер. Как будто эти приемы противоречат общепринятому пониманию скрипичной техники, — то есть имеется в виду, что эти приемы настолько своеобразны и неповторимы, что не могут служить образцом и являются как бы исключением из правил. Действительно, чем талантливее ученик, тем у него своих особых, индивидуальных приемов больше. Конечно, я буду добиваться от Рихтера более экономной траты энергии и большей мягкости, но я не буду как с ним, так и с другими учениками, находящимися на том уровне, какой преобладает у меня в классе сейчас, отдельно заниматься приемами. Это один из моих важнейших принципов. Характерный пример я уже привел здесь с исполнением Рихтером пьесы Дебюсси.
Когда у меня в классе были совсем мало одаренные ученики — так как и я когда-то в Тифлисе начинал заниматься с малоталантливыми учениками, — для того чтобы «смягчить» руки учеников, играющих вообще с большим трудом и напряжением, я заставлял их проделывать ряд упражнений, приводящих к полному освобождению всего тела. И удивительная вещь: некоторые ученики были так напряжены (что было связано почти всегда с малыми музыкальными способностями) и эта жесткость у них была настолько велика, что когда я заставлял их спокойно и свободно опустить кисть на клавиши и опять ее поднять и как будто мысленно углубить звук, то в это время у них кисть дрожала — очень интересное физиологическое явление, — настолько такое состояние было для них непривычно. Вероятно, некоторые из вас это замечали как признак напряжения.
Это является примером диаметрально противоположным тому, что мы сейчас видели и слышали. Здесь будет идти работа от музыки. Некоторые моменты у Рихтера получаются немножко жестко, потому что какой-то прием главенствует, находясь не в полном соответствии с музыкой. Вот в этом месте из первой части, например. (Играет — см. пример 1.)
Всякий прием в отдельности может быть хорош, если он соответствует музыкальной цели, звуковой задаче. Я знаю много разумных педагогов, которые считают, что самое лучшее состояние и положение руки такое, которое легче всего изменить. Но встречаются еще догматики, и среди них такие уважаемые музыканты, как, например, Э. Розенов, который гово-
рил, что идеальное положение руки только такое, когда от 5-го пальца можно провести прямую линию. Но ведь это чистейшая метафизика, потому что такой статики ни в процессе игры, ни в жизни вообще не бывает и не должно быть. Словом, обращаться с рукой надо как с чем-то совершенно подвижным, гибким, живым.
Большой ошибкой многих методических трудов являются вот такие утверждения о неких идеальных положениях, приемах, поворотах руки, и я всегда борюсь с этими тупыми механистическими представлениями, так как это ничего ученику для познания фортепианной игры и музыки не дает, ничему не помогает. Мы знаем, что Шопен протестовал против так называемого «уравнивания пальцев», он утверждал: пусть каждый палец сохраняет свою индивидуальность, свои различия с другими пальцами, так как этими различиями очень хорошо можно пользоваться. Педагоги того времени — впрочем, как и до сих пор многие — считали, что особенности и силу пальцев требуется прежде всего уравнивать, а пальцы ставить на клавиатуре по линеечке.
Пальцы, в сущности, являются не силовыми (мускульными) станциями, а чаще всего передаточными пунктами, опорами, которые выдерживают разный вес, и в этом смысле они одинаково сильны. Но никогда 4-й палец не будет таким сильным, как 1-й, который расположен совершенно отдельно и может двигаться обособленно.
Утверждение Шопена тем интересно, что уже в то время он был против этой тупой механистики. Очевидно, такое механистическое понимание у некоторых педагогов — неизбежное зло, с которым всегда приходится бороться. Но, когда Брейтгаупт пишет, что пальцев вообще нет, а есть свобода вращательного движения2, — то это тоже ерунда, так как существует жесткость и упористость пальцев, которыми, например, играет Рихтер и которые часто бывают нужны. Таким образом, ни одного механического свойства руки нельзя ставить во главу угла, а надо, я уверен, исходить из тех основных положений, о которых я говорил сейчас. Так я думаю.
Вернемся теперь к исполнению сонаты. Повторите связующую партию первой части сонаты. (Рихтер играет.)
Вот какое у меня есть возражение: на мой взгляд, это слишком энергично. Это связующая партия перед второй темой, и мне кажется, что она должна звучать не так громко и энергично. В звуке тут есть что-то очень струнное. Ведь всякую сонату Бетховена можно себе представить в виде симфонии, и в инструментовке этот пассаж не звучал бы так энергично. Эго будет звучать мягче, с очень ясными акцентами. Попробуйте сыграть это все немного мягче. (Рихтер играет.) Кроме того, это должно быть очень ритмично.
Во второй теме с учениками бывает очень трудно добиться настоящего pianissimo в конце. Сыграйте еще раз вторую тему. (Рихтер играет — см. пример 2):
2 См.: Брейхаупт Р. Естественная фортепианная техника. с. 57—64 (примеч. редактора).
Сейчас мне очень понравилось. Он совершенно правильно сыграл это место.
Иногда в первой части было слишком много педали. Она должна здесь быть очень прозрачна, а не «замазывать» ткань. Во многих местах ее нужно лишь слегка тронуть, чтобы попользовать в нужной мере для правой руки, для мелодии.
В Менуэте также нужно брать меньше педали.
Об Adagio. Там есть в заключении первой темы акценты sforzando на третьих восьмых. В нотах у Рихтера это напечатано неточно.
Если вы будете проходить это Adagio с учениками, то обратите их внимание на гармонии в начале разработки (с такта 31), которые сравнительно редко встречаются у раннего Бетховена. И надо объяснить ученикам, в чем тут дело, как образуются эти гармонии с задержаниями.
В исполнении последней части требуется немного больше непринужденности, и затем, на мой вкус, это рондо было сыграно слишком быстро. Попробуйте повторить первые фразы, начало. (Рихтер играет.)
Сейчас это мне больше нравится, темп более правильный, а в первый раз прозвучало несколько суетливо. Здесь у Бетховена есть переход от мужественных, энергичных настроений к радушной приветливости. Это надо дать ясно почувствовать.
Когда я работаю с учениками над сонатами Бетховена, мне всегда хочется говорить им о невероятном разнообразии и богатстве образов в его сонатах.
Каждая из тридцати двух сонат — это свой мир, свое отдельное, неповторимое явление, единственное в своем роде и совершенно определенное по содержанию и образам. И когда вы будете проходить с учеником, например, эту сонату, вы, по-моему, должны ему объяснить, что мрачных, печальных тонов и красок в этой сонате как будто совершенно нет. Только во второй части есть одно место — о котором уже у нас шла речь, — звучащее драматично и предостерегающе. И больше нигде никаких теней, никакой печали и грусти. Все светло и безоблачно.
В последней части есть очень мужественные моменты. Обо всем этом надо говорить с учениками, так как мне приходилось часто встречать у достаточно подвинутых учеников какие-то готовые выразительные приемы исполнения, например драматические или чувствительные, которые они применяли как какие-то стандарты экспрессии в различных местах.
Мне вспоминается одна талантливая ученица, которая, впервые знакомясь со стилем Брамса, играла его с чувствительностью, не свойственной музыке композитора. Она исполняла его слишком мягко, сентиментально, используя совершенно определенные приемы выразительности, например, слишком частые изменения звучности. Это не было проявлением естественного чувства, а воспринималось именно как «чувствительность», то есть вещь безусловно вредная в искусстве.
Поэтому мне хочется посоветовать вам, чтобы у вас в работе с учениками всегда был разговор о художественном образе. Это один из моих принципов — направлять сознание учеников по определенному пути. Часто они сами подсознательно чувствуют то, что нужно в смысле формы и содержания вещи, и тут необходимо для более полного познания вещи помочь им назвать словами то, что они смутно ощущают.
Вот еще соната совершенно прозрачная, веселая по настроению, во всех частях которой не встретишь буквально ни одного мало-мальски печального или философского момента. Это Соната Es-dur op. 31. И рядом Соната d-moll op. 31 — три части этой сонаты, составляющие единое целое, совершенно различны по настроению, но очень глубоки и сильны по всей выразительной сущности. Мне хочется подчеркнуть мысль, что в некоторых сонатах круг определенных художественных образов, а значит, и душевных переживаний не выходит за известные пределы, но, несмотря на этот замкнутый круг, разнообразие творчества композитора чрезвычайно велико; в Сонате B-dur четыре части, но в них даются как бы разные варианты одного душевного состояния.
А если взять Сонату e-moll op. 90, состоящую всего из двух частей (играет начало первой, затем второй части Сонаты ор. 90), то здесь диапазон художественных образов, контрастность их содержания чрезвычайно велики. Эта двухчастная соната построена на сопоставлении противоположных по настроению частей, чего как раз нет в Сонатах B-dur и Es-dur.
Если мы вспомним Сонату D-dur ор. 10 — мы ее здесь раньше проходили, — то там опять встретимся с необычайным «объемом» содержания, с большим различием и контрастностью образов. Сопоставьте хотя бы первую и вторую части.
А вот в этой сонате (играет начало Сонаты c-moll op. 111, потом начало второй части) контрастность образов двух частей колоссальна, противопоставление двух разных настроений настолько велико, что возрастают не только технические, но особенно духовные трудности постижения и, следовательно, исполнения таких двухчастных сонат. Бюлов в своей редакции этой сонаты пишет, конечно, метафорически, что ее две части можно сравнить с бурной жизнью, полной драматической борьбы, и полным покоем, нирваной.
Перейдем теперь к исполнению Сонаты As-dur ор. 110. (Рихтер играет Сонату As-dur ор. 110 Бетховена). Это предпоследняя соната Бетховена, одна из самых трудных в исполнительском отношении, одна из тех сонат, которые очень трудны для понимания, может быть, труднее почти всех других.
Должен сказать, что для студента первого курса консерватории исполнение Рихтера является весьма почтенным достижением. Неудобно, правда, хвалить своего ученика, но ведь я уже сказал, что это одна из самых трудных сонат, особенно в смысле художественного понимания. Это одна из тех сонат, в которых разнообразие материала и объем содержания огромны. Насколько в Сонате B-dur сравнительно узкий круг образов, настолько эта соната необъятно широка по содержанию.
Возьмите как бы сострадательную лирику первой, приветливой части, может быть глубоко не затрагивающей. И внутри нее имеется большое разнообразие. Если сопоставить первую тему, напевную, и вторую — уже другого характера — это почти интимная музыка. Вторая же часть сонаты — это как бы уличная музыка, и в основу одной темы даже положен уличный напев времен Бетховена. Иногда ругают Шостаковича, что он порой пишет совершенно уличную музыку, а вот «старик» Бетховен делал то же самое.
И потом, как эта часть гениально кончается! (Играет конец второй части — см. пример 3.):
Затем идет переход к бетховенскому одиночеству (играет начало третьей части), абсолютному одиночеству человека, потерявшего слух, то есть важную связь с внешним миром и своим искусством.
Какое здесь разнообразие вариантов замысла! Это прежде всего нужно почувствовать. Дальше начинается свободная композиция после речитатива; потом идет Arioso dolente, а за ним фуга. И вот как я объясняю ученикам, почему здесь именно фуга: после такой почти болезненной и предельно эмоциональной музыки нельзя ведь сразу успокоиться или начать радоваться. Тут требуется переход от такого подавленного состояния, от глубочайшей печали, нужна особая разрядка — переход к размышлению о философской сущности человека, и эта фуга «документально» говорит об этом. Хотя тема почти лирична, это прежде всего размышление. После предельной скорби эта философская форма и постепенное ее «разрастание» к концу так естественны, так психологически оправданы. (Играет.)
Это раздумье успокаивает, мало-помалу настроение становится более оптимистичным и даже радостным, именно благодаря постепенному развитию этой философской мысли. И что же, наконец, оказывается? (Играет.)
Снова появляется жалобная мелодия, но уже не такая глубокая и интенсивная, а почти расслабленная. (Играет — см. пример 4):
Я вообще утверждаю, что Шопен не писал расслабленной музыки, а вот Бетховен здесь написал именно что-то болезненно-расслабленное, что редко встречается в искусстве.
Прослушайте, как эта музыка звучит в первый раз: это непрерывная, глубокая скорбь. (Играет Arioso dolente — см. пример 5):
5
Arioso dolente
Adagio ma non troppo
А во второй раз это звучит безутешно горестно, почти надрывно болезненно. (Играет L'istesso tempo di Arioso.)
Пусть это будет биологизмом, но здесь композитору как бы не хватает дыхания, оно ежесекундно прерывается, глубокое страдание перехватывает голос, нет ни одной связной мелодической линии. Это звучит предельно болезненно, это же почти смерть.
Когда после этого конечного спада возникают первые звуки песни (фуги) и опять именно посредством размышления создается новая «зацепка» жизни, начинающей ткать свои мысли, — тут как бы стихийно рождающееся постепенное оживление и восходящее движение приводит в конце концов к «сиянию ста сорока солнц». (Играет конец сонаты.)
Этими скромными, экономными средствами: одна рука в высоком регистре, другая в басовом, а в середине как будто ничего нет — Бетховен дает такую прекрасную ликующую музыку! Люди, привыкшие к пышному великолепию листовского стиля, в котором иногда выражается даже больше, чем нужно, — эти люди играют Бетховена порой очень сухо.
Словами я смог изложить разве только однопроцентную долю содержания сонаты. Содержание ее безгранично глубоко, играть ее очень трудно. Если исполнитель понимает эту музыку, а Рихтер прекрасно ее понимает, — слушать эту сонату громадное удовольствие. А сегодня во время исполнения фуги я видел несколько скучающих лиц и очень этим огорчился.
Правда, в фуге есть такое место — переход к самому финалу, где стоит обозначение Meno allegro: тут немного головоломная музыка, кажущаяся «абракадаброй», чисто мозговая как бы работа. Но в конце, когда вы почувствуете, как эта тема, эта мысль переходит в аккорды побеждающей жизни, в яркий оптимизм заключения, — все станет совершенно понятным.
Такие места у Бетховена встречаются в сонатах, симфониях, особенно в квартетах, но они всегда позже «объясняются», становятся понятными.
Эта соната меня всегда очень волнует, но, вероятно, и невозможно не волноваться, слушая такую глубоко выразительную музыку.
Надо оказать, что вообще еще встречается иногда отношение к Бетховену немножко суховатое. В таких случаях говорят, что, действительно, это гениально и т. д., но все-таки скучно. Тут надо понять, что у Бетховена все полно жизни, глубокого смысла, и если так подходить к его творчеству, то ничего не будет в нем скучно, потому что его музыка выражает все стороны духовной жизни и, между прочим, всю философскую глубину познания жизни.
Нам надо поблагодарить Рихтера; я его исполнением очень доволен. Мне не хотелось заниматься детальной работой с таким студентом — он не подходит для роли «кролика». С ним достаточно бывает побеседовать, он сам все понимает.
Дмитрий Николаевич Журавлев
Жизнь. Искусство. Встречи.
Всероссийское театральное общество. М.: 1985
Пытаясь рассказать в этой главе о Святославе Рихтере, хочу сразу оговорить, что все сказанное ниже далеко не исчерпывает моих ощущений и впечатлений от Рихтера — музыканта и человека!
О художнике-музыканте Рихтере поразительно объемно и точно написал его учитель Генрих Густавович Нейгауз в своей книге1:
«Страна наша богата прекрасными пианистами. Святослав Рихтер — первый среди равных.
Счастливое сочетание мощного (сверхмощного!) духа с глубиной, душевной чистотой (целомудрием!) и величайшим совершенством исполнения действительно явление уникального порядка...
Играет ли он Баха или Шостаковича, Бетховена или Скрябина, Шуберта или Дебюсси — каждый раз слушатель слышит как бы живого, воскресшего композитора, каждый раз он погружается в огромный, своеобразный мир автора. И все это овеяно «рихтеровским духом», пронизано его неповторимой способностью проникать в самые глубокие тайны музыки!
Так играть может только исполнитель, конгениальный исполняемым авторам».
Я не считаю себя тонким ценителем музыки, но, слушая Рихтера, я обретаю как бы особый, внутренний слух. Прикосновение Рихтера к клавишам магически рождает совсем особую, высокоодухотворенную атмосферу, особое душевное состояние, трудно объяснимое словами.
Рояль в его привычном звучании исчезает для меня с первого же момента. Обилие тончайших разнообразных красок, каких-то внутренних «поворотов», трепетная жизнь каждого исполняемого произведения непостижимы!
Для меня исполнение Рихтером каждой программы начинается с момента, когда он выходит на эстраду — это бывает каждый раз по-разному: то. он появляется быстро, энергично, начиная играть чуть ли не на ходу, то медленно-спокойно, то долго сидит за роялем, потирая руки и как бы вслушиваясь во что-то внутри себя... Помню, как на одном из концертов в Зале Чайковского в первом отделении исполнялась соната Листа си-минор. В тот раз он вышел необычайно сосредоточенный, строгий. Сел... Наступила пауза — долгая, захватывающая дух. В ней были громадное напряжение, сверхсосредоточенность, даже трагизм. Эти ощущения передавались в зал и с каждым мгновением нарастали. Музыка как бы «оттолкнулась» от этой паузы и зазвучала с невероятной силой.
Каждый концерт Рихтера для меня событие и открытие огромных, сложных миров Баха, Моцарта, Бетховена, Рахманинова, Скрябина, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича...
Как потрясает глубина и мощь рихтеровского Бетховена! Я испытал невероятное ощущение радости после исполнения им первого концерта для фортепиано с оркестром! Или совсем иное душевное состояние после исполнения 32-й сонаты, опус 111-й. Я много раз слышал ее раньше, знаю замечательный разбор этой сонаты в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна, но рихтеровское исполнение было откровением.
До Рихтера я с трудом воспринимал Прокофьева. Услышав в его исполнении 8-ю сонату, был потрясен, почти испуган ее огромной внутренней силой. Такое же незабываемое впечатление осталось у меня после пятого концерта Прокофьева в исполнении Рихтера и Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Орманди.
Еще в начале нашего знакомства я слышал о том, что Святослав Теофилович занимается целыми днями, а недавно он сам рассказывал мне, что и сейчас для того, чтобы быть «в форме», ему необходимо играть минимально 3 — 5 часов в день. Это его «урок». Когда же он почему-нибудь недоигрывает этих часов, то остается должен самому себе и непременно отдает этот долг, играя в следующие дни по 7 — 8 часов (иногда и больше!). Он считает, что работая, нужно терпеливо ждать, когда количество перейдет в качество!
По сей день меня поражает, как велико в нем чувство ответственности и требовательности к самому себе! Он сердится, если ему говорят: «Вы же так недавно исполняли это произведение, что можете его сыграть с закрытыми глазами»...
— Вот вы и играйте с закрытыми глазами! А я должен готовиться каждый день...
Его скромность сверхъестественна. Он никогда никому не рассказывает о своих успехах, победах, триумфах. Как высшую оценку можно иногда услышать: «Кажется, в этот раз что-то получилось»...
Его жизнь, насыщенная интересными поездками в разные страны, встречами, яркими впечатлениями, успехом, овациями, на самом деле тяжела и сложна: бесконечные занятия, репетиции, концерты, переезды с места на место... Зачастую нет времени ни отдохнуть, ни оглядеться.
Вот пишет он нам из Перуджии:
«...Италия прекрасна, только у меня нет времени, как всегда».
Еще письмо из Италии:
«Последние дни у меня очень напряженные из-за трудных программ. Поэтому совсем нет времени что-нибудь смотреть... Вчера играл в Риме концерт Грига. Завтра играю советскую программу, а послезавтра возвращаюсь в Милан...»
Из Виченцы:
«Выскочив из московских сумасшедших концертных событий, продолжаю это занятие на итальянской земле. Столько же часов в день прикован к стулу. Очень томительно, но ничего не поделаешь! Виченца — чудо! Приехал за час до концерта и сразу же после — назад. Публика весьма экспансивна...»
Письма из Франции:
«Спасибо за телеграмму — она как раз пришла вовремя. И я все-таки не провалился на своем концерте (хотя было похоже, что это случится). Завтра я опять играю в Париже. Се ля ви артистик!..»
Из Монте-Карло:
«Вот оно, то место, которое описал Достоевский. И представьте — здесь я делаю записи на пластинки. Город роскошный и безвкусный. Записи выматывают до полного изнеможения...»
Из Австрии:
«...Опустевший Зальцбург (вчера кончился фестиваль). Я начал записывать «Симфонические этюды»!?!? в том самом дворце, который вы видели в проекции на стене в праздники.
Здесь тихо, сыро, часто льет дождь. Но часто также светит солнце. Горы то скрываются, то показываются...
Шуман архитруден на записи (в пять раз труднее, чем на концерте).
Мой август был полон разнообразия. После югославской македонской поездки мы очутились в Ментоне.
В середине месяца концерт в Люксембурге, в маленьком опрятном городке Вильтце с замком. Путешествие через Мюнхен, Инсбрук и вот Зальцбург... Целый месяц играть в присутствий микрофона — ужасно!..»
Тремя неделями позже:
«...Я вместо звезд все время вижу ноты (а слышу фальшивые, которые надо исправлять).
Самое трудное, как всегда, это быть прилежным! Тут все время приходится идти поперек себя (в особенности тем людям, которые от природы влюблены в лень). Ну, не буду жаловаться, а буду надеяться на лучшее...»
И только изредка промелькнут такие строки, как вот эти, написанные из Азоло, где родилась и похоронена Элеонора Дузе:
«...Здесь так хорошо, что описать невозможно! Провожу время прекрасно, как новорожденный. А потом еще очень весело и легко.
Мы знакомы со всей деревней, и какие здесь милые люди...
Дом Элеоноры сейчас ремонтируется: мы были на могиле, которая находится на монастырском кладбище, изумительно красивом, с видом на Азоло. Если бы вы все это видели...
Сижу у окна в сумерках: через узкую улицу вижу высочайшую церковную башню. В этот момент она громко звонит. Можете мне завидовать...»
И, несмотря на огромный труд, творческая энергия этого человека настолько велика, что он успевает слушать, смотреть, запоминать и потому необычайно увлекательно обо всем рассказывать.
Но еще немного о Рихтере-музыканте.
Я не могу не восхищаться одним из замечательных его качеств: творческой щедростью, с которой он относится к молодым музыкантам.
Услышав однажды молодого, талантливого скрипача Олега Кагана, Рихтер предложил ему сделать вместе программу. Содружество это закрепилось, и от программы к программе мы ощущаем, как совершенствуется мастерство Кагана, как обогащается его творческий мир.
Страсть открытия для других новой музыки положила начало совершенно уникальному, с моей точки зрения, содружеству великого артиста с группой молодых музыкантов.
Рихтеру хотелось сыграть в Москве камерный концерт австрийского композитора Альбана Берга. Первая попытка с опытными солистами-духовиками оказалась неудачной. При общей загруженности не хватало времени на репетиции. Рихтер считал, что исполнение не состоялось. Но не такой он художник, чтобы успокоиться. Он должен был показать музыкальной Москве настоящего Альбана Берга. И вот возник ансамбль: Святослав Рихтер, Олег Каган и молодые студенты и аспиранты консерватории во главе с превосходным дирижером Юрием Николаевским. Начались репетиции. Собирались, главным образом, в квартире Святослава Теофиловича. Репетировали по много часов подряд. Потом все дружно пили чай, заботливо приготовленный хозяйкой дома Ниной Львовной. Удивительной была атмосфера этих встреч! Ни тени менторства со стороны мэтра, ни тени скованности со стороны молодых. Царила атмосфера делового, творческого содружества.
Концерт имел огромный успех. А двенадцать юношей и одна девочка-флейтистка за это время стали членами своеобразного музыкального братства.
Эта программа была сыграна не только в Советском Союзе, но и за рубежом: в ГДР, Франции и в Греции.
«Мальчики наши не подкачали! — писал позже Рихтер, — семь тысяч зрителей слушали как один!..»
Вслед за Бергом, Рихтер приготовил с теми же молодыми музыкантами ряд интересных программ: сонату Брамса для кларнета (Анатолий Камышев) и фортепиано, Хиндемита — для фагота (Андрис Арницанс) и фортепиано, для трубы (Владимир Зыков) и фортепиано.
Еще позже — новое чудо: Баховский ансамбль!
Святослав Рихтер, Наталия Гутман, Олег Каган, две флейтистки и молодые «струнники» под управлением Ю. И. Николаевского приготовили четыре концерта Баха: для фортепиано с оркестром, для скрипки с оркестром, для фортепиано и двух флейт и пятый Бранденбургский концерт. И опять многочасовые репетиции, огромная, кропотливая работа и в результате — триумфальное выступление в Большом зале Консерватории.
В Бранденбургском концерте есть довольно большая, сложная каденция, о которой Рихтер говорил: «Играем, играем все вместе, а потом остаешься один — так страшно!..» Помню впечатление, произведенное на меня тем, что произошло с маленьким оркестром во время исполнения каденции. Как только началось соло фортепиано, все замерли и, не дыша, мысленно как бы «проиграли» всю каденцию вместе с Рихтером. Глядя на них, я думал: «Если бы великий скульптор мог сейчас оказаться здесь, вероятно, появилась бы прекрасная скульптурная группа «Музыка»!
Май 1980 года. Конец музыкального сезона. Казалось бы, никаких событий в музыкальной жизни не предвидится. Рихтер в это время усиленно занимается — готовится к поездке по Украине и к большому заграничному турне: учит новую сонату Бетховена, репетирует с квартетом Бородина «Forellenquintef» Шуберта.
Каждую новую программу он старается обыгрывать в закрытых концертах — в музыкальных школах, музеях, дома... .
Я очень люблю эта «репетиционные концерты», стараюсь не пропускать их. Люблю волнение юных музыкантов, сидящих в зале, их сияющие лица...
В этот раз репетировалась шубертовская часть программы. Она была сыграна в музыкальной школе № 3,. в Концертном зале Знаменского собора, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонке, а перед этим — дома.
Я уже говорил, что есть з Москве чудесный дом, который мы называем «дом Рихтеров». В этом доме, несмотря на огромную занятость его хозяев, мы проводим много счастливых часов. И вот, 31 мая, мы были приглашены на шубертовскую репетицию.
Слушателей было человек двадцать, но присутствовали мы на концерте, который мог быть украшением самого блестящего концертного зала. Все было обставлено так, как если бы мы там и находились. Музыканты из квартета Бородина во фраках, Рихтер, как всегда, в смокинге. Играли без всяких скидок на домашнюю обстановку и малое количество публики.
Я не раз слышал гениальный квинтет Шуберта в очень хорошем исполнении, но здесь было нечто неожиданно новое. Участники квартета прониклись рихтеровским прочтением Шуберта, и он зазвучал необычайно свежо, невероятно по разнообразию красок. Исполнители в этот вечер, казалось, были охвачены тем редчайшим чувством, какое называется вдохновением.
Когда 2 июня эта программа была сыграна в Музее изобразительных искусств на Волхонке, все повторилось с еще большей силой.
Но кроме Рихтера-музыканта наша семья знает еще Рихтера-человека! И это тоже счастье! Попытаюсь рассказать о нем и наших встречах вне концертов, хотя задача эта, конечно, необъятна, как необъятна и сама личность Рихтера.
Я люблю и ценю в нем необычайную душевную щедрость. Он всегда рад рассказать друзьям обо всем, что он увидел, услышал — о путешествиях, интересных встречах... Во время поездок он много снимает фильмов, слайдов, цветных фотографий. Благодаря этому мы, не выходя из дома Рихтеров, не раз побывали во многих городах и странах, и не просто «побывали»: нашим «гидом» был Рихтер с его безупречным вкусом, особым умением выбрать что-то самое главное, чего мы сами, может быть, и не заметили бы.
Рихтеровские цветные фотографии, которыми он одно время увлекался,— произведения искусства. Некоторые из них — Помпея, Урбино, где родился Рафаэль, могила Элеоноры Дузе в Азоло — украшают нашу квартиру. Показывая фильмы и слайды, он очень интересно обо всем рассказывает.
Совершенно не переносит пустого времяпрепровождения, разговоров «ни о чем», «просто так». Каждая встреча непременно должна открыть что-то новое, что-то добавить к нашим знаниям, духовно обогатить нас. «Ну, вот! Сегодня мы что-то узнали», — удовлетворенно говорит он.
Ни один из праздников не проходит просто как встреча. Они превращаются в события искусства. Если это елка, то она всегда очень изящно украшена — каждый год по-новому, под ней таинственно припрятаны милые подарки. Обязательно музыка, чтение стихов, слайды.
Вспоминаю одну из елок, на которую вместе со взрослыми были приглашены дети. Это было днем. И вместо привычных елочных игр и развлечений все вместе слушали в записи прелестную оперу Гумпердинга «Гензель и Гретель».
Посреди зала стояла высокая, под потолок, елка, украшенная на этот раз серебряными гирляндами, фигурными пряниками и белыми елочными свечками. Наша дочь Наташа читала содержание каждого акта, а Рихтер проигрывал на рояле основные музыкальные темы. Тех, кто особенно хорошо слушал, он награждал пряниками из мешка. Во 2-м акте заблудившимся в лесу детям снятся радостные сны. К этому моменту тихонько, чтобы не помешать слушающим, Рихтер зажег одну за другой все свечи на елке. Она засияла! Это было празднично, театрально, трогательно. И как легко, просто и непринужденно придумывает он всегда эти милые подробности...
Несколько лет подряд 24 декабря мы слушаем у Рихтеров «Рождественскую ораторию» Баха в прекрасной записи. И всякий раз все обставлено так, чтобы присутствующие могли как можно глубже погрузиться в гениальную музыку. За несколько дней до главного события мы ежедневно слушаем по две части оратории (их всего шесть), перед каждой частью Рихтер и кто-нибудь из его младших помощников медленно прочитывают текст оратории. Потом звучит музыка, иногда повторяемая дважды, и только после этого оратория слушается целиком. Теперь, подготовленные, мы легче входим в мир Баха.
Уже с начала декабря мы ждем встречи с «Рождественской ораторией». Начинается она необыкновенно светло и торжественно несколькими ударами литавр и ликующим вступлением хора. В конце вечера зажигается елка (непременно живые свечи) и первый тост всегда во славу великого Баха.
Прекрасную музыку слушаем мы в этом доме! Часто новую, незнакомую, которую могли бы, вероятно, и не узнать никогда, или, наоборот, хорошо знакомую, любимую, в великолепных записях.
Так мы слушали записанный на пластинку в исполнении Рихтера и Фишера-ДисКау цикл песен Брамса «Прекрасная Магелона». Сначала слушали тексты песен, потом их исполнение. Сложные музыкальные произведения Рихтер любит слушать два раза подряд — иногда в разном исполнении, иногда в одном и том же. Если же мы просим повторить что-то, то доставляем ему этим явное удовольствие.
Нашу дружбу можно разделить на периоды или «эпохи», смотря по тому, где жил Рихтер. Была «эпоха Арбата», «эпоха улицы Левитана», «эпоха Брюсовского переулка» (теперь улица Неждановой), «эпоха Большой Бронной».
В начале 50-х годов С. Т. Рихтер и Н. Л. Дорлиак получили отдельную двухкомнатную квартиру на улице Левитана. Здесь Святослав Теофилович решил «показать» нам все Бранденбургские концерты Баха. Как всегда, тщательно подготовился, написал специальные программы, рассказал о периоде создания концертов и в течение нескольких вечеров играл их, один за другим, в четыре руки, вместе со своим другом — пианистом Анатолием Ведерниковым. Отдохнув, мы снова слушали концерты в отличной записи, иногда же пианисты вновь повторяли их.
В другой раз (Мы слушали совсем новую для меня «Глагольную мессу» композитора Яначека.
Одна из наиболее длительных «эпох» — Брюсовская. Именно здесь началась «Рождественская оратория», исполнялись и другие произведения Баха, вагнеровский «Летучий голландец» с Фишером-Дискау, бриттеновский «Поворот винта», оперы Верди, Пуччини, Маснэ, «Человеческий голос» Пуленка в замечательном исполнении французской певицы Дениз Дюваль, симфонии Малера и Брукнера.
Вот как, например, мы слушали три вечера подряд оперу «Манон Леско». В первый вечер читалась «История Манон Леско и кавалера де Грие» аббата Прево. Во второй слушали оперу Масснэ с изумительной певицей Викторией Лос Анхелос, в третий — «Манон Леско» Пуччини с Марией Каллас.
Слушая оперу на чужом языке, необходимо хорошо знать ее содержание. Поэтому у Рихтера всегда предварительно читают либретто, а потом во время исполнения он незаметно меняет на стоящем перед нами пюпитре своеобразные «заставки», определяющие кульминацию происходящего. Готовит их Рихтер заранее. На больших листах бумаги фломастером своим крупным характерным почерком он очень четко пишет короткие фразы, поясняющие происходящее. Они помогают следить за развитием действия.
А вот еще вечер: «Поворот винта» — опера Бенджамена Бриттена (в записи).
Кроме новой для нас музыки, кроме поразительного исполнения партии Квина Питером Пирсом (постоянным исполнителем Бриттена) впечатление усиливалось обстановкой, придуманной хозяином: в комнате, освещенной лишь одной, какой- то «средневековой» свечой, был полумрак, что создавало атмосферу особой сосредоточенности.
С именами Бриттена и Пирса связано одно из самых милых, неожиданных впечатлений «Брюсовской эпохи».
20 марта — день рождения Рихтера. В доме празднично, полно молодежи; кое-кто сидит прямо на полу, на паласе. И вдруг после 10 часов вечера среди гостей появились Бриттен и Пирс, бывшие в то время на гастролях в Москве. Оба «очень английские» — словно из пьесы Бернарда Шоу, обаятельные, приветливые, улыбчивые. Их появление не нарушило непринужденности вечера. Напротив, когда кто-то из нас спросил хозяина, а нельзя ли попросить их спеть для нас,.— именитые гости охотно согласились. Бриттен сел к роялю, а Пирс божественно спел несколько романсов Шуберта.
Здесь же начались знаменитые рихтеровские выставки живописи.
Святослав Теофилович знает и глубоко любит живопись. Он и смотрит ее по-особенному. Выбирает два-три полотна и смотрит только их. Случайно я видел, как на выставке из собраний Метрополитен-музея в Музее изобразительных искусств на Волхонке он стоял перед автопортретом Эль Греко... Какое у него было лицо!
Я люблю говорить с ним о живописи. Наши оценки часто совпадают. Сам он очень способный художник. Бывали периоды, когда он увлеченно рисовал. Опять-таки по-своему. Никогда с натуры, только по памяти. К своим работам относится строго, не соглашаясь с нашими похвалами. Мне с трудом удалось выпросить у него несколько пастелей.
Роберт Рафаилович Фальк, у которого Рихтер взял несколько уроков, сказал ,мне однажды: «Если бы он не был великим пианистом, то был бы прекрасным художником». В спальне Роберта Рафаиловича висела маленькая пастель Рихтера. Фальк с гордостью показывал ее.
Одними из первых показывал у себя Рихтер работы Фалька. По стенам зала были развешаны полотна. Часть их принадлежала хозяину, другие он взял у художника.
В дни, отведенные для показа, приглашались немногие. Все могли долго и спокойно, как того и требует живопись, всматриваться в нее.
Рихтер — страстный поклонник Пикассо. После празднеств, посвященных 80-летию художника, на которые Святослав Теофилович был приглашен, мы с интересом слушали рассказы о юбиляре: его живости, экспансии, о том, что он выглядел самым молодым среди приглашенных на торжества; об удивительном доме Пикассо, корриде, устроенной в его честь. Разглядывали снимки этого праздника. На них Пикассо выглядел действительно молодым, с веселыми, жгучими глазами. Рядом с ним на фотографиях стоят то Ив Монтан с Симоной Синьоре, то знаменитый испанский танцор Антонио, то сам Рихтер.
Вскоре после этого Рихтер решил сделать у себя дома выставку подписных копий рисунков Пикассо. Как всегда, все было тщательно подготовлено. Зал разгорожен двумя специально заказанными стендами, обтянутыми серой холстиною и декорированными зелеными вьющимися растениями. На них. великолепно выглядела острая графика великого художника. Прямо напротив входной двери, в конце коридора нас встречало веселое лицо Пикассо (сильно увеличенная фотография).. Кроме рисунков на стендах можно было посмотреть роскошное издание «Кармен» Мериме на французском языке с оригинальными иллюстрациями Пикассо. Рихтер получил его в подарок, от самого художника.
В Брюсовском переулке была выставка работ Василия Ивановича Шухаева — интересного художника старшего поколения.
Пейзажи, натюрморты, портреты Прокофьева, Стравинского, масло, сангина... Выставка длилась долго. Святослав Теофилович уезжал на гастроли, возвращался, но и в его отсутствие друзья могли прийти и полюбоваться работами мастера. Рихтеров связывала давняя дружба с Василием Ивановичем и его женой Верой Федоровной. Они высоко ценили этого художника.
Там же была первая выставка работ Дмитрия Краснопевцева.
Я очень люблю этого человека и художника, и мне хочется рассказать о нем подробнее.
Мы познакомились в конце 50-х годов в его мастерской на Метростроевской улице. В небольшой комнате масса интереснейших вещей: разного размера и цвета экзотические раковины, кусок рыболовной сети, необыкновенные камни, целая коллекция минералов, чудные старинные книги, сухие цветы, в кадке какое-то редкостное растение с жесткими листьями, глиняные кувшины. Все это я потом увидел на его полотнах.
Дмитрий Михайлович — талантливый, оригинальный художник. Он пишет, главным образом, натюрморты, но в них нет ничего общего с пышными классическими натюрмортами — роскошными цветами, разнообразными фруктами, птицами, рыбами, дичью... У Краснопевцева это действительно только «мертвая природа»[1] — камни, кувшины, раковины. Благодаря скупости красок и всегда безукоризненной форме его работы впечатляют особой гармоничностью, аскетизмом, целомудрием. Когда долго смотришь на них, становится спокойно и высоко на душе от этой строгости, стройности, чистоты.
Собранные вместе на выставке у Рихтера, эти полотна производили большое впечатление.
Все мы ценим Краснопевцева не только как художника, но и как человека — его душевное богатство, ум, артистизм, безукоризненный вкус, любовь к искусству. Он любит музыку, боготворит Пушкина. Краснопевцевы — постоянные участники всех вечеров в доме Рихтеров: Рихтер в их жизни — огромное событие.
Выставки живописи продолжались и в новой квартире Рихтеров на Большой Бронной улице.
И в этой квартире во всем царит изящная простота, отменный порядок. На стенах зала, где мы слушаем музыку, — прекрасные картины, которые часто меняются; два рояля, очень много цветов, стенные шкафы, в которых в безупречном порядке стоят книги, ноты, пластинки, картины, слайды.
В дни «больших выставок» картины, тщательно и обдуманно отобранные самим Святославом Теофиловичем, висят повсюду.
Этот гостеприимный дом вмещает иногда и сорок, а то и более гостей, и только диву даешься, как Нина Львовна, которая так много работает в консерватории и с учениками дома, ведет все дела Рихтера, успевает за всем следить, приветливо встретить друзей и вместе со всеми слушать или смотреть всё, что задумано показать в этот вечер.
Вскоре после переезда на Большую Бронную была устроена грандиозная выставка работ одного из близких друзей Рихтеров — талантливой грузинской художницы (ныне покойной) Елены Ахвледиани. Это — давняя близкая дружба. У Рихтеров много прекрасных дарственных полотен Елены Дмитриевны.
Несколько дней Святослав Теофилович вместе с Еленой Дмитриевной, привезшей в Москву многие свои работы, искали место для каждой картины. Они были развешаны в зале, столовой, в кабинете хозяина и холле. Выставка длилась долго. В организации ее ощущались размах и широта. Из Тбилиси приезжали друзья Елены Дмитриевны. Все московские почитатели приходили сами и приводили своих друзей. В иные дни бывало по 50—60 человек. У всех в руках —специально приготовленные каталоги. Много цветов. Здесь и там — разговоры о живописи, искусстве. Художница, уже немолодая, красивая, с седой пушистой головой, ходила между посетителями и под несколько нарочитой мрачностью и резкостью пыталась скрыть удовольствие от явного успеха выставки. А успех был шумный!
Хозяин принимал самое живое участие во всем, переходил от группы к группе, внимательно вслушивался в мнения старших, отвечал на вопросы младших, следил, чтобы все чувствовали себя свободно, непринужденно.
Мне всегда доставляет огромное удовольствие наблюдать, с каким вниманием относится Рихтер ко всем приходящим (зачастую вовсе ему незнакомым людям), как разносит угощение — сэндвичи, сухарики с сыром, как он прост, приветлив.
Выставок на Бронной было много, и среди них недавняя, позже целиком перенесенная в Музей имени Пушкина на Волхонке, под названием «Музыкант и его встречи в искусстве».
О ней много говорили, писали, ее показывали по телевидению. Оригинально составленная, с прекрасными аннотациями, написанными самим Рихтером, она произвела большое впечатление на любителей живописи.
Бывают в доме и совсем особенные вечера, посвященные памяти ушедших музыкантов, художников, близких, друзей. Среди них вечера, посвященные памяти К. Н. Дорлиак, Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева, Г. Г. Нейгауза, Б. Бриттена и многих других.
Я уже говорил, что познакомился с Рихтером в доме Нейгауза. Их связывала дружба не просто учителя с учеником, но, что гораздо выше, — дружба двух рыцарей музыки, духовное родство. Сколько раз видел я слезы восторга на лице Генриха Густавовича во время концертов Рихтера. И всегда ощущал, с каким бережным почтением, любовью относился Рихтер к своему учителю.
В октябре 1979 года исполнилось пятнадцать лет со дня смерти Нейгауза. Этой дате был посвящен ряд вечеров. На них присутствовали: вдова Генриха Густавовича Сильвия Федоровна — тонкий, умный музыкант, дети и внуки Генриха Густавовича, его ученики, друзья и почитатели. В эти вечера мы слушали прекрасную музыку — «Реквием» Листа и «Немецкий реквием» Брамса, а также произведения, которые особенно любил Нейгауз — «Тристана и Изольду» Вагнера, «Саломею» Рихарда Штрауса.
«Тристана» слушали четыре вечера подряд по одному акту ежевечерне и, наконец, — всю оперу целиком. Святослав Теофилович каждый раз прочитывал по либретто содержание акта, проигрывал лейтмотивы, потом все получали по чашке крепкого бульона (для подкрепления сил), после чего слушали весь акт целиком. Посвященные — Нина Львовна, Сильвия Федоровна, Ирина и Лев Наумовы, Галина Писаренко — следили по клавирам, а нам, непосвященным, как всегда, очень помогали «заставки», приготовленные Рихтером.
В четвертый вечер слушали всю оперу целиком.
В следующие два вечера звучала «Саломея» Штрауса. Оба вечера наша Наташа перед началом прочитывала пьесу Оскара Уайльда в переводе К. Д. Бальмонта и Е. А. Андреевой. Потом в записи в прекрасном исполнении «Саломея» звучала целиком.
И наконец — последний, большой вечер.
Собрались все ученики Генриха Густавовича, друзья, все, кто мог прийти. Около портрета Нейгауза — много цветов. И в течение всего вечера меня не оставляло чувство, будто Генрих Густавович среди нас.
Звучала «Стабат Матер» Шимановского — одного из любимых композиторов Нейгауза, его кузена и близкого друга. Потом я прочел пролог «Фауста» Гёте в переводе Пастернака (Генрих Густавович любил это произведение, читал его в подлиннике, но высоко ценил пастернаковский перевод) и балладу Пастернака, обращенную непосредственно к Нейгаузу, где есть такие строки:
Вам в дар баллада эта, Гарри,
Воображенья произвол
Не тронул
строк о вашем даре;
Я видел все, что в них привел.
Запомню и не разбазарю:
Метель полночных маттиол,
Концерт и парк на крутояре,
Недвижный Днепр, ночной Подол[2].
(1930 г.)
Потом играли ученики: Наумов, Малинин, Горностаева, Муравлев, Рихтер, Слободяник, Станислав Нейгауз. В тот вечер мы в последний раз видели и слышали Станислава Генриховича. Этот изящный, одухотворенный человек и прекрасный музыкант пользовался всеобщей любовью. Его неожиданная, ранняя смерть — большая утрата для искусства.
А потом перед нами прошла жизнь Генриха Густавовича в фотографиях — от детских в матроске и берете с помпоном до широко известных портретов последних лет. Рихтер составил из них прекрасную композицию и показал ее на экране с помощью эпидиаскопа. Тут был дом Нейгаузов в Елизаветграде, родители и сестра, молодой Кароль Шимановский и сам Генрих Густавович в возрасте 22—25 лет, города, где он бывал, произведения искусства, которые он особенно любил... Несколько фотографий класса Нейгауза в Московской консерватории, молодая прелестная пара — Скрябина и Софроницкий, и, наконец, одна из последних фотографий, запечатлевшая момент, когда Нейгауза, уже больного, пришел навестить старый друг Артур Рубинштейн, бывший в это время в Москве на гастролях. Закончился вечер прекрасной записью второй части первого концерта Шопена в исполнении Генриха Густавовича.
А в конце января 1980 года мы все вместе три вечера подряд посвятили 120-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова (у себя дома мы стараемся делать это ежегодно). Святослав Теофилович хорошо знает Чехова и вообще литературу. Трудно себе представить, когда он успевает при своей грандиозной работе так много читать!
Читает он опять-таки по-своему. Никогда между делом или для развлечения. Иногда не читает месяцами, но когда берется, делает это так же серьезно, как все остальное.
Почти совсем не читает так называемой периодики и нашумевшие модные новинки. Когда кто-то спросил, читал ли он...— не помню, о чем именно шла речь — он отвечал: «Ну, что вы! Я еще «Божественную комедию» толком не прочел».
В русской литературе он больше всего любит Гоголя. Конечно, Пушкина, Чехова, Достоевского. У Л. Н. Толстого — «Войну и мир». Любит А. К. Толстого, многие его стихи знает наизусть. Очень любит М. А. Булгакова.
Попробую назвать его любимых писателей западной литературы, вероятно, далеко не всех, но, по крайней мере, тех, о которых мы много говорили: Шекспир (очень любимый), Шиллер, Гёте (в «Фаусте» любит больше вторую часть, не любит «Страданий молодого Вертера»), Мэлвилл, Жан-Поль Рихтер, Ибсен (здесь мы с ним расходимся во вкусах!), Томас Манн, Марсель Пруст, Дос-Пассос, Фицджеральд Скотт (тут я с ним совершенно не согласен!), Золя.
Любимого моего Фолкнера он не читал. Знает и любит Пиранделло, которого я вовсе не знаю.
Можно часами разговаривать с ним о любимых произведениях.
А вот с поэзией у Рихтера особые отношения. Он говорит, что «не понимает ее, но я знаю трех бесспорно любимых им поэтов: Пушкин, Блок, Пастернак.
Очень любит театр, кино. По его рассказам, в их семье всегда любили «лицедейство» — спектакли, театр.
Юношей, приехав в Москву, Рихтер видел в Художественном театре спектакли «Дни Турбиных», «Женитьбу Фигаро» с Ольгой Николаевной Андровской в роли Сюзанны. Она так и оставалась одной из любимых им актрис. (Мне рассказывали, что уже незадолго до ее кончины Святослав Теофилович послал ей букет прекрасных роз. Она была потрясена и все время твердила: «Боже мой! Я этого не заслужила...»)
Как я уже говорил, долгие годы Рихтеров связывали сердечные, дружеские отношения с Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой.
Несколько раз в разговоре со мной Святослав Теофилович называл среди имен любимых им мастеров театра С. В. Гиацинтову, А. Г. Коонен, А. Я. Таирова. Ему очень нравится Камерный музыкальный театр, возглавляемый Б. А. Покровским.
Но, по-моему, самый любимый Святославом Теофиловичем вид. искусства — опера, а самая любимая из них — «Гибель богов» Рихарда Вагнера.
Рихтер очень любит гулять и гуляет опять-таки по-своему, не «для моциона», уходит или уезжает за много километров от дома и потом возвращается пешком, любуясь красивыми пейзажами, памятниками архитектуры; запоминает название каждой деревеньки, речки и, по-моему, прекрасно знает все Подмосковье, так же, как и Москву.
Он любит движение. Не может понять рыболовов, которые часами сидят или стоят на одном месте. Во время прогулок интересно рассказывает, показывает знакомые ему места и никогда ие возвращается обратно тем же путем. Гулять с ним — огромное удовольствие, но и труд, потому что прогулки длятся иногда по шесть-восемь часов.
Как-то наша дочь Наташа после прогулки с Рихтером по Ленинграду передала их разговор:
— Я покажу вам сейчас один замечательный дом, а вы угадаете, что в нем произошло...
Долго ведет какими-то малознакомыми старыми переулками и, остановившись на перекрестке, спрашивает:
— Ну, чей это дом?
— Не знаю...
— Ну, угадывайте. Кто о нем написал? — Пушкин?
— Холодно...
— Гоголь?
— Холодно, холодно...
— Достоевский?
— Конечно. Ну, а где?
— В «Идиоте»?
— Правильно. Ну, а что?
— Не знаю...
— Ну как вам не стыдно! Здесь Рогожин убил Настасью Филипповну... Видите дом напротив? Здесь же Мышкин ходил...
Наша прогулка по набережным Москвы-реки: «Посмотрите, здесь все совсем, как в рассказах Горького», — говорит он. Он очень любит Москву и жалеет, если сносится какое-нибудь интересное старое здание.
Иногда он гуляет в дни своих концертов. Уходит один далеко, возвращается почти к самому концерту, и это его не утомляет.
Вряд ли мне удастся обрисовать все грани характера Святослава Теофиловича. При всей исключительности его индивидуальности, уме, знаниях —в нем, например, много детской непосредственности. Очень любит играть в «испорченный телефон», «мнения», «шарады», устраивать интересные викторины... И сам участвует в этом самозабвенно. Невероятно артистичен! Участвуя в шарадах, играет все всерьез, по-настоящему. Когда начинаются шарады — весь дом переворачивается вверх дном! Костюмами становятся концертные платья, фраки, занавеси с окон, простыни, реквизитом — старинные вазы, кастрюли, книги... Я уже говорил, что с детства он любит театр, представления. Совсем мальчиком сочинил пьесу «Дора», которую однажды прочел нам. Всегда мечтал о домашнем театре и как-то один прекрасно проиграл нам пьесу Дюрренматта «Физики».
Обожает интересные выдумки, балы, маскарады. Участниками одного из них были и мы.
Как всегда, все тщательно готовилось заранее. Молодые и старшие «разбились на бригады». Кто-то клеил фонарики, кто-то оформлял комнаты, доставал костюмы.
Все раздобыли себе маски и домино и явились в Брюсовский переулок. Гостей встречали распорядители маскарада — маски, украшенные колокольчиками.
Вначале все немного смущались, жались по стенкам. Но вот одна из масок присела к роялю, грянул вальс и, как всегда у Рихтеров, стало непринужденно и весело. Маскарад «набирал силу». Неожиданно появились маски, которых никто не знал и не звал — «чертенок» с длинным хвостом, «гамэн» в лихо заломленной кепке, «японский лев».
И вдруг в дверях появилась пара: дама в пышном сером кринолине, длинных до локтя перчатках, со стеком в руке и элегантный мужчина небольшого роста в безукоризненном фраке, белых перчатках. Оба в цилиндрах и масках. Это было по- настоящему таинственно. Кто они? Долго никто не мог распознать в этой паре Елену Сергеевну Булгакову и Федора Николаевича Михальского.
Творческая энергия Рихтера заражает всех вокруг. Около него нельзя быть пассивным. И обрадовать его можно не дорогим, изысканным подарком, а чем-то новым, неожиданным» интересным, какой-то «выдумкой».
Когда в 1960 году он впервые уехал на гастроли в Америку, его возвращение решили отпраздновать домашним спектаклем. Этим немедленно занялась молодежь. Нашли небольшую пьесу Мольера «Сганарель, или Мнимый рогоносец». Нас, старших, к репетициям не допускали, все делали сами.
К приезду Рихтера все было готово, но держалось от него в строжайшем секрете. Волновались, понимая меру ответственности перед строгим зрителем, которому посвящался спектакль» зная, как он не терпит дилетантства. В день спектакля все умирали от страха. Но все обошлось хорошо. Свет зажигался вовремя. Музыка звучала там, где нужно, декорации не падали, актеры старались изо всех сил. Особенно смешным был Митя Дорлиак в главной роли Сганареля. Публика смеялась, но, главное, был доволен тот, кому посвящался спектакль. По его желанию спектакль несколько раз потом повторялся. И даже вызвал «цепную реакцию»: Святославу Теофиловичу немедленно захотелось организовать постоянный домашний театр и сыграть «побольше, а может быть, и все!» — пьесы Мольера. Образовалась «труппа», сам хозяин собирался сыграть несколько ролей, интересно разбирал намечаемые пьесы, показывал, как, по его мнению, надо читать монологи и, конечно, требовал совершенства. К сожалению, огромная занятость его да и всех остальных мешала планомерным репетициям, и на этот раз ничего не получилось.
Но молодежь, которой всегда полон дом Рихтеров, уже «была заражена желанием - творить, пробовать что-то новое. Родилась идея некоего условного театра. Не строились декорации, не было костюмов и мизансцен, но малоизвестные или вовсе неизвестные пьесы, тщательно отобранные и отрепетированные, читались по ролям. Подготавливалось это опять-таки по секрету от Рихтера.
Затея показалась интересной. Были прочитаны пьесы Олби, мистерия Александра Блока «Действо о Теофиле» (в этом уже и я принимал участие), радиопьеса Дюрренматта «Авария». Последняя долго не получалась, обратились за помощью к Святославу Теофиловичу. Он подсказал массу интересных деталей, и генеральная репетиция прошла блестяще.
На спектакль собралось много народа. Исполнители ахнули, когда увидели, что Ирина Антоновна Шостакович привела самого Дмитрия Дмитриевича. Его усадили в первом ряду. Перепуганные актеры «зажались», начали стараться, и все рухнуло. (Как часто случаются такие «камуфлеты» в нашей актерской жизни!) Ирина Антоновна рассказывала потом, что дома Дмитрий Дмитриевич растерянно говорил: «Не знаю, не знаю! Они все так кричали. Я почти ничего не понял!»
Как-то я прочел в этом «литературном театре» одну из своих любимых пьес — «Розу и крест» А. Блока. Зная, что я готовлю ее, хозяин соответственно оформил свой зал.
Когда Рихтер получил Ленинскую премию, «труппа» решила поздравить его. Подготовились. Пели «величальную» с измененными «к случаю» словами, было много интересных поздравлений.
В начале ноября 1978 года мы вдруг получили такое письмо:
«Многоуважаемые Валентина Павловна и Дмитрий Николаевич! Нина Дорлиак и Святослав Рихтер имеют честь просить Вас пожаловать на праздничный бал 6 ноября с. г. Съезд гостей к 8 часам. Форма одежды — вечерняя».
Такое же приглашение получили наши дети. Мы — растерялись. С «вечерней формой одежды» было более или менее благополучно только у меня и Наташи — у нас были концертные костюмы. У Валентины Павловны и Саши парадных туалетов не было.
Наташа кинулась в костюмерную своего театра и принесла для Саши черный парадный костюм, с внутренней стороны которого было написано «Лисички» (спектакль, шедший тогда в театре).
Началось нечто похожее на то, что происходило в доме Ростовых перед первым балом Наташи. Я как старый граф Ростов, глядя на Валентину Павловну, восклицал: «У-у-у, моя красавица! Лучше вас всех...» Наташа, совсем как Соня в «Войне и мире», металась около Саши, стоявшего на табурете, подкалывала ему брюки и с отчаянием в голосе вскрикивала: «Воля твоя! Воля твоя — опять длинно».
Без четверти восемь за нами заехала близкая подруга Наташи — Марина Лукьянова, тоже приглашенная на бал. Дамы включились в игру серьезно. Подбирая изящным жестом длинные юбки, оберегая прически и платья, все погрузились в такси, и мы поехали...
Лестничная площадка представляла собой красиво задрапированную и освещенную двумя итальянскими торшерами приемную. Встречали гостей и принимали «салопы и шубы» несколько молодых музыкантов, парадно одетых.
Гости толпились в столовой и холле. Дверь в зал была закрыта. Не слишком приученные к балам, все мы были чуть смущены.
Но вот раздался звук трубы, второй, третий, дверь в зал распахнулась. Зазвучал полонез из «Онегина», и восемь восхитительных пар величаво поплыли по залу. «Дамы» были одна лучше другой, руки и плечи по-бальному открыты, «кавалеры» — элегантные, торжественные, в черных парадных костюмах. Зал был освещен множеством светильников в виде раковин на серебряных аппликациях (хозяйственная фольга, искусно вырезанная). И в этом опять было Искусство! Не только зал, но и другие помещения были великолепно оформлены. Были, например, «восточная комната» (ковры, сюзане, светильники, узкогорлые кувшины, восточные куренья), цветущий зимний сад с фонтаном посередине. В нем пел соловей! (Ковры и сосуды собирались у друзей, 300 штук белых цветов («сад должен цвести!») вырезали, шили, клеили и нанизывали на прутья три дня и три ночи «активисты» бала, а пенье соловья было записано на магнитофонную пленку.)
В «восточной комнате» можно было выпить вина, отведать сластей.
Все было необычайно парадно, красиво, празднично.
Бал удался!
Вальс сменялся полькой, полька — мазуркой. Каждый танец начинали все те же восемь пар, но к ним тут же присоединялись все желающие.
(Как я узнал позже, весь бал был заранее, конечно, организован и расписан хозяином и его помощниками. Были и репетиции.) Танцы сменялись музыкальными номерами. Играл сам хозяин, пела ученица Нины Львовны — Алла Аблабердыева, одна из приглашенных дам — балерина — посредине зала исполняла изящный сольный танец со свечами. Играли Андрей Гаврилов и Сергей Гиршенко.
Незадолго до конца бала были представлены две живые картины: «Индийская гробница» и «Проказы Дон Жуана».
Идеальная организованность придала балу праздничное ощущение свободного веселья, полной непринужденности и раскованности! Никто никого не стеснялся. По-моему, все чувствовали себя в этот вечер красивыми и счастливыми. Не было нахмуренных, смущенных лиц.
«Современный танец «Чикаго»... Танцуют все, кто хочет и как хочет!» — объявлял Андрей Гаврилов. Светильники гасли, как в настоящем дансинге, зал становился то зеленым, то красным, то желтым (фонарь с самодельной вертушкой и разноцветная слюда), сыпались конфетти, летели ленты серпантина, взвивались к потолку воздушные шары...
Самозабвенно отплясывали посреди зала молодые музыканты, которых совсем недавно мы видели на сцене Большого зала Консерватории такими серьезными, подтянутыми. И между всеми носился, танцуя то с одной, то с другой дамой, все организуя, во всем принимая участие, едва ли не самый молодой среди молодых — хозяин Святослав Рихтер.
Около трех часов ночи через все комнаты, под звуки полонеза из оперы «Пан воевода», мерно, изящно приседая, прошли все участники бала.
Так закончился этот прекрасный праздник, который был повторен 8 ноября.
Не так часты эти радостные праздники-встречи, ведь я рассказываю о почти сорокалетием периоде нашей дружбы. Тем больше мы дорожим ими, так же, как и тем, что судьба посылает нам возможность слушать Рихтера, испытывать душевное потрясение от встреч с музыкой в его исполнении, вновь и вновь поражаться титанической энергии замечательного Артиста.
После праздников приходят творческие «будни», и вот опять мы получаем открытки издалека:
«Дорогие Журавли! Здравствуйте! Я смотрю на панораму Бёрна с зеленой рекой внизу. Передо мной горы Швейцарии. Концертов много. Заниматься приходится все время («не покладая рук»), иначе... опасно. Пожелайте мне удачи»...
[1] Перевод слова «натюрморт».
[2] Стихотворение «Баллада». Библиотека поэта, Б. с., 2-е изд. М., «Советский писатель», 1965, с. 353.

Egy barátság levelei. Sz. Richter és Ny. Dorliak levelei Fejér Pálhoz.
Письма С. Рихтера и Н, Дорлиак Палу Фейеру. Budapest 2015.
"Вспоминая Святослава Рихтера"
Святослав Рихтер глазами коллег, друзей и почитателей
М.: "Константа" - 2000 - 383 с.
Г.Коган.
Советское пианистическое искусство и русские художественные традиции. Москва - 1948.
Школа Нейгауза.
Фрагмент.
В годы войны сильно выдвинулся еще один ученик Нейгауза – молодой пианист Святослав Рихтер. Широта его музыкального кругозора, сила и верность инстинкта, легкость, с которой ему дается внутреннее и внешнее раскрытие произведения, огромная техническая свобода открывают перед ним такие перспективы, масштабы которых еще плохо поддаются ясному учету. Однако смелые, порой дерзновенные замыслы Рихтера не всегда еще находятся в художественной гармонии со стилем произведения и пианистической реальностью воплощения. Всё же Рихтер уже сейчас замечательно играет Рахманинова и Чайковского, Шуберта и Листа. Это едва ли не самое многообещающее дарование среди советской пианистической молодежи. Первая премия на третьем всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей (в 1945 году), разделенная им с талантливым В.Мержановым, несомненно, только начальное звено в цепи ожидающих его успехов.

В.Ю.Дельсон
СВЯТОСЛАВ РИХТЕР
В помощь слушателям народных университетов культуры.
Беседы о музыке.
М.: "Советский композитор", 1960 г. 26 с.

Л.Гаккель. Прокофьев и современные пианисты
В сборнике «Об исполнении фортепианной музыки Баха, Бетховена, Дебюсси, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича»
Редактор - Л.А.Баренбойм
Прокофьевская музыка убедила в своем богатстве – и гораздо раньше, чем многие современные ей художественные явления; во всяком случае, в 30–40-х годах ряд исполнителей без предвзятости принял Прокофьева как советскую музыкальную классику. Да, жили штампы (и – увы! – продолжают жить), но в целом «прокофьевская исполнительская культура» на рубеже 40-х годов встала весьма высоко, и мы имеем здесь в виду не только фортепианную игру, но и инструментальное исполнительство (Ойстрах – Первый скрипичный концерт), и балет (Уланова– Джульетта), и другие жанры с менее яркими удачами. Была прокофьевская «звучащая среда», и из нее, в конце концов, вышел – не мог не выйти – тот исполнитель, который в себе нес все лучшее, до него найденное, и означил собою новый уровень интерпретации Прокофьева. Речь идет о Рихтере.
3
Не характерно ли, что новая полоса в жизни советского пианизма – а Рихтер ее, безусловно, открыл, – началась вместе со всхождением на новый уровень в прокофьевских интерпретациях? Двадцатипятилетний Рихтер появился на большой эстраде именно с Прокофьевым – с Шестой сонатой.[1] «В самом этом факте есть нечто символическое, как если бы громовые фортиссимо... в Allegro moderato сонаты, подобно победным салютам, возвестили о приходе нового героя в мир фортепианного исполнительства. Даже не о приходе... о вторжении – неожиданном и ошеломляющем».[2]
Двадцать лет спустя мы получили удивительный по силе литературного выражения отрывок Рихтера «О Прокофьеве». Исчерпывающе сказано там о «пути к Прокофьеву» – как в узкобиографическом плане (встречи с композитором, знакомство с отдельными его сочинениями), так и в плане внутреннего опыта, опыта общения с прокофьевской музыкальной индивидуальностью. Нам остается прокомментировать ряд мест этого отрывка.
«К прокофьевской музыке я.. относился с осторожностью... Слушал всегда с интересом, но оставался пассивным. «Мешало» воспитание на романтической музыке».[3] Это – 1937 год. Рихтер в классе Нейгауза. Нейгауз хоть и уходит в 30-е годы от былых ультраромантических пристрастий (Скрябин), но, конечно, всем существом своим по-прежнему связан с романтическим музыкальным идеалом, соединившим «устремление ввысь», фантастичность и, может быть, долю «сатанизма». Рихтер получает от учителя (как ранее – от одесского музыкального окружения) обширный романтический багаж, однако стоит иметь в виду следующее: на первых порах романтическое наследство мешало искренне откликнуться на музыку иного корня, 2 но затем, уже после «вторжения» в прокофьевский мир, обогатило диалог между автором и интерпретатором неожиданными поворотами мысли последнего, необычным углом зрения, почти всегда находившими (и это делает честь интуиции Рихтера) предпосылки в прокофьевском тексте. Все лучшее от эпохи «романтического Прокофьева» досталось Рихтеру: ощущение радостности, мажорности прокофьевской музыкальной стихии, да и само это ощущение стихии – неслабеющего эмоционального накала музыки Прокофьева, неслабеющей энергии ее ритма.
«...сочинением, которое заставило себя полюбить и через себя вообще Прокофьева, оказался для меня Первый скрипичный концерт».3 К Прокофьеву – через лиричнейший опус! Не через изощренный по языку Виолончельный концерт, который Рихтер в 1938 году проходил с солистом перед премьерой (для профессионала, казалось бы, увлекательная работа, для Рихтера же – он никогда не был только профессионалом! – небезынтересная, но внутренне пустая), а через простое, даже наивное местами произведение, эмоционально совершенно «открытое». Не здесь ли исток очень простого – в хорошем смысле – отношения Рихтера к прокофьевской лирике? Пианист вовсе не имеет целью во что бы то ни стало отыскать «специфику» этой лирики – «косвенной», как когда-то писал В. А. Цуккерман,4 или какой-либо иной. Он просто услышал, в Скрипичном концерте – и слышит до сих пор в любом прокофьевском сочинении – вечное лирическое начало музыки, говорящее голосом- Прокофьева искренне, как ранее оно говорило голосами Моцарта, Шопена или Чайковского. Если уж искать специфику, то она как раз в чистоте лирики, в отсутствии всяких осложняющих мотивов (эротики), в бесхитростности выражения. Рихтер велик в незамутненном прокофьевском лиризме, и полным смысла видится факт рождения его как «прокофьевиста» под звездой Скрипичного концерта.
«Одно из сильнейших впечатлений было от исполнения… Третьсй симфонии в 1939 году... Ничего подобного в жизни я при слушании музыки не ощущал. Она подействовала на меня как светопреставление».1 Что можно к этому добавить? Новая веха на пути к Прокофьеву: неистовый романтизм. Сильнейшая реакция Рихтера-слушателя, выросшего в гуще немецкой позднеромантической музыки (Вагнер, Брукнер, Р. Штраус), доказывает, что в Прокофьеве услышал он романтизм, да не тот... Опера «Огненный ангел» и связанная с нею Третья симфония – это истинное «скифство», эмоции в своем первозданном, сверхинтенсивном, по слову Рихтера, проявлении. Здесь огромное нервное напряжение 20-х годов (оба сочинения – заграничного периода), раскованное художником сильной воли, резким, прямым, абсолютно чуждым всякой недоговоренности. Надо думать, Рихтер впервые прикоснулся в Третьей симфонии к «лобовой» экспрессии Прокофьева, к его ошеломляющему динамизму, его лапидарной драматургии, ощутил слепящий блеск красок в прокофьевских музыкальных максимумах. Залетевшая искра уже через год огнем взметнулась в Шестой сонате у Рихтера. ..
«...«Семен Котко». Премьера оперы – колоссальное событие в моей жизни. Из тех, которые меня к Прокофьеву в полном смысле слова притянули!»2 Замечательное признание, вручающее ключ к объяснению большой этической нагрузки рихтеровских интерпретаций. «Семен Котко» – драма народных характеров в острейшей социальной ситуации, музыкальное решение всегда актуальных общественных тем: народа, народного героя, социального столкновения – характерно-жестокого – и т. д. Любой эпизод оперы звучит в общей системе, общем тоне музыкальной фрески «Гражданская война», и Прокофьев нигде не допускает облегченных («оперных!») трактовок личных отношений, пейзажа, наконец массовых сцен. На всем ощутим след огромной темы – и вот эта пропитанность каждого такта музыки большой общей идеей придет от «Котко» в прокофьевский репертуар Рихтера.
И еще – эпический колорит русского музыкального языка, так органично и так экспрессивно звучащего в «Котко», стал для Рихтера желанным тоном многих – если не большинства – номеров будущих его прокофьевских программ. Тон этот не только суров и полон достоинства, но и объективен. Конкретно об этом – ниже, здесь же приведем еще одно лаконичное свидетельство Рихтера о соприкосновении его с «эпическим Прокофьевым»: «Тогда же я видел кинокартину «Александр Невский», от которой у меня осталась, главным образом, музыка... я не мог ее забыть».[4] [5] Впечатления от «Александра Невского» легли в одно русло с впечатлениями от «Семена Котко»: схожи, в сущности, и коллизии, и язык, равновелик этический вес обоих сочинений, масштаб их позитивных идей. Прокофьев, утверждающий патриотизм, социально направленную героику, народную мораль, – вот последний рубеж Рихтера перед Шестой сонатой, столь многое определивший!
Шестая соната... «Необыкновенная ясность стиля и конструктивное совершенство музыки поразили меня. Ничего в таком роде я никогда не слышал. С варварской смелостью композитор порывает с идеалами романтики и включает в свою музыку сокрушающий пульс XX века»(2).
Рихтер пришел к Шестой сонате с достаточной «прокофьевской эрудицией».[6] Он знал и лирику, и героику, и «скифство», знал произведения всех периодов и многих жанров. Тем характернее, что в Шестой сонате он прежде всего услышал современное; Соната – и юмор, и лирика, и ирония, но надо всем – «пульс XX века». Почему Рихтер не почувствовал его в Виолончельном концерте – образцово-модернистском по языку сочинении, но нашел в Шестой сонате с ее эпическим порою колоритом? Ответ прост: современное – в остроте и масштабе конфликта. Центральные в драматургическом отношении части Сонаты – I и IV – несут жестокие конфликты национально окрашенного лирического материала и тем действия, агрессивных, напористых, интонационно никак не соприкасающихся с «русским материалом». Такое направление конфликта не перекликается ли с гражданскими коллизиями «Котко» или «Невского»? Притом конфликты в Сонате пронизывают всю структуру, отпечатываются на каждой детали – во всяком случае, в крайних частях. (Да и интермедийные части – II и III – вовсе не беззаботны: и там сопоставляются разные интонационные строи, давая ощущение если не конфликта, то контраста, весьма резкого).
Вот где «пульс XX века» – в пронизанности всего музыкального организма противоречиями и, может быть, еще в императивности тона, в какой-то особой обнаженности намерений – равно в лирике и агрессивных, напористых темах. Только напрасно, на наш взгляд, отрицается связь с «идеалами романтики. Что бы Рихтер при этом ни имел в виду - романтическую музыку или романтизм (а то и романтику) в широком смысле слова, его определение «варварская смелость» само ставит вещи на место. В разрыве с чувственностью, рефлексией, экзальтацией проявлено столько радикализма, столько при этом истрачено душевного жара, столько фантазии, что художественным результатом оказывается небывалая непосредственность, «первичность» выражения, далеко уводящая слушателя от традиционных путей восприятия музыки. «Бегство от привычного» [7] в прокофьевском замысле, в прокофьевском тексте (а отсюда – и освобождение слушательского восприятия от «очевидности» и «привычности» ) – разве это не романтизм ?
Да, романтизм, и в Шестой сонате Прокофьева, соседствуя с эпосом, своеобразно его окрашивая, он рождает мятежный тон; композитор пишет о смелых поисках личного решения в сознании большой, объективной правды о современности. Рихтер услышал тон Сонаты...
И он нашел ему звуковой эквивалент.[8] Это – господство пронзительного, режущего слух верхнего регистра. И в крайних – конфликтных – и в интермедийных частях звучание верхнего регистра заслоняет другие тембровые линии; доминирующий верх оказывается в Сонате чуть не единственным вариантом регистровки. Таким «варварски смелым» решением Рихтер сберегает единый эмоциональный строй произведения, единое начало в разноголосице образов. Впрочем, почти все выразительные средства употребляются пианистом стабильно – в желании охарактеризовать «атмосферу» сочинения.
I часть. Главную партию Рихтер ведет ровным forte, не выпячивая ни одной доли (маркируя их все!), неизменным поп legal’HbiM штрихом; артикуляционный рисунок басов ровнее, чем в тексте: первая и вторая доли одинаково весомы. Образ вышел воистину литым – жесткий императив реальности! В связующей – динамический спад, но, скорее, за счет густой педали, а не иной силы звучания; педаль, кстати, позволяет «вязать» мелодическую линию в мартеллятном рисунке, обходясь без акцентов. Рихтер весь раздел играет агогически гладко и к побочной теме переходит без агогического «шва»: словно сгустившаяся тревога с неизбежностью рождает очень личный, лирический – в широком значении слова – ответ.
Побочная партия подвижна, свободна агогически, звуковой колорит тут иной: больше гула, верхний голос «погашен» – и это в параллельном движении на неподвижном басу! Уход от «очевидного» пианистического решения ради импульсивности, непосредственности высказывания (импульсивность –почти всегда суммарное использование выразительных средств), ради лирического тепла (насыщенная звучность)... Уже пошла фигурация заключительной партии, но наверху – мелодия побочной, и Рихтер все еще мягок, все еще заботливо хранит вибрато – традиционное звуковое качество лирической темы, но вдруг тема исчезает, остается одна только фигурация, и исполнение «оскаливается» жесткой, гремящей звучностью. Это уже музыка без гула, без баса, в каком-то пугающем обнажении своих экспрессивных возможностей. Верхний голос вновь нестерпимо резок, и интенсивность краски позволяет Рихтеру организовать тембровый конфликт: глухой стук басовых аккордов «перечит» фальцетным верхам. Перед началом разработки басы почти вовсе исчезают из поля слуха – Рихтер мудро экономит их в предвидении активных выступлений баса в дальнейшем.
Разработка как фрагмент исполнительской трактовки определена двумя явлениями: резко атаккированной звучностью верхнего голоса и стабилизацией баса, имея в виду стойкую динамическую краску или, что то же, почти полное отсутствие нюансов. Если к этому досказать еще, что Рихтер играет здесь почти без педали и сплошь non legat’ным штрихом, нетрудно представить себе «стальной блеск» звуковой картины; пианист ясно видит, что прокофьевская разработка – не трансформация материала и даже не развитие его, это – решительное заявление одного из образных начал, а именно, начала агрессии, жестокого действия. Поэтому Рихтер обходит путь «сюжетной» разработки (сюжет, цепь событий–традиционное исполнительское решение разработок) и чуть не с первой ее ноты включает кульминационное напряжение – не звукосиловое (например, два-три forte), а скорее артикуляционное: напряженное произнесение каждого мотива, каждого интервала. Нет проходных кусков, все веско, даже в гаммообразной фигурации con brio скандируется каждая нота. Архитектоническая кульминация у Прокофьева озвучена высоким регистром; это апофеоз рихтеровской интерпретации. Третья октава буквально взрывается сухой, наэлектризованной звучностью – без педали и три forte. Сноп искр! И уже до конца разработки – словно разлился жесткий свет пламени: аккорды на «точечной» педали, без тени вибрато, без басов, колкий верхний голос, вновь закрывший другие линии... Наконец, реприза. Материал главной партии дан автором в низком регистре и просит, казалось бы, «умиротворяющего» пианистического решения. Но у Рихтера достает внутренних сил прочесть конфликт, больше – мятеж! – также и в репризе. Он выбирает приемы еще более острые. Басы в главной теме делаются короче, звучат «выстрелами» (артикуляционным путем Рихтер преодолевает инертность значительных акустических масс), в изложении побочной темы смещается акустическая перспектива: голоса звучат равнозначно, отсюда – ощущение твердого, бескомпромиссного противостояния. I часть у Рихтера заканчивается целой полосой громкой, беспедальной звучности, полосой эмоционально-неподвижной – пианист утверждает объективный мир в малой его изменчивости, но и в грозном величии его данности...
Другая конфликтная часть Шестой сонаты – финал – дает материал для реализации той же исполнительской идеи, которая окрасила у Рихтера I часть. Нет сюжета, есть тон. Конфликт у Рихтера обходится без фабулы, но отпечатывается на эмоциональном, звуковом строе интерпретации. Как пример приведем эпизод Andante. Это – перелом в движении музыки: реминисценция сразу двух тем I части, ставящая самое форму – и, разумеется, наше восприятие – перед необходимостью откликнуться на новый и более объемный круг проблем: личное в соотношении с диктатом внеличного, настоящее и прошлое и т. д. Изложение тем многозначительное, детали (смены размеров, различные сопряжения вертикали и горизонтали, регистровка) вызваны оттенить «центральность» эпизода в идейно-образной жизни сочинения и в его форме. Как поступает здесь Рихтер? Он играет недеталиэированно, ровно агогически (характерен подход к последнему проведению A-dur’ной темы – без попыток оттяжками прибавить значимость моменту), почти без всяких динамических расцветок. Но он находит тон фрагмента, богатую смыслом звучность: суховатую, с резко прочерченными верхами, на «полупедали» и в черте тр – р. Неукоснительно выдерживаемая на всем протяжении Andante, она дает впечатление напряженного вслушивания в голоса памяти...
«Тон» найден и для других тем финала. По большей части, это жесткое, «ударное» звучание. Оно определяет колорит второй эпизодической темы (на остинатном басу е), дробящимся стеклом звенит gis-moll’ная тема, причем стремительная гаммообразная фигурация дается marcatissimo, становится «криком». Чуть мягче по тону начальная тема:, гуще педализация, штрих летучий, не столь маркатный, как в эпизодах. Густая педаль, однако, как бы сжимает, суммирует фигурацию, делает ее сумрачной и далеко уводит от этюдности.
Характерно динамическое выравнивание целых разделов, особенно же – прилегающих к центральному эпизоду Andante. До него (рефрен) – музыка движется без агогической градуировки, стремительно-ровно, прозрачнее по педали и более маркатно; динамика никак не откликается на смену регистров. После – когда перелом в эмоциональном развитии и развитии формы уже произошел – Рихтер с поразительной последовательностью нагнетает иной, еще более зловещий колорит. Он играет совершенно «бессюжетно», недеталиэированно, но в стойком единстве звуковой краски, штриха, приема педализации: non legato,
короткая педаль, режущие верхи. При этом – никакой метричности, никаких акцентов на сильную долю; финал течет сплошным временным потоком, сбивающим тактовые границы. Только дважды в заключительном разделе Рихтер позволяет себе выйти за пределы им же очерченного круга приемов: один раз – это rinforzando перед последним рефреном, другой – акцентирование ритмического устоя перед началом коды, и оба эти «выхода» представляются краями, новыми ступенями эмоционального подъема.
Парадоксально, но факт: интермедийные части, более цельные по настроению и характеру материала, подаются Рихтером куда более разнообразно по приемам, чем Allegro moderato и финал. Сказанное в меньшей степени касается II части: средства там в основном определяются скерцозным характером музыки; зато в медленном вальсе – III части Сонаты –предметом исполнительской инициативы становится почти каждая деталь. При этом Рихтер не теряет из виду, если можно так выразиться, «звуковую сверхзадачу» своей интерпретации: жесткий колорит, рождаемый атаккированным звукоизвлечением в верхнем регистре. Так, например, первый показ темы идет на глухих басах, и всю выразительность принимает на себя верхний голос, наделенный не только рельефностью звучания, но и агогической свободой. Однако рядом – много гибких звуковых решений. В эпизоде росо piu animato подголосок – не сплошной линией, но отдельными «точками» – перекрывает мелодию, выразительно контрапунктирует ей; в начале второго периода Рихтер делает подголосок инициатором агогического нюанса (ritenuto), а перед кадансом – едва ли не впервые в Сонате! – заставляет голоса обмениваться своими функциями в звуковой картине. Раздел a tempo – вновь в духе основного тона Сонаты (если возможна такая метафора): резкая, беспедальная звучность; в кульминационном фрагменте tempo I Рихтер не пользуется и малой долей выразительных возможностей низкого регистра, центр тяжести – в аккордах правой руки. Но вот реприза, и здесь снова несколько находок: в контрапункте – линия среднего голоса агогически сдержаннее линии верхнего, каданс – без «смакования» мелодической модуляции (верхний голос неожиданно прячется).
Как видим, лирическая часть решена свободнее, но в целом Соната выглядит строго, исполнение ее Рихтером до необычного избирательно по средствам, и сквозь эту избирательность нельзя не ощутить смысла трактовки: столкновения личного и объективного; последнее – жестко, устойчиво по тону, но не бездейственно, не статично, «личное» же – в импульсивной подаче национально-характерного материала (побочная партия I части, As-dur’ный эпизод вальса, средний эпизод II части и т. д.). В этой антитезе, разработанной с максимальной интенсивностью, заложен эпический мотив («объективное») и, конечно, мотив общественный: жестокая реальность не дает обрести личного равновесия, сообщает личности огромную тревогу. Говоря при этом о «максимальной интенсивности», мы имеем в виду громадный заряд романтического темперамента у Рихтера, «скифство», сказывающееся в резкости, прямоте решений (иногда и в гиперболичности их), в непосредственности эмоциональных раскрытий.
Едва ли не впервые прокофьевская музыка обретает в исполнительском решении такой драматизм, получает такую моральную нагрузку. Прокофьев и Рихтер совпали в главном – в конфликтном мышлении и ощущении национального характера в музыке. От единства в главном – никакой фальши в деталях. Музыка Шестой сонаты предполагает и жесткую звучность, и ведущую роль верхнего регистра в акустической структуре, и частые non legato и динамическую «одноцветность» целых разделов, шире – единый эпический тон.[9]
Дебют состоялся. Началось энергичное освоение прокофьевского репертуара. Того же 26 ноября 1940 года Рихтер играл несколько «парижских» пьес (Рондо, ор. 52 № 2, Пейзаж и Пасторальную сонатину, ор. 59), в марте 1941 впервые после автора исполнил Пятый фортепианный концерт, а в программу своего первого сольного вечера (июль 1942 г.) включил Вторую сонату.
Ранний Прокофьев. . . Порыв, фантастика, ирония… Музыка романтичная настолько, что у Рихтера, воспитанного на романтиках, она поначалу даже не вызвала ощущения новизны; во всяком случае, для Второй сонаты Рихтер в воспоминаниях нашел лишь несколько сухих слов. Но он включил ее в программу первого Klavierabend’a! Видимо, со временем (знакомство с Сонатой произошло в 1938 г.) отыскался исполнительский «тон», выведший это сочинение из сферы привычно-романтической музыки, сфокусировавший новаторские его черты и заставивший наполниться «пульсом XX века». Позднейшая запись [10] убеждает в сказанном: мы слышим цельное и суровое произведение.
В I части (да, пожалуй, и во всей Сонате) Рихтер решительно отказывается от ударной игры (разумеем атаккированную звучность и засилье штрихов non legato). Он видит свою исполнительскую задачу в создании детализированной, расчлененной акустической картины, и, надо сказать, акустическая картина возникает на редкость изящная. Каждый миг прокофьевской музыки у Рихтера – это звуковая композиция с несколькими планами и с ощутимым «воздухом» между голосами («воздух» – не в вибратном ореоле вокруг отдельных звуков, а в тонкой динамической соотнесенности линий, отчего одна звучит «ближе», другая – «дальше»). При этом – множество артикуляционных, агогических, колористических находок.
В главной партии I части Рихтер выразительно оттягивает по темпу второе предложение, утверждая остинатное начало – драматургически весьма существенное. В связующей интересна «мелодизация» фигурационного элемента в теме: гаммообразные ходы подаются тем же значительным звуком, что и ведущая интонация. Предметом особой своей заботы в побочной партии Рихтер делает короткие лиги: безукоризненно их выполняя, последовательно отъединяя мотив от мотива, он сгущает интонационное напряжение – как того хотел автор; звучность верхнего голоса приобретает уже известную нам по Шестой сонате резкость. Побочная в целом менее всего выглядит лирическим «разливом» – она упруга, рельефна, действенна. В заключительной теме исполнитель уклоняется от традиционной здесь «вопросо-ответной» динамики (правая рука – отзвук левой), он вяжет единую динамическую и интонационную линию, не оглядываясь на скрытый голос в басах (dis – d – с); фрагмент приобретает цельность, быть может, несколько теряя в остроте.
Разработка – которая во Второй сонате есть перетасовка материала и механическое его суммирование, вполне комедийное, – интенсивно освещена Рихтером с точки зрения гармонического развития; он пользуется каждой возможностью для того, чтобы скрыть инертность модуляционного плана: скандирует басы при отклонениях (и тем преувеличивает гармонический смысл последних), агогически подчеркивает кадансы и т. д. Выдающимся мастерством отмечен раздел serioso – это настоящий сценический квартет, где у каждого голоса не только свой тембр, но и своя «мизансцена», свое стабильное положение внутри акустического целого. Напряженнее других – верхний голос, и, видимо, не столько от симпатии пианиста к побочной теме, проводимой верхним голосом, сколько от ясного видения стилистической, закономерности: у Прокофьева верхний голос, как правило, отмечен наибольшей активностью интонационного развития (здесь – он один только и движется, остальные голоса остинатны).
В репризе ярко запоминается non legato фигурации, сопровождающей главную тему: благодаря короткому штриху весь материал приобретает больший динамизм. Пожалуй, реприза вообще динамичнее экспозиции; в целом же I часть у Рихтера всего менее гротеск, гримаса, она решена необычно строго – и интегрально, если так можно выразиться: контрастность, разнохарактерность материала сглажена, это один образ – динамичного, собранного и умного героя.
II часть – скерцо, но не токката! И Рихтер играет скерцозно: прежде всего легко. Басы – те самые, кроме которых у иных пианистов» вообще ничего нет в этой части – он прячет, дает коротко, сухо. Зато чуть заостряет артикуляционный рисунок в среднем эпизоде («польке»): отрывает концы фраз, и неизбежный при этом легкий звуковой укол на сильные доли «выстраивает» четверти в одну динамическую линию. Акценты в высоком регистре и безакцентные басы – такое решение и есть скерцо, шутка...
III часть Сонаты обычно вызывает образные ассоциации с лесной чащобой – не в «дремучести» ли самой фактуры, не в полифонической ли ее густоте тут дело? Возможно, фактура даже «загущена» несколько – и Рихтер, думается, прав, разрежая ее динамическими приемами: он сразу устанавливает гегемонию верхнего голоса и сохраняет ее даже там, где в тексте нет никаких указаний на подчиненную роль других голосов (изложение темы – от такта 14), равно как и там, где автор ремаркой привлекает внимание к колористическим возможностям другого голоса («il basso fenebroso» – от такта 30). С басами Рихтер очень осторожен: ему не нужен гул, и, кроме одного раза (два вступительных такта), он избегает педализации по басам и темповых оттяжек (без многозначительности проходит и смена разделов: сохраняются звуковая краска и мера движения). От неизменной звонкости верхних голосов и меньшей, чем на то давал право текст, объемности, глубины баса – необычно легкий, светлый колорит всей части. Романтический пейзаж?.. Скорее – та самая простая лирика, которую Рихтер впервые услышал у Прокофьева в Скрипичном концерте, скорее – человеческий голос.
Финал тоже решен через детализацию звучания, а не через подчеркивание ритмического начала. Конечно, ритм тверд, но в этой своей твердости почти незаметен, во всяком случае – никакой «ударности». Рихтер понимает, что при размере 24 и темпе Vivace всякий метро-ритмический акцент, не предусмотренный автором, может существенно исказить интонацию, – и насколько возможно, избегает акцентировки. Вся первая тема идет у него без акцентов; целостность ее усилена выдержанной звуковой характеристикой. В побочной С-dur’ной теме кажется сначала, что правая сильно акцентирует – но далее выясняется, что маркированное staccato – это звуковая краска, тема вся такая, от первой .до последней ноты (разумеется, с поправкой на динамику). Последовательность в характеристиках у Рихтера изумительна! Вот идет второй показ побочной темы. В верхнем голосе – аккомпанирующие аккорды. Внезапно в этом же регистре оказывается голос, излагающий тему. Пианист не меняет звучности – и добивается удивительной пластичности, удивительной гибкости в переходе от одного момента «формы как процесса» к другому.
В тактах 97–112 автор соединяет связующую тему с аккомпанементом побочной. Возникает полиритмический узор. Обычный в таких случаях исполнительский прием – скандирование ритма в одной из линий. Рихтер вообще ничего не скандирует: голосам сообщаются контрастные звуковые характеристики (как, собственно, и указано в тексте), и этого оказывается вполне достаточно для того, чтобы вызвать ощущение контрапунктирования.
Таких лримеров из финала можно было бы привести множество. Скажем, органный пункт cis в разработочном разделе: у Рихтера он дается иным штрихом, чем остальное, – более «тенутным», и он отлично слышен без всякого акцента. Всюду, в этом разделе Рихтер тщательно дифференцирует авторские обозначения: ʌ –это штрих, > – акцент, очень легкий; внимание к знакам позволяет полностью избежать столь обычных здесь звуковых преувеличений. Интересно, что этот же самый cis, негромко, но отчетливо поданный в разработке, ясно выявлен пианистом и в составе аккордов (два последних такта перед репризой).
Остается сказать об эпизоде Moderato. Музыка у Рихтера здесь вовсе не «проваливается» в иную динамическую плоскость. Она звучит оперто, динамически насыщенно и тяготеет к crescendo. Все состояния финала активны! При этом – ни тени повелительности, а только легкость и каприччиозность. Да и во всей Сонате императивности значительно меньше, чем в позднем Прокофьеве у Рихтера. Но строгость тона и здесь бесспорна. Рациональная организация звучания в каждый момент музыки поддерживает ощущение цельности образа. Это – калейдоскоп впечатлений, но это – один герой. И герой, начисто лишенный скепсиса, не иронизирующий и чуждый гротеска. Он – целен, интенсивность же его движений, его восприятия – истинно романтична...
Рихтер ясно увидел во Второй сонате несколько иную стилистическую манеру, чем в прокофьевских сочинениях советских лет. Поздний Прокофьев свободнее в настроениях, мыслях и приемах, и часто в их пестроте, несогласованности он открывает богатейшие выразительные возможности; ранний Прокофьев – более догматичен, более привержен раз найденным нормам письма, ревнивее к некоему «стилистическому пуризму».[11] И Рихтер во Второй сонате крепче замкнут в кругу нескольких приемов, но уж зато стилистическая картина кристально чистая! Из этих приемов, полностью отвечающих сущности текста, отметим и мелодизацию фигуративного элемента (у Прокофьева фигурация редко бывает чисто гармонической), и фразировку по мотивам, и стабильные звуковые характеристики (в прокофьевском тексте голоса бывают надолго локализованы в определенных функциях – и в определенных регистрах).
Итак, еще одна веха на «прокофьевском пути» Рихтера. Мы не будем столь же подробно писать о следующих этапах этого пути – о них уже много писалось.[12] Да и простой их перечень достаточно выразителен: первое исполнение Седьмой сонаты (январь 1943 г.), выступления с Четвертой сонатой (июнь 1943 г.), Первым концертом (декабрь 1943 г.), одно из первых исполнений Восьмой сонаты (декабрь 1945 г.), показ триады поздних сонат – Шестой, Седьмой и Восьмой – в одной программе (май 1946 г.), первое исполнение Девятой сонаты (апрель 1951 г.) –не говоря о многочисленных премьерах мелких форм. Ясно, что Рихтер занял центральное место среди советских «прокофьевистов», и дело тут, конечно, не только в полноте репертуара; главное – гибкость, смелость, разнообразие интерпретаций, огромная непосредственность выражения. Говоря о прокофьевской лирике у Рихтера, мы уже упоминали о гибком отношении пианиста к «специфике стиля», о восприятии им Прокофьева как частицы огромного, всеобщего «моря музыки». Такое восприятие и выводит Рихтера вперед в рядах прокофьевистов: для него Прокофьев полностью лишен привкуса экзотичности. Никаких условностей не видит он ни в героике, ни в лирике, ни в «жанре» Прокофьева, он выражает их с романтическим пылом, в сознании высокой их содержательности, высокой эстетической ценности. Отсюда – наибольшая естественность в сочинениях советского периода, в которых Прокофьев сам далеко ушел от беззаботного искусства, от искусства-игры, в которых многого достиг в гражданственном, гуманистическом плане. А поздние сочинения бросили отсвет и на рихтеровские толкования раннего Прокофьева.
Пианистические средства Рихтера так же богаты, как богата поздняя прокофьевская музыка, – и так же непредвзяты, исполнитель и здесь свободен от догмы. Это не значит, что он не чувствует стиль, тон произведений – мы как раз и пытались показать, что он. их великолепно чувствует, – но он видит стиль каждый раз в конкретном запечатлении, а не стиль «вообще» с какими-то его канонами. Поэтому так гибок он в приемах, такой разный от произведения к произведению, от трактовки к трактовке. И, пожалуй, он гибче автора как пианиста, если сравнивать их в рамках одного и того же – раннего – репертуара («Наваждение», «Мимолетности» и т. д.). Автор все-таки более экзотичен в своей исполнительской манере. Рихтер мягче, он не так резко очерчивает круг «неповторимых черт», он хочет в неповторимом заставить узнать вечное и, в конце концов, всем ведомое: человеческое тепло музыки.[13]
С поздним репертуаром положение иное. Хотя Рихтер, скажем, Шестую сонату получил «из рук» автора (Прокофьев впервые играл Сонату в его, Рихтера, присутствии) [14]– в общем, исполнительское освоение поздних прокофьевских сочинений протекало вне авторской исполнительской модели: Прокофьев их публично не исполнял. И пианизм Рихтера инициативно и свободно развернулся на первоклассном по качеству материале.
[1] 26 ноября 1940 г., Малый зал Московской консерватории. В своем отрывке «О Прокофьеве» (сб. «С. С. Прокофьев. . .», стр. 462) Рихтер указывает другую дату— 14 октября 1940 г., однако наличие в прокофьевском архиве печатной программы концерта, датированной 26 ноября (ЦГАЛИ, ф. 1929, оп. 1, ед. хр. 914), заставляет усомниться в датировке Рихтера.
[2] Д. Рабинович. Портреты пианистов, стр. 228,
[3] Сб. «С. С: Прокофьев. . .», стр. 457.
[4] С б. «С. С. Прокофьев...», стр. 460.
3 Там же, стр. 461.
[6] Во всей музыкальной биографии Рихтера поражает интенсивность накопления «внутреннего опыта», предшествующего техническому освоению ранее не игранной музыки. Не должно удивлять, что сама техническая, «пальцевая» работа занимает на редкость мало времени.
[7] Одна из самых привлекательных мыслей об Эйнштейне в известной книге Б. Г. Кузнецова («Эйнштейн». Изд. АН СССР, 1963).
[8] Мы основываем анализ на трансляционной записи (Ленрадио, 1960 г.) и непосредственных впечатлениях от исполнения Рихтером Сонаты в сезоне 1959/60 г.
[9] Эпический тон – не обязательно неторопливый былинный распев, это может быть и режущая жесткость, как в Шестой сонате. Суть – в сознании неумолимой данности объективного мира.
[10]-Запись по трансляции, 1962 г. Фонотека Московской консерватории.
[11] Во многих композиторских жизнях случается обратное, но для Прокофьева характерно неукоснительное расширение творческого горизонта; можно даже говорить о борьбе композитора с собственным стилем, с устоявшимися приемами во имя художественной свободы.
[12] В частности, в книге В. Дельсона «Святослав Рихтер» (Музгиз, М., 1961), в цитировавшейся уже его статье «Проблемы исполнения фортепианных произведений Скрябина и Прокофьева», в работе Л. Геккеля «Шестая, Седьмая и Восьмая сонаты для фортепиано Сергея Прокофьева и вопросы их интерпретации» («Вопросы музыкально-исполнительского искусства», вып. 3), в многочисленных откликах музыкальной периодики.
[13] Это ощущение «вечных начал» музыки в известной степени перешло к Рихтеру от Нейгауза (о большем, сравнительно с автором, душевном тепле Нейгауза в прокофьевском репертуаре мы упоминали). Вообще же вопрос о «вечном» и «специфическом» относительно стиля весьма сложен, как едва ли разрешим в нескольких словах вопрос о той мере оригинальности на эстраде, превышение которой воздвигает стену между исполнителем и аудиторией.
[14] См. сб. «С. С. Прокофьев. . .», стр. 461. Кроме того, Прокофьев дважды исполнял Сонату по радио (8 апреля и 1 июня 1940 г.) и записал ее на пластинку (Csm CRLPX 2836, вып. 1953 г. См. Clough, F. and С a m i n g, G. The World Encyclopaedia of Recorded Music... 2-nd Supplement V. 3).

ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ
СВЯТОСЛАВ РИХТЕР
В.Дельсон.
«Советский композитор». М.: 1970,
с. 118-127.

Из книги
Д.Рабинович.
Портреты пианистов
М.: «Советский композитор»; издание 2-е,
1970, 280 стр.
(1-е издание - М.: «Советский композитор», 1962)
Скачать статью в формате pdf:
https://yadi.sk/i/UbH-peAi3NkjRn
СВЯТОСЛАВ
ТЕОФИЛОВИЧ
РИХТЕР
Рихтер дебютировал Шестой сонатой Прокофьева. В самом этом факте есть нечто символическое, как если бы громовые фортиссимо и могучий удар «col pugno» («кулаком») в Allegro moderato сонаты, подобно победным салютам, возвестили о приходе нового героя в мир фортепианного исполнительства. Даже не о приходе, точнее, о вторжении – неожиданном и ошеломляющем. Для значительной части аудитории Рихтер «возник» внезапно, и, справедливости ради, надо сказать: большинство слушателей собралось 26 ноября 1940 года в Малом зале Московской консерватории, чтобы встретиться не с Рихтером, а с его педагогом Г.Нейгаузом, игравшим в первом отделении. Рихтер был тогда известен сравнительно немногим. Лишь в узком кругу людей, близких к Нейгаузу, его дому и его консерваторскому классу, о Рихтере говорили, как о таланте поистине необыкновенном. Фактические сведения оказывались также крайне скудными, да и не все из них заслуживали безусловного доверия.
Впервые имя Рихтера мимолетно прозвучало в Москве в дни Всесоюзного конкурса 1933 года. Случилось это буквально через несколько минут после того, как в зале затихли неистовые овации, вызванные выступлением Гилельса. Когда десятки музыкантов кинулись с расспросами к приехавшим на конкурс представителям Одесской консерватории, один из сияющих от радости одесситов хитро улыбнулся: «Подождите, скоро от нас приедет еще пианист – Рихтер; он тоже чего-нибудь стоит!»
Рихтер и вправду объявился в Москве, однако гораздо позднее – в 1937 году. Рассказывали, что, услышав этого долговязого юношу со спортивно развитой, а в чем-то чуть нескладной фигурой, с непропорционально большой головой и огромным лбом, сочетавшего в себе ярко выраженные волевые качества, с обаятельной мягкостью, скромной стеснительностью, Нейгауз воскликнул: «Вот ученик, о котором я мечтал всю жизнь!». Следует хорошо знать Нейгауза, чтобы до конца почувствовать смысл его реплики. Конечно, он оценил в Рихтере и стихийную силу технической одаренности и природную музыкальность. Но всем этим Нейгауза трудно было удивить. За долгие годы он перевидал великое множество блистательных пианистов, в том числе в своем классе; достаточно вспомнить что он – ученик Годовского, личный друг Арт. Рубинштейна и учитель Гилельса. Нейгауз сразу же распознал в Рихтере глубоко родственную себе натуру – художника до мозга костей, подлинного поэта, притом своеобразного, с одному лишь ему присущим творческим обликом.
Рассказывали также, что Рихтер уже тогда изумлял всех быстротой, с какой учил новые произведения. В те времена в Московской консерватории систематически практиковались внутрифакультетские конкурсы на лучшее исполнение той или иной пьесы. Рихтер, видимо, не очень охотно участвовал в них. Зато, как передавали, мало того, что обычно занимал в них первые места, но и давалось ему это ценой минимально краткого труда: он готовился немногие считанные дни. Этому весьма содействовала его уникальная способность читки с листа. В данной связи не лишен интереса случай, относящийся к чуть более позднему времени: однажды в присутствии автора настоящих строк Рихтер «прочитал» только что появившуюся Первую фортепианную сонату М. Вайнберга. Он играл ее по авторской рукописи, при свечах (дело было трудной зимой 1942–1943 годов), играл не только сразу же в темпе, но и мгновенно вникая в достаточно замысловатую музыку совершенно неизвестного ему молодого композитора. Казалось, еще немного – и Рихтер сможет выйти с этой сонатой на концертную эстраду. Тут есть чему подивиться!
И еще рассказывали, что он объединил вокруг себя группу консерваторской молодежи, что созданный им и его другом пианистом Ан.Ведерниковым студенческий кружок регулярно собирается в одном из классов, и здесь в четырехручных переложениях можно услышать симфоническую музыку Прокофьева и Шостаковича, Вагнера и Брукнера, Малера и Рихарда Штрауса, Дебюсси, Равеля, Хиндемита, Стравинского... Побывавшие на собраниях кружка утверждали, что Рихтер – душа молодого содружества и что при самоочевидных сверхвыдающихся собственно пианистических достоинствах он заслуживает определения более объемного, чем «пианист». ибо раньше всего он громадный разносторонний музыкант. Тем не менее все это, повторяем, служило предметом обсуждения лишь в довольно тесном кругу, не доходя до так называемой широкой публики.
Что же произошло в ноябре 1940 года? Сочинения Прокофьева к этому времени уже давно успели войти в репертуар советских артистов всех поколений. Уже создались достаточно прочные интерпретаторские «версии» его концертов, сонат, фортепианных миниатюр. Складывавшиеся традиции очень расходились в частностях; общей же для них являлась тенденция романтизации Прокофьева. Такой запомнилась превосходная передача Обориным на выпускном экзамене в 1926 году заключительной вариации из средней части Третьего концерта: лирическая «ласковость» аккордовых ходов в обеих руках, общая притушенность колорита, замедленность темпа; Фейнберг наделял тот же Третий концерт чертами нервной порывистости; Игумнов в «Сказках старой бабушки» или в медленной части Четвертой сонаты погружал слушателей в атмосферу проникновенной сердечной интимности; Нейгауз и в «Мимолетностях», и в «Сказках», и в Танцах ор. 32 подчеркивал пластичность линий, «грацию переживания». С момента окончательного возвращения Прокофьева в Москву идеалом для многих стали его трактовки – мужественные, броские, подчас дерзкие, обнажавшие жесткость конструкций, заостренность углов, вовсе не «отрицавшие» романтику, но сообщавшие ей совершенно новую окраску, имевшую мало схожего с тем, что мы привыкли слышать у концертантов, воспитанных на Шопене и Листе, Шумане и Брамсе, Метнере и Рахманинове. Однако, за исключением разве что М.Юдиной (грандиозная интерпретация Второго концерта!), в середине тридцатых годов едва ли кому из наших пианистов удавалось в Прокофьеве приблизиться к стилю авторского исполнения, не подражая. И вот молодой дебютант доказал, что можно и слиться с самим духом прокофьевского искусства, и одновременно остаться собой, сохранить неповторимость своей манеры. Раньше всего этим, а затем уже титаничностью масштабов поразило рихтеровское исполнение Шестой сонаты. Т а к о г о фортепианного Прокофьева у нас еще не слыхивали!
Впрочем, о молодости следует говорить с долей осторожности. К профессиональному исполнительству Рихтер пришел относительно поздно... Не углубляясь в историю (великие «вундеркинды» прошлого – Моцарт, Шопен, Лист, Ант. Рубинштейн, Гофман), укажем, что почти все крупнейшие советские пианисты, начиная от Софроницкого, Гинзбурга, Оборина, Гилельса, Тамар- киной, примерно к двадцати годам оказывались популярнейшими концертантами, по большей части – лауреатами всесоюзных и международных конкурсов. Рихтер же в возрасте, когда артисты даже не столь редкостного таланта завоевывают мировую известность, лишь по-настоящему сел на школьную скамью. Он поступил к Нейгаузу двадцати двух лет от роду. Ему впервые довелось увидеть свое имя на московской филармонической афише в двадцать пять лет.
К фактам, составляющим биографическую канву подобного парадокса, надо будет вернуться, и весьма обстоятельно. Пока же достаточно заметить, что время, упущенное в смысле достижения безусловного признания, Рихтер «наверстал» чуть ли ни за один вечер. И это тоже входит в состав «парадокса».
Творческое и психологическое формирование столь щедро одаренных натур обычно совершается где-то на рубеже отрочества и юности. Видимо, так происходило и в данном случае: в основных своих особенностях Рихтер сложился, вероятно, еще в те далекие времена, когда, задолго до приезда в Москву, выполнял скромные функции концертмейстера Одесского оперного театра. Поэтому он с первого выступления в Москве сумел показать, кто он, на что способен; поэтому для слушателей он, подобно Афине-Палладе, словно бы «родился во всеоружии»; сразу стало ясно, что природа на удивление сосредоточила в одном человеке всю сумму качеств, о которых в наши дни должен мечтать концертирующий музыкант. И в 1940 году явственно ощутилось то, что сегодня практически давно известно или по крайней мере подсознательно внятно каждому слушающему Рихтера: он пианист не просто очень крупный, но из ряда вон выходящий, принадлежащий к числу немногих, кому уготовано почетное место в истории фортепианного искусства.
А наряду с этим именно сложность таких от природы богатых натур, содействуя их быстрому общему самораскрытию, нередко тормозит ход их окончательной кристаллизации: чем раньше Рихтер «созрел», тем медленнее шло его «дозревание» – еще одна сторона все того же «парадокса».
Концерты Рихтера – всегда, событие. Так повелось с первых дней его артистической деятельности. Мы восхищались им на Всесоюзном конкурсе 1945 года; и вскоре после этой его победы, когда он блистательно играл прелюдии и «Этюды-картины», «Музыкальные моменты», Польку Рахманинова; и позднее, когда он изумлял несравненными интерпретациями шубертовских сонат, а незадолго до своих первых гастролей в США – интерпретациями сонат Бетховена. На протяжении уже почти тридцати лет мы неизменно «опознавали» в Рихтере те черты, что приковали к нему всеобщее внимание в 1940 году: ярчайшую индивидуальность, властный и смелый интеллект, соединенный с пронзительной интуицией и не ведающей пределов поэтической фантазией, неукротимый, вулканический темперамент и точный, безошибочный вкус, феноменальные технические данные и тончайшую эмоциональную отзывчивость...
Однако, оставаясь «одним и тем же», Рихтер в дейдействительности менялся, эволюционировал. Притом весьма постепенно. В более ранние периоды – помнится, в первой половине сороковых годов – его игра чаще п о давляла мощью, нежели радовала артистичностью, если разуметь под этим не банальный пианистический лоск, совершенно чуждый Рихтеру, но (как мы уже писали в главе, посвященной Г. Нейгаузу) стремление и способность художника оставлять в сознании аудитории след не только от глубины и масштабности, но и от блеска своей личности.
Ему пришлось потратить немало усилий, чтобы привести к согласию разнородные элементы своего исполнительства. Опять-таки в тех же сороковых годах подчас бывало, что присущая Рихтеру «вулканичность» прорывались в явно преувеличенных масштабах. Подобное случилось, к примеру, во втором туре Всесоюзного конкурса, когда после проникновенно сыгранных произведений Баха, Рахманинова, Восьмой сонаты Прокофьева он, будто охваченный внезапным пароксизмом бешенства, поразил стихийной необузданностью в листовской «Дикой охоте». В этой исступленной (но вовсе не «нервической» и не «экзальтированной») ярости почувствовалось нечто беспричинное, как если бы на какое-то короткое мгновение физическое моторное начало вдруг взяло в пианисте верх над духовным. Наоборот, изредка проявляла себя гипертрофированность прямо противоположных свойств, и, скажем, в «Сонате-воспоминании» Метнера игра Рихтера неожиданно обескровливалась, делалась вялой, блеклой.
Рихтер постепенно проникал во все новые области фортепианной музыки. С этим связана одна важная его особенность: зачастую он учит не какие-то отдельные пьесы, но одновременно целые пласты произведений того или иного композитора, затем заполняя ими программы своих сезонов. Так он некогда выступал с рахманиновскими программами, так на протяжении шести концертов сыграл все прелюдии и фуги из обоих томов баховского «Хорошо темперированного клавира», так он в течение года исполнил, почти все шубертовские сонаты, а вскоре после этого – вереницу сонат Бетховена.
Проблема не сводится лишь к элементарному повседневному накоплению репертуара. Каждый из упомянутых сезонов знаменовал вступление Рихтера в следующий этап духовного развития. Вместе с завоеванием то ли ранее практически неизведанных, то ли еще недостаточно освоенных сфер музыки приходили в движение новые, точнее, – до того остававшиеся скрытыми, как бы находившиеся в резерве, внутренние силы. Следует особо подчеркнуть, что не всё давалось Рихтеру «с первого соприкосновения»: «демонический» Лист в полной мере открылся ему каких-нибудь полтора десятка лет тому назад, когда пианист после ряда далеко не во всем убедительных «проб» наконец создал свою трактовку h-moll’ной сонаты; еще позднее нащупал он пути к своему Шопену.
Пианистическая биография Рихтера (если считать ее с момента начала регулярной концертной деятельности, то есть с 1940 года) не разграничена на отдельные, резко отличные друг от друга главы, как это имеет место, допустим, у Софроницкого или у Гилельса. Но эволюция его – факт несомненный. Сказать об этом тем более важно, что у нас привыкли рассматривать и оценивать Рихтера, условно говоря, «в ажуре». Любой концерт его производит впечатление настолько сильное, что в сознании слушающего, даже музыкантf-профессионала, не остается места для якобы «побочного» вопроса – как пианист пришел к этому?
Другими словами, рихтеровское «сегодня» всегда заслоняет его «вчера».
Постепенность или даже «поступенность» становления неразрывно связана с другой примечательной чертой исполнительства Рихтера. У него нет или почти нет излюбленных областей репертуара. Правда, В.Дельсон в одной из своих работ отметил ярко выраженную склонность пианиста к Шуберту и Прокофьеву и даже высказал . предположение, что эти композиторы для Рихтера – то же, что лирика Чайковского для Игумнова, Скрябин для Софроницкого, Дебюсси для Ги- зекинга, Бах для Гульда. Не станем приписывать Рихтеру порок «всеядности», особенно памятуя старинный афоризм: «кто любит всех – не любит никого». Он играет очень многое. Еще в середине сороковых годов он в частном разговоре сказал как-то, что у него есть пятнадцать готовых программ, «может быть и двадцать». А ведь с тех пор прошло двадцать с лишним лет. Мы слышали у него бесчисленное количество произведений, законно считаемых обязательными для концертирующего пианиста и таких, которые не без известных к тому оснований попадают в поле зрения наших исполнителей в порядке исключения – например, фортепианные концерты Римского-Корсакова и Глазунова. Но и для Рихтера, как для всякого подлинного художника, в Искусстве имеется близкое и далекое, то, что он принимает и что отвергает.
Присматриваясь к его программам за долгие годы, невольно приходишь к выводу, что он не питает горячих симпатий, допустим, к творчеству Метнера. Он никогда не выносит на эстраду обработки или транскрипции, причем, здесь, думается, действуют скорее соображения принципиального порядка, чем вкусовые стимулы: хочется рассказать, как однажды в полудомашней обстановке и для весьма узкого круга слушателей-друзей (это было в 1947 году в маленькой артистической зала Ленинградской филармонии, уже после окончания концерта) он с необыкновенным увлечением, незабываемо сыграл «Лесного царя» Шуберта – Листа!
Возвращаясь же к высказыванию В.Дельсона, заметим: вряд ли кто усомнится, что Рихтер исполняет Шуберта и Прокофьева замечательно, что он – если не побояться патетичного восклицания – самозабвенно влюблен в их музыку. Однако применительно к Рихтеру нецелесообразно ставить специальный акцент на каких-то его репертуарных пристрастиях, тем более пытаться через них искать ключ к его индивидуальности. И дело тут вовсе не в одних сугубо личных свойствах Рихтера. Чем крупнее артист (все равно, будь он концентрант или композитор, музыкант или представитель иного вида творческой деятельности), тем непременнее живет в нем составляющее эмоционально-психологическую основу его художественной личности единое начало – и связанное с влиянием тех либо других течений, школ в искусстве, а в конце концов порожденное столь общими социально-историческими предпосылками, как эпоха, среда, национальные особенности культуры; и в то же время – свое, неповторимое, специфичное для данной, именно его натуры.
Присутствие подобных «доминант» в корне отличает корифеев от посредственностей-эклектиков, ремесленные поделки которых, совмещая в себе разношерстные и взаимно нивелированные элементы, оказываются по существу безликими, а значит – определимыми в большей степени лишь негативно. Напротив, обращаясь, например, к великим пианистам сравнительно недавнего прошлого, мы без колебаний относим к так называемому «романтическому» направлению в пианизме Ант. Рубинштейна, к «классическому» – Г. Бюлова; мы замечаем, как «доминанту», ведущую роль интеллекта в художественных концепциях Ф.Бузони или, снова в качестве важнейших, совпадающие с идеалом виртуозности, как он понимался на рубеже столетий, черты «искусства представления» в мощной сверкающей игре И. Гофмана.
У значительной части выдающихся артистов такое единое (но не единственное, а только господствующее) начало воспринимается непосредственно, что облегчает нахождение более или менее исчерпывающих, а в последнем счете опять же единых определений. Как раз для таких концертантов, при многокачественности и многогранности их творчества, типично наличие особо излюбленных композиторов, жанров, выразительных средств. Не надо подозревать этих художников в узости. Различные проявления их талантов вернее было бы уподобить лучам, во все стороны расходящимся из одного видимого источника.
Среди упомянутых В.Дельсоном пианистов к этой категории весьма приближаются, конечно, К. Игумнов и В. Софроницкий.
У других, в том числе у Рихтера, «господствующее начало» запрятано гораздо глубже. Исполнительству Рихтера в высшей мере присуще качество широкоохватности, о чем не так давно красиво и образно написал Нейгауз: «В его черепе, напоминающем куполы Браманте и Микеланджело, вся музыка, вся прекрасная музыка покоится, как младенец на руках Рафаэлевской мадонны. Играет ли он Баха или Шостаковича, Бетховена или Скрябина, Шуберта или Дебюсси, – каждый раз слушатель слышит как бы живого, воскресшего композитора, каждый раз он целиком погружается в огромный, своеобразный мир автора».
Продолжим мысль Нейгауза. Трудно назвать эпоху, стиль, жанр, где Рихтер не чувствовал бы себя, либо рано или поздно не мог бы себя почувствовать (что произошло у него с «демоническим» Листом и что в настоящее время происходит с Шопеном) словно в родной стихии. Попытки втиснуть Рихтера в прокрустово ложе замкнутых репертуарно-стилевых характеристик обречены на неизбежные провалы. Критика едва успевает после очередного рихтеровского сезона объявить пианиста «рахманиновцем», как в каких-то последующих – он предстает перед нами в обличии «бахианца», «шубертианца» и «листианца» (одновременно!), «прирожденного интерпретатора» Скрябина или французских импрессионистов...
Всеобъемлющие репертуары – постоянные спутники концертантов крупного масштаба. Достаточно сослаться на знаменитые «Исторические концерты» Ант. Рубинштейна или на включившие около 250 произведений двадцать с лишним концертов, кряду данных Гофманом в 1912/13 году в Петербурге. Да и в практике советского пианизма аналогичная картина раскрывается в репертуарах хотя бы Г.Нейгауза, С.Фейнберга, В.Софроницкого. Однако, применительно к Рихтеру, и в настоящем случае речь идет не о «репертуарных накоплениях», в отрыве от прочих проблем рассматриваемых лишь в количественном аспекте. В противоположность самоочевидной монолитности артистов типа Ант. Рубинштейна или Бюлова, Рихтер как исполнитель кажется многоликим. Уходя с его концертов, часто ловишь себя на недоуменном вопросе: неужели это один и тот же пианист играл сегодня, к примеру, В-dur’ную сонату Шуберта и Седьмую – прокофьевскую, шумановскую Токкату и g-moll’ную прелюдию Рахманинова? Дело тут не в одних только естественных и вполне обычных различиях приемов фразировки, педализации, звукоизвлечения: меняются не краски на палитре художника, но будто он сам с его настроенностью в целом, с его почерком, «колоритом его души».
Первые части Es-dur’ной, с-moll’ной и С-dur’ной (№№52, 20 и 50 по брейткопфовскому полному собранию) сонат Гайдна. – Рихтер отнюдь не сводит всего Гайдна «к одному знаменателю». Он играет не «Гайдна вообще», но три именно данных, весьма несхожих его сочинения. Он заботливо выявляет их особенности. Тонус его трактовки Allegro сонаты Es-dur в значительной мере определяется решительностью вступительного фрагмента. Пусть начальное форте затем в шестом такте смягчается, а на место маршеобразности и пунктиров приходит плавная кантилена, главенствующий характер экспрессии остается неизменным: она вся направлена к жестким аккордовым staccato и энергии тридцатьвторых в конце экспозиции, и далее, через разработку и репризу, – к коде части. Наоборот, в Allegro moderato сонаты c-moll Рихтер дает ощутить мягкую лиричность главной партии, а динамизм последующих группетто и пассажей шестнадцатыми все-таки ведет, как к цели, к словно бы неожиданно явившемуся сюда из медленных частей гайдновских сонат коротенькому, но глубоко выразительному речитативному Adagio. В Allegro C-dur’Hoft сонаты у Рихтера властвует стихия подвижности, хотя его allegro (в сущности allegro molto) благодаря идеальной выравненности темпа вовсе не кажется быстрым – не «поток», а мерно-стремительное «развертывание». В катящихся гаммах отчетлива каждая нота: «острое» legato (где-то «на пути» к non legato), напоминающие о непреодоленных элементах клавесинизма в пианистическом мышлении той эпохи, но еще более призванные подчеркнуть волевую «непреклонность» исполнения.
Все такие частности, связанные с индивидуальными отличиями каждой из трех сонат, однако, сплавляются у Рихтера в более высоком стилевом единстве. Музыка Гайдна передается им с истинно классичными строгостью и мужественной простотой (что, понятно, не имеет ничего общего с выхолощенным школьным «академизмом»). Подвижность нигде не превращается в бравуру, а изящество – в галантность, так же как лирика не обретает черт субъективизма или чувствительности. Конструктивность явно преобладает над «прочувствованностью». Фразировка сведена до минимума, но в этих пределах несколько маркирована, чтобы у слушателей не осталось ни малейших сомнений в намерениях исполнителя – ни на волосок расплывчатости! Тембровая окраска, даже в главной партии и эпизоде Adagio первой части с-moll’ной сонаты, далека интимной камерности. Звучности, особенно в пассажах, порой отсвечивают металлическим блеском. Линии прочерчены до мельчайших деталей. Рисунки выполнены без полутеней, без «растушёвок». Педаль – очень скупая.
Подобное прочтение, как бы развеивающее миф о благодушной беззаботности, веселой бесхитростной грациозности гайдновского творчества, не только противопоставлено имеющим иногда место тенденциям романтизировать Гайдна; оно внушает уверенность, что и самому Рихтеру вполне чужды романтические переживания.
«Юмореска» и «Новеллетты». – Не другие выразительные средства сами по себе, не еще какие-то черты, дорисовывающие знакомый по Гайдну облик артиста, но совершенно другой мир, полный романтического волнения. В новых вариантах воссоздает Рихтер образность шумановско-гофмановских карнавалов: калейдоскопическое мелькание масок, пламенные признания и робкая затаенность, нежные намеки и страстные излияния, Эвзебий и Флорестан. Музыка то заковывается в четкие маршевые ритмы ночных факельцугов, – как в эпизоде «Nach und nach immer lebhafter und starker» из «Юморески» или в основной теме первой «Новеллетты»; то, как во второй, как во фрагменте «Sehr lebhaft» из «Юморески», клубится неудержимая, воздушная даже в форте; то, как в отрывке «Einfach und gesangvoll» из восьмой «Новеллетты», охваченная внезапным раздумьем, она останавливает бег, чтобы в коде опять устремиться вперед, все увлекая в своем буйном порыве, – вот где поток!
В этом причудливом мире жизненное соседствует с фантасмагорией и нет ничего стабильного. В большом начальном разделе «Юморески» у Рихтера царит изменчивость настроений. Сперва на фоне неспешно текущего сопровождения, точно тяжелые прозрачные капли, падают звуки задумчивого напева – и разделенные едва приметными цезурами и в то же время слитые в единой мелодической волне. Затем вдруг возникает радостное бурлящее движение – шаловливая беготня летучих шестнадцатых, острые, слегка акцентируемые staccato. Мгновение спустя темп переходит в presto, динамика снижается до пианиссимо, колорит делается недобрым – будто в страшной, «пугающей» сказке; пунктиры в левой руке вызывают в воображении образ отдаленной скачки. И, наконец, возврат к начальной музыке, теперь уже совсем приглушенной, окутывающей слушателя дыханием мечты, воспоминания... Рихтеровское туше становится мягким, фразировка – «сплошной», педаль – обильной. Конструктивные элементы оттесняются на второй план экспрессивными.
В «Юмореске» и «Новеллеттах» даже умудренному долгим опытом профессиональному музыканту не легко опознать Рихтера – исполнителя Allegro из сонат Гайдна: иные масштабы, иные краски – словно зазвучал какой-то иной инструмент, иные дистанции между пиано и форте. В гайдновских Allegro у Рихтера – равновесие; здесь чередования нежной мечтательности и неистовой эмоциональной возбужденности, поэтической медитации, как в первых страницах «Юморески», и наивного простодушия, сердечной песенности – в ее соль-минорном эпизоде «Einfach und zart». Там – energico, воплощающее силу мысли, в «Юмореске» и «Новеллеттах» – agitato, передающее напор чувств. В Гайдне – намеренное обнажение «общих форм движения», подчинение живописности – графике, частных оттенков – резко отграниченным крупным построениям, категоричная определенность каждого «высказывания»; в Шумане – индивидуализация рисунков, капризные rubato, не сопоставления контрастных эпизодов, а перерастание их один в другой.
«Печальные птицы», «Отражения в воде», «Шаги на снегу». – Если сонаты Гайдна рождали в нас образ Рихтера – умного строителя, готового принести на алтарь классичности даже свою жаркую эмоциональность, а шумановские пьесы – страстного романтического поэта, ищущего выразительности во что бы то ни стало, то в Равеле и Дебюсси он прежде всего – художник, непревзойденный колорист, мастер изобразительности. В густой пелене тумана медленно проплывают смутные очертания призрачных предметов-видений. Как на некоторых пейзажах Монэ, они растворены в сумрачной зыбкой атмосфере. Откуда-то доносятся тихие всплески воды и хрустально звенящие перекликающиеся голоса птиц. Музыка не «совершается», она как бы только «существует», проявляя себя в тончайших переливах нюансов. И в «Отражениях» – нарочитое стирание структурных граней; и здесь – господство создающей светотени полупедали, «смазанность» контуров струящихся пассажей, ирреальность тембров. В «Шагах на снегу» – та же неясность абриса, разымчивость музыкальной ткани. Пианиссимо уже достигает того предела, когда звучания моментами скорее угадываются, чем слышатся. Чудится, уже нет рояля – реальной вещи, с массивным деревянным корпусом и прочными металлическими струнами, нет крепких рук, состоящих из костей и мускулов, – один лишь колеблющийся звучащий воздух.
И опять перестаешь верить, что это тот самый пианист, который минуту назад с такой теплотой и проникновенной человечностью «рассказывал» равелевскую же «Павану», маленькую музыкальную повесть об умершей инфанте; не можешь представить себе, что еще через минуту он бросит в зал снопы искр, закружит всех в дьявольском полете Пятой сонаты Скрябина!
Что же здесь? Доступное лишь очень немногим высшее формальное мастерство, абсолютное владение всеми приемами и средствами выражения, которое позволяет артисту воспроизводить любые стили, любые образы, не вживаясь, не перевоплощаясь в них, но пребывая где-то в стороне или над ними, которое дает возможность, допустим, Стравинскому поочередно быть «корсаковцем», «неоклассиком» или додекафонистом?
Нет, прислушиваясь к Рихтеру, осознаешь, что его искусство «многолико» лишь на первый взгляд, а в действительности многопланно. И приходишь к ассоциациям иного порядка, может быть, к шекспировского типа мощной объемности мысли. Ведь у Рихтера Гайдн и Шуман, Равель и Скрябин, Бетховен, Шуберт, Лист, Брамс, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович – свои, неотъемлемые. Они живут в нем, в его сознании, во всем его существе: и как отправной пункт – импульс, и как итоговый результат – созданное им, однако, прежде всего как его внутренние творческие состояния.
Последнее, при несомненной родственности, отнюдь не равнозначно ни увлеченности артиста самим процессом исполнения импонирующих ему произведений, ни специфичному для «актеров переживания» сценическому перевоплощению. Речь идет о чем-то более общем, уходящем в глубины психики некоторых очень крупных художников, коренящемся в основных свойствах их натур.
Попытаемся пояснить сказанное примерами. В книге «Прошлое и настоящее», вспоминая, как он на сцене Художественного театра впервые выступал в роли Дмитрия Карамазова, Л.Леонидов рассказывает: «Я, Леонидов, исчез. Была вторая жизнь, не моя жизнь, а жизнь несчастного человека, которого дальше ждут тяжелые испытания. Это (имеется в виду картина «В Мокром». – Д.Р.) только увертюра. Я пришел в себя, когда после увода арестованного Мити закрылся занавес. Странно, я не понимаю, что со мной, но мне необычайно легко, могу еще раз сыграть, и даже по-новому. Только слезы подступают к горлу. Хочется плакать». Весьма близкое читаем мы в письме Чайковского от 3 марта 1890 года: «Самый же конец оперы («Пиковой дамы». – Д. Р.) я сочинил вчера, перед обедом, и когда| дошел до смерти Германа и заключительного хора, то мне до того стало жаль Германа, что я вдруг начал сильно плакать... Потом я сообразил, почему (ибо подобного оплакивания своего героя со мной еще никогда не бывало, и я старался понять, отчего это мне так хочется плакать). Оказывается, что Герман не был для меня только предлогом писать ту или иную музыку, – а все время настоящим, живым человеком, притом мне очень симпатичным».
Разумеется, Леонидов «зажегся» в ходе спектакля; разумеется, и до того, в период подготовительной работы, он передумал и перестрадал душевные состояния изображаемого персонажа; разумеется, аналогичное происходило и с Чайковским. Однако достаточно ли всего этого для перехода от изображения, хотя бы самого верного, к ощущению чужой жизни, как «второй жизни»? И точно ли определяет Леонидов это свое «второе» существование словами «не моя жизнь»? Неправильно и вульгарно отождествлять писателей или композиторов с героями их романов, опер; актеров – с воплощаемыми ими сценическими образами. А все же почему плакал Чайковский, когда его фантазия дорисовала смерть Германа? Чем обусловливалось испытанное им глубочайшее потрясение? Только тем, что Герман был для него «живым человеком», притом «очень симпатичным»? Вдумаемся: подобно Леонидову и Чайковский в тот день «не понимал, что с ним», и он, вероятно, чувствовал себя «необычайно легко», словно мог бы «еще раз» написать эту сцену, «и даже по-новому».
Суть, видимо, заключается в том, что и Леонидову, и Чайковскому, каждому по-своему, были присущи некие сложные, но вполне определенные психологические комплексы, не замечаемые в обычное время и дающие о себе знать лишь в моменты художественного созидания; «творческие состояния» – различные, но в любом случае объемлющие широкий круг сходных душевных явлений и оказывающиеся общим условием силы, правдивости каждого данного конкретного «перевоплощения», находящие в нем (как это было у Леонидова в спектакле «Братья Карамазовы») одно из частных своих выражений.
Именно эти широкие творческие состояния помогали и Чайковскому и Леонидову воплощаться не просто в чьи-то образы, но в чьи-то жизни, с предельным волнением ощущать эти «чужие» жизни-судьбы, как часть своих собственных.
Захваченность такими творческими состояниями в высшей степени типична и для Рихтера. Всякий раз особенные, они у него неизменно тяготеют к двум основным полярно противоположным центрам. Один из них – музицирование. «Состояние музицирования» не только накладывает решающий отпечаток на рихтеровскую экспрессию, ее тонус; оно соответственно настраивает всю его психику, меняет его «исполнительскую интонацию». Как и в приведенных примерах, оно оказывается для Рихтера общим условием и «определителем» направленности, воздействующей силы, художественной правдивости тех или иных его «пианистических перевоплощений». Конкретизируясь в нескончаемо разнообразных отдельных интерпретациях, оно опять-таки находит в каждой из них лишь одно из частных своих выражений.
Поглощая артиста целиком, «состояние музицирования» отчетливо проявляется в характере фразировки, в отборе чисто технических приемов, в туше, даже во внешней манере поведения Рихтера на, концертной эстраде. Он сидит откинувшись. Голова чуть склонена набок. Лицо задумчиво и сосредоточено. Жесты мягкие и осторожные. Кисти рук очень часто высоко подняты. Создается иллюзия, будто пальцы пианиста, едва касаясь клавишей, магнетическими пассами вызывают к реальности то, что уже звучит в его душе.
Подобные минуты рихтеровских вечеров, вероятно, имел в виду Г.Коган, писавший: «Когда Рихтер играет, то кажется, что он находится в пустом зале, наедине с музыкой, являющейся ему, «как гений чистой красоты». Никто третий не существует для пианиста в это «чудное мгновенье». Он не стремится угодить публике, или властвовать над нею, или в чем-то ее убедить; он словно забывает об ее присутствии. Аудитория как будто чувствует это. В безмолвии, затаив дыхание, внимает она тому, что Шуман обозначил словами: «Der Dichter spricht» («Поэт говорит»).
Именно в подобные незабываемые минуты, для которых естественнее всего было бы возвратиться к понапрасну забытому нашими критиками слову вдохновение, возникают у Рихтера исполнения медленных частей гайдновских сонат, финала С-dur’ной Фантазии Шумана, некоторых шубертовских произведений.
В шумановском «Вечером» (из цикла «Фантастические пьесы», ор. 12) Рихтер полностью растворяется в мире звукообразов. До конца, безостаточно сливаясь с ними, он уже не «играет», не «исполняет», не «интерпретирует» (то есть на деле, конечно, и то, и другое, и третье, но главное не в такой преднамеренности концертанта), а как бы излучает музыку: завораживающе мерное движение «текуче»; динамика заключена в ничтожно малом диапазоне – между пиано и меццо-пиано; кажущаяся ровность темпа скрывает непрерывные rubato – едва различимые accelerando и ritenuto, тембровые переходы: ритмическая гибкость мелодии передает не столько пластику линии, сколько мельчайшие оттенки настроения, – к концу пьесы все расплывается в сгущающемся сумраке.
В Molto moderato из B-dur’ной (посмертной) сонаты Шуберта голосом пианиста говорит сама природа. Снова по временам исчезает вещественная материальность рояля, исчезает Рихтер (вспомним: «Я, Леонидов, исчез...»), и остаются только бескрайность открытых горизонтов, глухое рокотание дальних громов, властительное спокойствие предрассветного молчания – благоуханная «поэзия тишины». Да еще певучесть (не в мелодийном и не в пианистическом «кантиленном», но в глубоком поэтическом понимании этого слова), разлитая даже не в музыке, в порождающем ее всеохватывающем чувстве-состоянии.
В трио «Музыкального момента» As-dur (op. 142, № 2), в предпоследней вариации Andante, росо mosso и в рондо а-moll’ной сонаты ор. 42, в Es-dur’ном экспромте рисунки струятся с той степенью свободы, когда перестаешь замечать их ритмическую пульсацию. Не пассажи – родник; он журчит то ласково, то звонко, то вдруг сердито, журчит, не зная никаких «опорных звуков», «сильных» и «слабых» долей, не ведая, что где-то на нотной бумаге существуют группировки черных кружочков по четыре, по шесть... И его говору можно внимать бесконечно, не утомляясь, не думая, что здесь что-то покажется однообразным.
Тут вновь следует вернуться к леонидовскому «исчезновению». Леонидов «исчезал» в Дмитрии Карамазове, но что может обозначить это выражение применительно к Рихтеру? «Исчезает» ли он в природе, как таковой, иначе говоря, не обращается ли Рихтер в пейзажиста, рисующего природу, как она есть сама по с е б е? Сгущается ли сумрак в его исполнении «Вечером», рокочут ли у него дальние громы в В-dur’ной сонате вне зависимости от человеческих восприятий, чувствований? В том-то и дело, что нет. Природа для него, в полном соответствии с его собственной, рихтеровской природой, одухотворена человеком, и «ручей» в сонатах Шуберта, экспромтах, «Музыкальных моментах» – не листовский, звенящий и рассыпающийся мириадами холодных фантастических блесток ручей-фонтан, но любимый Шубертом милый и простодушный, участливый к человеку и его горестям, тот самый, что сопровождал безымянного героя «Прекрасной мельничихи» на всем трогательно печальном пути его недолгой любви.
Вот где одна из примечательных особенностей рихтеровского «состояния музицирования»: не созерцание природы, не изображение ее в звуках, а размышление в связи с ней, но о человеке. Оттого так тепла у Рихтера первая же фраза в Moderato из а-moll’ной сонаты, так пронизаны сердечной болью начальные фразы второй части В-dur’ной сонаты, так захватывают искренней и правдивой простотой переживания минорные фрагменты в con moto сонаты D-dur, так глубоки натур-философские размышления в финале шумановской Фантазии C-dur. Это, а вовсе не абсолютная красота пиано (область, где Рихтер после смерти К.Игумнова вряд ли знает себе равных) и не самодовлеющая выразительность фразы покоряют слушателя, внимающего рихтеровскому «музицированию». Здесь заложен секрет неотразимости его исполнения «Музыкального момента» As-dur (op. 94, № 6), который, если играть его в таком замедленно-ровном темпе, с такой (мнимой!) безнюансностью интерпретации, у любого другого пианиста показался бы нестерпимо монотонным, а от самого концертанта потребовал бы практически невозможной душевной выдержки.
Но есть и другой, так же хорошо знакомый нам Рихтер.
Штурмовой атакой обрушивается он на клавиатуру в октавных лавинах разработки первой части Ь-moll’ного концерта Чайковского, в октавно-терцовом фрагменте финала Второго концерта Рахманинова, в листовском этюде «Eroica». Он сокрушает рояль и аудиторию «стенобитными» ударами sforzando в главной партии или в концовке финала Шестой прокофьевской сонаты. Уже упоминавшееся, едва ли не единственное в общеизвестной фортепианной литературе авторское указание «col pugno» утрачивает у Рихтера свою кажущуюся экстравагантность. В громовых «наплывах» сонаты рихтеровские фортиссимо переплескиваются за пределы Большого зала консерватории.
В таких натисках нет ничего от самоуверенной бравуры, самодовольного пианистического виртуозничества. И на сей раз мы сталкиваемся с особым творческим состоянием. И на сей раз оно завладевает артистом. Как бы заряженный тысячевольтным электрическим током, он весь – сгусток яростной энергии. Быстрыми решительными шагами, «готовый к битве», выходит он на эстраду и сразу же, без секунды промедления начинает играть. Корпус его наклонен к инструменту, туда же неотступно направлен, властный упрямый взор, локти примкнуты к телу, кисти часто опущены. Теперь он не «гипнотизирует» клавиши, – скупыми волевыми движениями он прижимает, придавливает их, воздействуя на них мускульной силой, используя естественный фактор тяжести тела. В паузах, «на выходах» из пассажей, молниеносно проносящихся через все регистры рояля, его руки, подобно высвободившимся стальным пружинам, мощными рывками разлетаются в разные стороны.
Перефразируя популярное изречение, следовало бы сказать, что руки – зеркало души пианиста. В маленьких, плотных, невообразимо ловких и столь же идеально организованных руках Годовского воплощались не только его сказочно легкая и точная, «умная» техника, но и вся разумность его исполнительского стиля. Могучие руки Рахманинова – их продолжением могли бы служить плечи Атланта, подпирающие земной шар, – как ассоциируются они с «львиным рыканьем» рахманиновского пианизма!
И вот – руки Рихтера. Они громадны. Кто не знает обычно доставляющего концертантам немало неприятных хлопот места из финала шумановских «Симфонических этюдов» – цепь бегущих децим в левой руке? Для рихтеровских рук подобные интервалы не проблема. Прочные и массивные, эти руки вызывают в сознании образы циклопических построек. Речь идет не об одной лишь их величине. Их материал – не хрупкий аристократический мрамор, для обработки которого требуется резец ваятеля, а рассчитанный на века простой гранит. И поверхность этого гранита не шлифованная, а только обтесанная.
Такие руки словно бы не ведают, что значит нервный трепет, восторженная экзальтация. Они как бы от природы созданы для фундаментальной кладки грузных аккордов, для грандиозных нарастаний, в кульминациях сотрясающих стены концертных помещений, для ураганных темпов, ошеломляющих контрастов – для музыки сверхвысоких температур.
А в то же время в них живет поэзия. Они пластичны и способны казаться невесомыми, когда воздушными касаниями рождают тончайшие, точно дуновения ветра, едва уловимые звучания. И в рихтеровских руках живут два противостоящих друг другу начала. И они в какой-то мере портретируют «двуединую» артистическую натуру пианиста.
Итак, два полюса. Однако, как и в географии, это лишь две точки, вокруг которых располагаются обширные области, сходные в наиболее общих признаках, различные в любой частности. Музицирование Рихтера объемлет разнообразнейшие сферы. Здесь «венские» классические Adagio, где спокойная ясность его интерпретаций уходит истоками к еще не смущаемой «роковыми» романтическими загадками гетевской ясности видения мира; где, как в медленной части сонаты Es-dur Гайдна, каждая вопросительная интонация словно несет в себе заранее готовый ответ; где, как в С-dur’ной гайдновской же сонате, скромные темповые и динамические нюансы призваны лишь разграничивать отрезки «произносимой» (конечно, не декламируемой) мелодии, а экспрессия в целом подчинена генеральной задаче – помочь музыке самой высказать свою прекрасную и мудрую содержательность. Здесь ищущая встревоженность интимных излияний Шумана, для которого знаменитое «Warum?» оказывается не только наименованием отдельной пьесы, но и зачастую формулой, обобщающей всю его романтическую реакцию на жизнь. Здесь утренняя свежесть шубертовских мечтаний и философичность «вечерних» медитаций Брамса. Здесь лирическая созерцательность листовского «Пейзажа», нежная горестность равелевской «Паваны», миражность «Отражений в воде» Дебюсси. Здесь и прокофьевское Andante dolce из Восьмой сонаты, в котором глубокомыслие так волнующе переплетается у Рихтера с жалобой, сомнением, реальное – со сказочным, интимно-ласковое – с изысканным и странным.
Столь же многогранен «другой» Рихтер. Финал «Аппассионаты», где рихтеровское prestissimo в коде, опрокидывая привычные представления о возможностях человеческих рук, несет на себе печать бетховенской суровой непреклонности. Обжигающая возбужденность его интерпретации «Ночью» (из «Фантастических пьес») – это Aufschwung (порыв), что и в данном случае надо разуметь не как название произведения, но как общую категорию, как выражение флорестановского начала в мироощущении Шумана. Аналогичная, но всякий раз по-особому раскрываемая, неудержимо увлекающая музыку вперед, энергия пронизывает рихтеровские трактовки главной партии в первой части Большой сонаты Чайковского, B-dur’ной прелюдии Рахманинова и финала его Второго концерта, Первого концерта Прокофьева.
Амплитуда проявлений подобных качеств индивидуальности Рихтера простирается от размеренной поступательности в начальном Allegro d-moll’ного концерта Баха, в Allegro гайдновских сонат до одновременно порывистых и волевых, «настойчивых» интерпретаций Allegro affetuoso из а-moll’ного концерта Шумана или десятого из «Симфонических этюдов», до приглушенной «вихревости» в листовских «Блуждающих огнях», до «железной токкатности» в финалах Шестой и Восьмой сонат Прокофьева или – снова по-иному – в «Движении» Дебюсси; от классического risoluto и романтического passionato (Aufschwung!) до жестокой неумолимости. Последнее – не гипербола. Послушайте, как Рихтер исполняет «пляску гигантов» – заключительное Precipitato из Седьмой сонаты Прокофьева, взгляните на его пальцы, вгрызающиеся в клавиатуру, на его ноги, исступленно топчущие пол около педалей. Это не эксцессы показного эстрадного темперамента – тут, пожалуй, уместнее вспомнить слово «берсеркер», которым норманны некогда обозначали неистовство, в бою охватывавшее викингов.
А сейчас возвратимся к вопросу о двуединости артистической натуры Рихтера. Мы совершили бы коренную ошибку, вздумав различать рихтеровские «состояния» исключительно по внешним формальным признакам– играет ли он пиано или форте, largo или presto. Приведенные нами примеры имели назначение продемонстрировать его «творческие состояния» в максимально концентрированном виде. В действительности всё намного сложнее. И в тишайших страницах гайдновских ли adagio, шубертовских ли moderato tranquillo (подразумевая под этими терминами здесь и в дальнейшем лишь общий характер музыки, а не конкретные темповые или агогические указания) рихтеровское музицирование неизменно напоено скрытой энергией, что делает его столь «заражающим», надежно охраняет пианиста от вялости, размагниченности; и в шопеновских con fuoco, листовских furioso, прокофьевских barbaro его динамизм насыщен мыслью и чувством, отчего исполнение Рихтера – всегда музыка,
Иногда даже бывает трудно, почти невозможно расчленить его состояния. Его интерпретация шумановской пьесы «Ночью» насквозь динамична, a вместе с тем в самом этом динамизме – в коротких «вспыхивающих» нагнетаниях, в страстных, отрывистых восклицающих акцентах – сокрыто музицирование, только доведенное до градуса кипения. В монументальной рихтеровской интерпретации B-dur’нoro концерта Брамса величие и камерность, буря и тишина, колоссальный напор и «саморастворение», не уничтожаясь, сплавляются в более высоком единстве.
Следовательно, две стихии, образующие «полюсы» искусства Рихтера, оказываются не исключающими друг друга, но, наоборот, взаимопроникающими. Они – два полюса одной планеты. Это объясняет, в частности, почему Рихтер способен мгновенно переключаться из одного творческого состояния в другое – например, в первой части Восьмой прокофьевской сонаты, где он с покоряющей естественностью переходит от трудных раздумий и скорбных сетований экспозиции к стремительности «скользящих» шестнадцатых и зловещим inquieto начала разработки и далее – к тяжеловесным фортиссимо кульминации.
Двуединость художественного мышления Рихтера ведет к важным итоговым обобщениям. Она помогает понять, почему нельзя просто ответить на вопрос: принадлежит Рихтер к «классическому» или «романтическому» направлениям в пианизме, почему такие ходовые определения не в состоянии раскрыть «тайну» его стиля?
Это обусловлено не их принципиальной ошибочностью. Конечно, как неоднократно подчеркивалось в работах о пианизме (в том числе и в настоящей книге), они условны, и прибегать к ним приходится за неимением других, более точных. Конечно, пользоваться ими надлежит осмотрительно, дабы не впасть в схематизм, ибо «химически чистых» пианистов-романтиков или пианистов-классиков не существует, это – абстракции; ибо даже у столь ярко выраженного представителя романтической ветви в современном исполнительстве, как Нейгауз, мы замечаем элементы «классичности», а гинзбурговская интерпретация, допустим, григовской сонаты, удостоверяет, что и ему, типичному «классику», несправедливо совсем отказывать в чувствах и красках романтического плана. Конечно – еще и еще раз, – эти два определения не исчерпывают богатства направлений, существовавших и поныне существующих в пианизме. И все же общепринятая классификация затрагивает существенное и в значительном большинстве случаев дает нам в руки ариаднину нить: она содействует нахождению, как мы писали, «доминанты», «единого» (но не единственного, а: только господствующего) начала в игре многих крупнейших пианистов. Поэтому нет оснований отказываться от издавна установившихся характеристик, например Ант. Рубинштейна, Бюлова, Корто, как нет нужды пересматривать сказанное выше об Игумнове, Софроницком, Оборине, Гинзбурге.
У Рихтера же «романтичное» и «классичное» – разные стороны, разные проявления одной сущности. Точно так же его музицирование и его динамизм антагонистичны и в то же время связаны общей для них обоих огромной интенсивностью неразделимых музыкального размышления и музыкального переживания, необычайной активностью порождающего их человеческого духа. В диалектическом единстве противоположных внутренних сил и заключена не сразу распознаваемая «доминанта» рихтеровского исполнительства. Именно отсюда проистекают свойственные искусству Рихтера объемность, широкоохватность, шекспировского толка многопланность.
Его искусство – своеобразная, глубоко содержательная данность. Но оно и процесс, в неменьшей степени захватывающий, поражающий своей «особостью», не схожий с тем, что встречается как норма в творческих биографиях множества концертантов и прошлых эпох, и нашего времени.
Впрочем, с виду все здесь вроде бы «самое обыкновенное». Высокодаровитый ребенок, родившийся в интеллигентной семье. Спокойное и серьезное воспитание, стимулирующее быстроту интеллектуального развития. От отца (пианиста и органиста, окончившего консерваторию в Вене, а впоследствии ставшего педагогом Одесской консерватории) унаследованы поэтичность, быть может, романтическая мечтательность; от матери – скорее волевые качества, организованность, стремление к порядку, доходящее порой до известного педантизма. Так формируются черты характера, сочетающего взрывчатую интенсивность нервных реакций со сдержанностью, душевную мягкость с властностью и не знающей преград упрямой настойчивостью (кстати, не зародыши ли это грядущих «творческих состояний»?), уверенность в своих силах и внутреннее честолюбие со скромностью, даже застенчивостью, полным отсутствием внешнего тщеславия. Любовь к литературе просыпается в юности: Гоголь, Достоевский, Шекспир, Гете: позднее – Томас Манн, Шолохов, а рядом с ними – Пруст. В школе – явное предпочтение, отдаваемое гуманитарным наукам, сравнительно, скажем, с математикой.
Специфически музыкальные способности отчетливы уже в семь лет. Успехи устойчивы и не заставляют себя ждать. Техника приходит незаметно, сама собой. Постепенно раскрываются громадные масштабы таланта. Но никакого «вундеркиидства». Сперва начинаются публичные выступления в качестве концертмейстера, за ними – сольная программа, в которой значатся прелюдии, этюды и ноктюрны, скерцо E-dur и f-moll’ная баллада Шопена. В своем городе молодой пианист получает признание – его ценят, им гордятся. Затем – отъезд в Москву, в консерваторию; затем – триумфальный концертный дебют в столице, еще концерты один за другим, растущая популярность; затем – первая премия на Всесоюзном конкурсе и окончание консерватории с занесением имени на мраморную доску; затем – все расширяющаяся орбита гастрольных турне на родине и за ее границами, почетные звания, правительственные награды – всемирная слава.
В этой биографии не содержалось бы ничего экстраординарного, требующего специального акцентирования, если бы приведенные факты не оказывались лишь оболочкой, внутри себя таящей нечто, куда более запутанное; если бы, в частности, временные расстояния от одного «затем» до следующего не оказывались столь непомерно большими: Рихтер родился в Житомире в 1915 году, свою первую, шопеновскую, программу сыграл в одесском Доме инженера – в 1934-м, уехал из Одессы в Москву – в 1937-м, дебютировал в Малом зале – в 1940-м, взял первую премию на конкурсе в 1945-м, окончил консерваторию только в 1947 году – тридцати двух лет от роду!
Не станем преуменьшать особой роли обстоятельств, связанных с войной. Однако не забудем, что это время Рихтер провел в неустанном труде и как раз в промежутке с 1940 по 1945 год вошел в плеяду самых крупных советских концертантов. А значит, решение «рихтеровского ребуса» приходится искать в каких-то иных плоскостях.
Приглядываясь к пианистическим «детству, отрочеству и юности» Рихтера, мы не обнаруживаем здесь почти ничего традиционно сопутствующего первичным фазам становления больших артистов: ни осознанной или хотя бы со стороны внедренной устремленности к предстоящей концертной деятельности; ни бесконечных часов, проводимых за фортепиано и посвященных техническому тренажу, упорному накоплению мастерства; ни знаменитых педагогов, заботливо пестующих будущего виртуоза. Сведения, почерпнутые из многих источников (включая, датированные 1960 годом, брошюру В.Дельсона, статьи Г.Нейгауза и Я. Мильштейна) и в основном совпадающие, рисуют картину далеко не стандартную.
Феноменальная одаренность вместе с. непреодолимой тягой к искусству проявились у Рихтера чрезвычайно рано, но музыка вовсе не была единственной и полновластной царицей его дум. Он пытался писать драмы. Еще сильнее в нем конкурировала с музыкой страсть к театру. Мальчиком, приезжая на лето из Одессы (куда семья перебралась, когда Рихтер был еще совсем ребенком) в родной Житомир, он со сверстниками постоянно устраивал во дворе спектакли и представления, в которых выступал в качестве автора пьес, композитора, режиссера и актера. Более того, по мнению Н.Л.Дорлиак, даже сравнительно незадолго до своего отъезда в Москву к Нейгаузу, Рихтер все еще колебался в окончательном выборе между музыкой и театральной сценой.
В нем дремал и художник, что вдруг дало себя знать через десятилетия: в середине пятидесятых годов, на какой-то довольно длительный период оторванный от рояля случайным повреждением пальца, Рихтер с жаром обратился к краскам и карандашу, и некоторое время спустя на квартире Нейгауза друзьями была организована выставка его работ. Покойный Р. Фальк, к которому он иногда приходил за консультациями, восхищался дарованием Рихтера. Ему присущи острота зрительных восприятий и прочность «глазной памяти». В одной из своих статей Нейгауз рассказывает, как Рихтер, вернувшись однажды в Москву из Чехословакии, с завидной точностью воспроизвел на бумаге городские пейзажи, запомнившиеся ему по ходу концертной поездки.
«Художническое» и «музыкальное» соседствуют в Рихтере. В статье Н.Элиаша, опубликованной в № 2 журнала «Театральная жизнь» за 1961 год, мы читаем, что Рихтер и в живописи, как в музыке, любит поэзию контрастов: клочок зеленой травы, нежные цветы на фоне раскаленного уличного асфальта или стоящие рядом огромные новые здания и крохотные старые домишки... Со своей стороны, Нейгауз пишет, что в основе ряда рихтеровских интерпретаций лежат ранее возникшие в фантазии пианиста предметно-зрительные образы. Ярчайшая характеристичность, с какой Рихтер передает «Картинки с выставки» Мусоргского, прокофьевские «Мимолетности» и сюиту из «Золушки» или бетховенские «Багатели», прелюдии и «Остров радости» Дебюсси или пьесы Равеля, подтверждает правоту Нейгауза.
В таком случае естественно предположить, что и «шубертовский ручей», и «бескрайность горизонтов» в сонате B-dur, и шумановские карнавальные «гофманиады» в «Новеллеттах» или в «Юмореске» – в момент рождения исполнительских замыслов были не только услышаны, но и «увидены» Рихтером. И тогда столь же трудно отказаться от мысли, что в детские и отроческие годы пианиста «художническое», еще не будучи в состоянии слиться с «музыкальным» и сделаться его верным слугой и помощником, также, наряду с искушениями театра, не могло не отвлекать Рихтера от подлинного призвания – музыки.
Но ведь и в этой решающей для Рихтера области слишком многое слишком долго оставалось не до конца определенным. Приобщившись к фортепиано в семилетием возрасте, Рихтер начал с композиции. Он увлекался импровизаторством и, по свидетельству Нейгауза, до сих пор в интимном кругу импровизирует охотно, часто говорит о желательности возрождения импровизации как особого вида музыкального искусства. В юности у него имелись вполне законченные произведения. Нейгауз не раз высказывал мнение, что только скромность мешает Рихтеру обнародовать их. Сам Рихтер заявляет, что к 22 годам он перестал сочинять. Как бы то ни было, однако отправной точкой в музыкальной биографии Рихтера явилось именно творчество. Факт знаменательный!
А рядом с творчеством – игра в ансамблях. И в настоящее время Рихтер регулярно выступает как участник камерных концертов. Его имя постоянно можно увидеть на афишах советских квартетных коллективов. Ансамблист Рихтер необыкновенный, в своем роде не менее замечательный, чем концертант-солист. Его ансамбль с Н.Дорлиак завоевал исключительную популярность у слушателей. На протяжении более чем полутора десятилетий, выступая по многу раз за сезон, эти два выдающихся артиста исполнили едва ли не всё существующее в камерно-вокальной литературе. На долгие годы запечатлелись в сознании их совместные интерпретации романсов Глинки, Мусоргского («Детская»!), Чайковского, Рахманинова, Мясковского, Прокофьева (достаточно напомнить хотя бы «Гадкого утенка»), Шостаковича, а из западноевропейской музыки, среди бесчисленного – от Баха до Дебюсси и Равеля,– «Прекрасной мельничихи» и «Зимнего пути» Шуберта, шумановских циклов «Любовь поэта» и «Любовь и жизнь женщины», романсов и песен Моцарта, Бетховена, Брамса, Гуго Вольфа...
Камерно-ансамблевое исполнительство никогда не оказывалось для Рихтера чем-то побочным, случайным. Характерно, что даже сделавшись всемирно известным концертантом, он в ансамбле не ставит себя в положение «гастролирующей знаменитости». Опять-таки нельзя не вспомнить, как, играя однажды d-moll’ный концерт Баха, он отодвинул рояль в глубь оркестра, правильно сведя солирующее фортепиано к роли concertino в старинном concerto grosso.
В возрасте же 15–20 лет, в Одессе, концертмейстерство, аккомпанемент, которыми он занимался не вынужденно, а по собственному влечению, составляли для Рихтера одну из основных (если не главенствующую) форм практического проявления себя в музыке.
И, наконец, дирижерство – первая мечта Рихтера уже как самостоятельного исполнителя. Желание увидеть себя во главе оркестра не следует считать случайной прихотью молодого музыканта. Несколько лет тому назад был даже концерт, в котором он предстал перед публикой вооруженный заветной палочкой: 18 февраля 1952 года, в вечер московской премьеры Симфонии-концерта Прокофьева, Рихтер как дирижер аккомпанировал М.Ростроповичу. Это начало не нашло продолжения. А жаль! Кто знает, может быть, Рихтер с его всеобъемлющей музыкальностью, с его волей, с его совершенным слухом, с его способностью не только «поглощать» партитуры, но и вникать в их сокровенную суть, короче, – со всеми его разносторонними достоинствами, смог бы в конце концов превратиться в дирижера первого ранга. Пианизм не явился бы тому препятствием – напомним прославленную именами Бетховена, Мендельсона, Листа, Бюлова, Балакирева, Ант. и Ник. Рубинштейнов, Рахманинова замечательную традицию совмещения в одном лице пианистического и дирижерского амплуа.
Подчеркнем: несмотря на обнадеживающую успешность ранних пианистических выступлений, в последние годы «одесского периода» дирижерство манило к себе Рихтера сильнее чего-либо другого. В.Дельсон в брошюре «Святослав Рихтер» прямо утверждает, что вопрос о своем дирижерском будущем был тогда для Рихтера решен бесповоротно, и только не дождавшись, возможно даже обещанного ему, дирижерского дебюта, Рихтер в 1937 году уехал в Москву. Зачем? То ли чтобы, отбросив прочие соблазны, полностью сосредоточиться на пианистическом поприще, то ли чтобы впервые начать по-серьезному учиться игре на фортепиано.
Столь туманные «то ли» весьма точно отражают тогдашнее, до неправдоподобности странное положение вещей в рихтеровском исполнительстве. Пианизм и заполнял его жизнь, и вовсе не был в ней главенствующим фактором. Рояль существовал для Рихтера не как цель, но скорее как средство общения с музыкой. Каждый свободный свой час он отдавал инструменту. Однако он не работал в школьном смысле слова, а именно играл, с листа прочитывая бесчисленные оперы и симфонии. Интерес к новому вообще характерен для Рихтера. Это также является важным стимулом непрестанного расширения его репертуара. Он первым после автора играл в Москве Шестую сонату Прокофьева и его же Пятый концерт, первым (совместно с А.Ведерниковым) – бартоковскую сонату для двух фортепиано и ударных, – всего не перечтешь! Заметим попутно, что поиски новизны никогда не приводили Рихтера к увлечению крайностями: Хиндемит, Барток для него – разумный предел. Уже в Одессе он успел собрать внушительную коллекцию клавиров, партитур и неутомимо обшаривал местные магазины, библиотеки, частные нотные хранилища в поисках еще неизвестной ему музыкальной литературы, в том числе, разумеется, фортепианной. Жадности к познанию здесь имелось больше, чем системы.
Не было системы и в его собственно пианистических занятиях. Первым наставником Рихтера оказался отец, познакомивший мальчика с основами фортепианного искусства. Но дальше этого дело не пошло: по-видимому, им не легко было найти в музыке общий язык. Приблизительно в то же время Рихтера определили в детскую музыкальную школу. Он и тут «не прижился» – стремление к самостоятельности вступало в непримиримый конфликт с техническими навыками и художественными правилами, прививаемыми извне. Бросив школу, Рихтер до самого приезда в Москву не взял больше ни одного урока!
Примерно в шестнадцатилетнем возрасте он прочно обосновался в самодеятельном кружке при Доме моряков. Трудно предположить, чтобы клубные художественные руководители, да еще в те давние времена, в состоянии были обеспечить должные условия для развития рихтеровского таланта. Но и будучи, по существу, предоставлен самому себе, он уже очень скоро сумел без чьей-либо помощи одолеть листовскую сонату h-moll. При всей удивительности такого факта; удивляться ему не приходится: ведь научился же юный Рихтер, почти не зная музыкально-теоретических дисциплин, .вникать в тонкости сложнейших оркестровых партитур – блистательный самоучка!
В Доме моряков Рихтер испробовал свои силы как концертмейстер. Здесь же он в 1930 году в такой роли впервые предстал перед публикой. За этим дебютом вскоре последовали другие выступления, и среди них – упоминавшийся шопеновский вечер, о котором в брошюре В. Дельсона говорится: «...Концерт прошел удачно. Талант пианиста не вызывал сомнений. Он покорял яркой артистичностью, творческим своеобразием». Цитируемые строки сопровождены, однако, весьма важными замечаниями. Во-первых, пишет В. Дельсон, «первое самостоятельное выступление девятнадцатилетнего Рихтера явилось для многих полной неожиданностью» – то самое, что в каких-то чертах и через шесть лет повторилось в Малом зале Московской консерватории. Во-вторых, при всей успешности концерта, «на исполнении сказалось отсутствие эстрадного опыта, недостаточная отшлифованность произведений» (последствие бесконечной читки с листа и исключительно быстрого выучивания на память!). Наиболее же симптоматичны слова, которыми автор брошюры завершает рассказ о рихтеровском концерте 1934 года: «Казалось бы, начало пианистической карьеры!.. Но Рихтера она не интересует».
Вернее, – еще не интересует! Мысли его пока поглощены дирижерством. Недаром три года отделяют Рихтера от поступления в нейгаузовский класс; три долгих года, потраченных на концертмейстерство в одесских филармонии и оперном театре, на аккомпанирование, разучивание партий с певцами, участие в оркестровых репетициях; три драгоценных года, в течение которых пианизм все еще остается для него лишь «средством общения с музыкой», а в сущности, как таковой, занимает второстепенное место в рихтеровских помыслах.
Следует ли считать одесские годы «потерянным периодом» в жизни Рихтера? Пожалуй, нет. Неизбежные черты любительства, несомненно наличествовавшие тогда в его игре, во всем его отношении к пианизму, с лихвой перекрывались накоплением настоящего профессионализма – внутреннего, притом широчайшего диапазона. Его работа с певцами, в оркестре только поверхностному взгляду может представляться уходом в прикладную музыку, к ремесленничеству: на деле и тут все подчинялось задачам подлинно творческим и опять-таки – широчайшего диапазона. Артистические биографии Рихтера и его учителя Г, Нейгауза по фактам, по тенденциям очень различны. А все же и о молодом Рихтере не явилось бы ошибкой сказать: теряя в одном, он находил в другом.
Мы вплотную приблизились к разгадке парадокса, о котором выше шла речь. И в нем заключена характерная для рихтеровской натуры глубокая диалектичность, объясняющая, почему Рихтер так поздно вступил на артистический путь; почему он сумел «наверстать» упущенное в смысле достижения всеобщего признания, условно говоря, за один вечер – 26 ноября 1940 года; почему он в свои тогдашние двадцать пять лет был сразу воспринят как законченный пианист мирового класса; а наряду с этим, почему ему потребовалось еще длительное время для окончательной кристаллизации. Вот где причины столь медленного – постепенного, поступенного! – «дозревания» Рихтера.
Мы уже отмечали, что едва ли не каждый новый сезон знаменовал вступление Рихтера в следующий этап духовного формирования. Это не преувеличение. Диалектическое единство полярностей проявляется у Рихтера даже в репертуарной области. С одной стороны, репертуар его всегда был безграничен: «прочитанное с листа» оказывалось тут же «усвоенным». С другой – нельзя отнести за счет случайного стечения обстоятельств, что Бетховен всерьез вошел в орбиту творческого внимания Рихтера гораздо позднее, чем это бывает у пианистов, профессиональная подготовка которых ведется систематично и в соответствии с общепринятыми педагогическими принципами; что клавирного Баха в должном объеме Рихтер практически познал только в середине сороковых годов, когда вынес на эстраду оба тома «Хорошо темперированного клавира»; что его шопеновский репертуар и сегодня во многом повторяет то, что содержалось в программе концерта, в 1934 году данного им в одесском Доме инженера, – некоторые этюды, E-dur’нoe скерцо, баллада f-moll.
Подытожим. В любом аспекте, будь то острота непосредственного «музыкального ощущения», способность полностью реализовать интерпретаторские замыслы на рояле, репертуар, – Рихтер уже в последние годы пребывания в Одессе удовлетворял требованиям, предъявляемым концертантам первейшей категории. На дорогу пианистической автодидактики его толкнули не капризы избалованного похвалами «премьера», не провинциальное зазнайство, – просто в Одессе ему не у кого было учиться. При всей недооценке подлинного значения пианизма для своей жизни и дальнейшей судьбы Рихтер не мог не осознавать, что на голову перерос даже лучших из тамошних профессоров. Вместе с тем отсутствие квалифицированного руководителя сказывалось во всем. В любом из перечисленных аспектов перед Рихтером открывался, что называется, непочатый край работы. Тут-то пришел к нему на помощь Нейгауз.
Рихтер числился его студентом почти десять лет. Фактически он находился под его опекой гораздо меньше, ибо сперва война, забросив Нейгауза в Свердловск, на длительный срок оторвала учителя от ученика, а затем только непрерывная концертная деятельность, помешав Рихтеру своевременно сдать некоторые экзамены, оттянула формальное окончание консерватории до 1947 года.
Учил ли Нейгауз Рихтера? Несомненно. Надо было восполнить отдельные неизбежно образовавшиеся пробелы. Пришлось кое-что подправить в «пианистической механике» Рихтера – допустим, снять излишние мускульные напряжения, обусловленные концертмейстерской привычкой чуть-чуть «дирижировать» (локтями, плечами, головой) в ходе разучивания партий с певцами или в процессе самого аккомпанирования. В известных коррективах, конечно, нуждались и рихтеровские трактовки. Однако все такое делалось словно попутно, не занимало в уроках центрального места и брало минимум времени. Нейгауз рассказывает, что, например, на прохождение с Рихтером h-moll’ной сонаты Листа у него ушли не недели, а то и месяцы, как это обычно бывает, а какие-нибудь 30–40 минут в течение одного занятия!
Что получил Рихтер от Нейгауза? Технику? Она у Рихтера и без того была беспредельной. Внешнюю холеность, полированный блеск игры? Подобные качества равно чужды и Рихтеру, и Нейгаузу как концертантам. Музыкальность? Привить ее бессилен даже гениальный педагог. Но если она есть, ее можно устремить по наиболее верному руслу, заменяя интуитивные догадки точным знанием, давая молодому пианисту более широкие представления о существующих разных исполнительских традициях, обогащая столь необходимую для художника ассоциативную сферу мышления. Это и стало генеральной адачей.
Со свойственной ему чуткостью Нейгауз уловил специфику рихтеровского дарования и, ничего не навязывая, не насилуя природу ученика, дал решающий толчок развитию основных особенностей его творческой индивидуальности, шире того – его личности. Нейгауз воздействовал на Рихтера как педагог и как человек, в доме которого Рихтер прожил три с лишним года – до начала, войны – и где он переступил трудный, опасный порог, отделяющий артистическую юность от зрелости. Окружив Рихтера атмосферой и поэтической и высоко интеллектуальной, Нейгауз положил конец его колебаниям, укрепил в Рихтере отношение к пианизму, как к огромной жизненной цели, сюда направил его чудовищную работоспособность. Не побоимся сказать, что не столько в классе, сколько в доме Нейгауза началось восхождение Рихтера к вершинам, на которых ныне пребывает его искусство.
В лаконичной, но полной ценных мыслей статье «Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер (опыт сравнительной характеристики)», цитируя слова Бузони: «...Я требую от большого пианиста такой оснащенности и подготовки, чтобы пьеса, которой он еще не играл, не могла уже поставить перед ним никаких незнакомых задач», Г.Коган указывает, что «Рихтер в полной мере отвечает этому требованию. Трудно назвать другого пианиста, которому новое произведение давалось бы так легко, который с такой поразительной быстротой все расширял и расширял бы свой и так уже необъятный репертуар. Любая музыка для него – открытая книга, открытая как с технической, так и с духовной стороны. Последняя сторона – самая сильная в искусстве Рихтера». Проницательные и меткие соображения! Не свобода технического преодоления, но именно глубина духовного постижения музыки составляет главное в Рихтере. Как у всякого истинного художника, верность «изображаемому» сочетается у него с наличием своего видения. Его исполнения, всякий раз индивидуализированные, несут в себе черты обобщения. Великие композиторы существуют в его сознании и как авторы тех или иных в данную минуту играемых пьес, и как некие целостные образы. Мы попытались показать это на примере Allegro трех гайдновских сонат. Однако аналогичное возможно усмотреть в любом значительном разделе рихтеровского репертуара.
В каждой из 48 прелюдий и 48 фуг «Хорошо темперированного клавира» Рихтер находит «особенное». Каждую из них он трактует как монолит: в одном звуковом колорите, соблюдая строжайшее единство движения. В целом же он играет их очень активно, но с аскетичной простотой экспрессии, всячески избегая каких-либо эмоциональных фразировочных «подчеркиваний», подчиняя интонационную выразительность логике полифонического развития, сообщая баховской музыке – и в ликовании, и в скорби – оттенок словно бы «внеличной» философичности.
Его Бетховен – это ни в чем не схожие интерпретации D-dur’ной сонаты ор. 10, №3 или F-dur’ной op.54; B-dur’ной op.22 или d-moll’ной op.31, №2; «Патетической», или Es-dur’ной op.31, №3. Но это и единый Бетховен: «плебейский» Юпитер-громовержец, Бетховен мощных мужественных чувств, скорее конфликтный, чем трагедийный, скорее неукротимый, чем страстный, скорее потрясающий, чем трогающий, в лирике – предающийся глубоким, иногда скорбным размышлениям, но не «жалующийся»; в веселье – порой по-деревенски грубоватый (будто слышишь в менуэте грузное притоптывание крестьянского каблука!), но не грациозный. Рихтер отлично улавливает разницу между бетховенской «аппассионатностью» и романтическим passionato, бетховенским brio и романтическим con fuoco, бетховенским dolente и романтическим lamentoso.
В Шуберте он вовсе не замыкается в рамках романтической меланхолии. Его не страшат здесь ни шквальные вспышки, ни внезапные контрасты света и тени. Однако прежде всего он передает (а может быть, точнее было бы сказать – ощущает, переживает) музыку Шуберта, как немецкую романтическую Lied, где песенность разлита не в одном лишь мелосе, а в покоряюще скромной, «стыдливой» искренности лирического порыва и кристальной целомудренности чувства, где звуки исходят как бы из самой души.
Рихтеровский Лист насквозь динамичен, что, понятно, ни в коем случае не следует смешивать с бравурностью, с тем, что сделало Листа кумиром пианистов «виртуознического» толка. Властность, огненность влекут к себе Рихтера в Листе раньше, нежели ламартиновского толка патетика или поэтичные «зарисовки» путешествующего философа-созерцателя, чем фаустовские сомнения или мефистофельская ирония. Не потому ли так долго искал Рихтер ключ к h-moll’ной сонате; не потому ли и сейчас еще в его интерпретации «Хоровода гномов» на первом плане оказываются не «демоническое начало» (как у Рахманинова, например), а волевая, моторная настойчивость триолей в левой руке и неудержимое «кружение» пассажных водоворотов – в правой; не потому ли и «Блуждающие огни» для него – не столько «чертовщина», сколько опять стремительность мчащегося звукового вихря.
Его Рахманинов в большей мере титаничный, «колокольный», чем элегический, «пейзажный». Оттого во Втором концерте лучшее у Рихтера все-таки финал, а не начальные две части, где наряду с подлинными художественными прозрениями кое-что воспринимается в его трактовке как нарочитое, придуманное.
В Скрябине Рихтер акцентирует не эротические томления, не таинственность «мистических озарений» и не аристократическую утонченность, но полетность, взрывчатость. В прокофьевском творчестве (имея в виду не отдельные интерпретации, а рихтеровского Прокофьева в целом) неуемность хлещущего темперамента сплавляется у него с проникновенной интимной задумчивостью, нежной сказочностью; колючесть ритмов, каменистая жесткость звучаний в массивных нагромождениях кульминаций – с изысканным лиризмом, «скифство» – с романтикой.
Говоря о «баховском», «бетховенском», «шубертовском», «листовском», «рахманиновском», «скрябинском», «прокофьевском» Рихтере (а таких «разных Рихтеров» столько же, сколько есть крупных играемых им композиторов!), часто приходится использовать одни и те же или очень близкие сравнения, эпитеты. Это печальное свидетельство бедности словаря, но не рихтеровского искусства. На; самом деле, знакомые нам «мечтательность» или «порыв», «лиризм» или «стремительность», будучи у Рихтера вполне определенными, в каждом отдельном случае получают частные выражения – так же вполне определенные и отграниченные от смежно-родственных им. И здесь мы снова сталкиваемся с одной из существенных особенностей его исполнительства.
Рихтер наделен острейшим чувством музыкального времени. Правильнее было бы сказать, что он владеет временем. Составляя часть неделимого «исполнительского переживания», время словно бы различно для Рихтера в различных произведениях: одно, допустим, в Andantino grazioso из шумановского концерта, другое – в третьей части В-dur’ного концерта Брамса, третье – в финале «Аппассионаты», четвертое – в С-dur’ном шопеновском этюде ор.10, №1. Allegro molto в первой части сонаты C-dur Гайдна кажется у Рихтера обыкновенным allegro, ибо фактическая быстрота не только в восприятии аудитории, но и для самого пианиста сливается с общей интенсивностью трактовки.
При точной соразмеренности всех темповых градаций и переходов, у Рихтера в рамках каждого «данного времени» имеются свои относительные, психологические «быстро» и «медленно», подчас не совпадающие с привычными показателями метрономической шкалы, но создающие у слушателя отчетливое, ни с чем не смешиваемое ощущение характера движения. As-dur’ный «Музыкальный момент» (ор. 94, № 6) Шуберта Рихтер играет заторможеннее, а f-moll’ную балладу Шопена – скорее общепринятого. Однако ни первый не оставляет в его передаче впечатления затянутости, ни вторая – торопливости. Лишь после окончания рихтеровских исполнений скерцо из Восемнадцатой сонаты Бетховена, финала «Аппассионаты», «Хоровода гномов» осознаешь, в каком невообразимом темпе играл пианист.
И в динамической сфере относительное преобладает у. Рихтера над абсолютным, психологическое – над фактическим. Играя «вполголоса», он заставляет аудиторию слышать и пианиссимо, и фортиссимо. Любая из темповых, динамических, тембровых красок у него – целый мир, богатый разнообразнейшими внутренними оттенками, а в последнем счете уходящий к тому или иному творческому состоянию пианиста.
Тут следует еще раз подчеркнуть, что и сами эти состояния возникают у Рихтера не как «состояния вообще». Обобщаясь в категории «музицирования», «динамизма», они всегда отмечены у него качественной конкретностью, порождаемой стилем, интонационным строем, эмоциональным колоритом, содержанием исполняемого. Отсюда становится понятным, каким образом Рихтер, без ущерба для конечных художественных результатов, может так подолгу пребывать в орбите однородных выразительных средств.
В финале бетховенской сонаты d-moll он раскрывает все репризы, и все-таки чем дольше звучит длиннейшее рондо, чем меньше Рихтер расцвечивает его фразировочной нюансировкой, тем «обиднее» думать, что это удивительное, завораживающее исполнение вот-вот кончится. Рихтер не боится объединить в одном концерте, например, восемь прелюдий и фуг Баха, Es-dur’ную сонату Гайдна и шубертовскую фантазию «Скиталец». Чтобы взяться за, такую, лишенную и тени внешней эффектности, программу, нужна непоколебимая вера в музыкальное искусство: стоит концертанту хотя бы на секунду подумать, что слушателям станет скучно, и он пропал! Однако именно это выступление (датированное не то 1946, не то 1947 годом) превратилось в одну из тех замечательных побед пианиста, которые за десять лет до того предугадывал Нейгауз, радостно приветствуя Рихтера в своем классе. Случались целые сезоны, на протяжении которых Рихтер, вызывая неизменные восторги аудитории, играя, говоря условно, не громче скромнейшего меццо-пиано, не скорее умереннейшего allegretto, – оставался в одной из своих стихий.
Впрочем, только ли стихиями являются его творческие состояния? Стихия в какой-то мере безотчетна. Напротив, Рихтера даже в отдаленном плане нельзя сопоставлять ни с концертантами, в присутствии публики теряющими власть над своим темпераментом, ни с музыкантами типа тургеневского Лемма, пассивно отдающимися импровизаторскому музицированию, не знающими, куда в следующий миг поведет их стихия нахлынувшего настроения. И в минуты страстной увлеченности Рихтер на эстраде не утрачивает способности к самоконтролю. Он всегда твердо знает, что ему должно делать. Вольный полет фантазии, непосредственность творческого процесса сочетаются у Рихтера с точнейшим расчетом, с четкой продуманностью плана трактовок, путей практического осуществления исполнительских намерений.
В таком единстве вдохновения и разума, эмоционального и интеллектуального – один из секретов неодолимо воздействующей силы рихтеровского искусства, то, что делает Рихтера больше, чем только громадным пианистом, только замечательным концертантом, но – властителем дум, покорителем своей аудитории.
Однако тут же приходится искать причины и некоторых его слабостей. В тех далеко не частых случаях, когда в душевном плане что-то мешает пианисту, жизненный пульс его экспрессии вдруг падает, в нее вкрадывается чисто умозрительная «отрешенность». Так, однажды, словно вовсе унесенная в некие заоблачные выси, с уже абстрактной «бесплотностью» прозвучала у Рихтера любимая им В-dur’ная шубертовская соната. Иногда его игра неожиданно делается формальной. В других случаях его динамизм становится утрированным, и, допустим, в «Сновидениях» Шумана (из «Фантастических пьес») на место потока мятущихся смутных видений является жесткая металличность звучаний, а в «Новеллеттах» шумановская романтическая трепетность подменяется наэлектризованностью, Aufschwung – прямым напором.
Интеллектуальная сторона постижения музыки порой приводит Рихтера к упрямому догматизму. Не этим ли объясняется безоговорочное выключение им из своего репертуара каких-либо транскрипций или, например, противоречащая характеру данной музыки, явно нарочитая (во что бы то ни стало!) замедленность темпов в ряде эпизодов Moderato и Adagio sostenuto Второго концерта Рахманинова? Рихтеровские исполнения Баха производят неизгладимое впечатление. А все-таки в их «аскетизме», в непременном отстаивании «внеличности» баховского творчества есть и доля умозрительной преднамеренности. Не случайно его трактовка «Хорошо темперированного клавира» породила в свое время столь горячие споры.
Настоящих художников надлежит судить не по их частным (неизбежным, ибо они живые люди) ошибкам и заблужениям, но по тому, что оказывается основным законом их творчества. Кто же Рихтер – «классик» или «романтик», мыслитель или поэт, бетховенист, шубертианец или, может быть, шопенист, что, наконец, ощутилось в его последних исполнениях E-dur’нoro скерцо и еще явственнее – коды As-dur’ной баллады? Отбросим якобы обязательные «или». Диалектика рихтеровского исполнительства включает в себя подобные антитезы, как разные проявления единого и целостного. А кроме того – и это самое главное, – он художник большой души, искреннего, правдивого чувства, влюбленный в музыку, верящий в ее красоту и великое этическое назначение, бескорыстно служащий ей, ибо она сама служит людям.
Это и есть основной закон его творчества!

С.Хентова.
В книге «О музыке и музыкантах».
«Советский композитор», 1970.
Святослав Рихтер: пианист современности
Стефан Цвейг как-то заметил, что популярность художника сама по себе уже признак серьезности явления и ее причины должны быть предметом психологического изучения.
В музыкально-исполнительском искусстве сейчас всеобщий отклик встречает игра Святослава Рихтера. Каждый его концерт – событие. Вот уже несколько десятилетий Рихтер – одна из центральных фигур советской и мировой музыкальной культуры. О приметах его игры написаны десятки статей. Довольно подробно изучены его трактовки отдельных произведений, подмечены детали. Сам пианист ведет запись своих концертных выступлений, снимался в фильме.
Как будто сказано немало. И вместе с тем, размышляя о причинах популярности артиста, приходишь к выводу, что они не только в его профессиональных качествах интерпретатора. Всеобщий интерес, увлеченность этим искусством объясняются причинами более широкими – современными духовными, эстетическими запросами, на которые Рихтер отвечает своим искусством, своей жизнью. Речь должна идти не только о свойственном людям стремлении к идеалу: Рихтера не следует возводить на такой отвлеченный пьедестал.
Главное – в отношении артиста к целям, сути, смыслу музыкальной деятельности.
В самом деле, что такое концерт? В чем смысл выступления музыканта перед публикой?
Концерт доставляет удовольствие. Приносит отдых. Обращаясь к нашим чувствам, музыка облагораживает их. Концерт знакомит с музыкальными сочинениями, которые мы еще не знаем, или дает радость встречи с произведениями уже известными, любимыми. Профессионал-музыкант отправляется на концерт, чтобы учиться, восхищаясь мастерством артиста и анализируя его.
Все это так. Но есть высшая цель концерта, которую Маргарита Лонг сформулировала следующим образом: «Концертная эстрада – кафедра истины, откуда должно исходить доброе слово. Миссия артиста – убеждать... Концерт представляет собой усилие убеждения, своего рода проповедь». Концерт должен влиять на человеческую сущность, как об этом мечтали Бетховен, Лист, Скрябин, должен заставить забыть о буднях жизни, пробудив лучшее, возвышенное, что есть в человеке.
К сожалению, эта единственно великая цель концерта часто теряется в деловом тонусе искусства. Ремесло и умение становятся суррогатом вдохновения. Уверенное мастерство отделяется от личности артиста, которая совсем тускло проявляется в исполняемых произведениях.
Рихтер весь, целиком подчинен музыке.
Музыка – его душа, вся его радость. Чудо жизни возникает каждый раз при рождении музыкального сочинения на его концерте. И слушатели чувствуют эту одержимость, полную самоотдачу искусству, и подчиняются воздействию артиста.
Именно потому концерты Рихтера вызывают такой интерес, хотя его трактовки отдельных произведений бывают спорными.’
Творчество Рихтера особенно близко поискам молодежи. Я убедилась в этом, когда несколько лет назад, после публикации статьи о пианисте в журнале «Нева», его редакция прислала мне отклики читателей. Среди многих писем молодых любителей музыки обратило на себя внимание и взволновало письмо двадцатилетнего солдата; он проходил службу в Белоруссии и вскоре собирался на родину, в Тамбов.
Письмо начиналось тревожно: «Вы пишете – Шопен...
Рихтер... Мне казалось, что такие люди не существуют. Не верилось, что они есть. Я их не встречал. И я почти потерял веру в людей искусства». Далее юноша рассказывал, что родители не имели средств, чтобы обучать его музыке. Он записался в самодеятельный оркестр, мечтал о поступлении в музыкальное училище. Ежедневно он приходил .к зданию училища, к окнам, «откуда лились звуки, и испытывал внутренний трепет, когда слышал «Лунную сонату» Бетховена или другие произведения, исполняемые учениками...» Долгое время он не осмеливался войти в это здание. «Но вот свершилось чудо: я поступил в музыкальное училище, на вечернее отделение, по классу тромбона, сам приобщился к музыке, начал учиться». Вместе с восторгом пришло разочарование: «Я разочаровался в людях, занятых музыкой. Именно занятых. Я не встретил в училище людей, одержимых музыкой, истинно любящих искусство, а мечтал о такой встрече».
И вот в Рихтере этот юноша нашел такого артиста-художника, такую одержимость искусством. Юноша, уже имевший другую, техническую специальность, писал, что музыку он никогда не бросит, будет служить ей всю жизнь так же преданно, как Рихтер, не считаясь с трудностями.
Жизненная биография Рихтера показывает, сколь необычным, сложным бывает путь в искусство большого, оригинального таланта.
Родители, выходцы из Германии, осели на Украине, в Житомире, потом в Одессе; к музыкальным перспективам сына они относились не без скептицизма. Уроки в музыкальной школе завершились неудачно: Рихтер оттуда сбежал. Стал обучаться сам: покупал ноты и играл подряд оперные клавиры, партитуры – все, что находил в Одессе, и, кроме того, устраивал театральные представления, для которых писал сценарии, прозаические и стихотворные. Ему нравилась работа в оперном театре, как пианист-аккомпаниатор он помогал певцам разучивать партии и мечтал о дирижерском дебюте. В его исполнительские возможности не верили: находили, что у Рихтера неловкие руки, движения его недостаточно пластичны, звук суховат.
В 1933 году, когда Рихтеру было восемнадцать лет, в Москве проходил Первый всесоюзный конкурс исполнителей – первый в истории советского музыкального искусства смотр молодых дарований. На этом конкурсе шестнадцатилетний Эмиль
Гилельс занял первое место и сразу стал, таким образом знаменитым. Другой земляк Рихтера, Давид Ойстрах уже в те нескольких лет концертировал. Начиналась полоса международных конкурсов. Одесса беспрерывно «поставляла» музыкальные таланты. Колоритный морской город, воспетый Куприным, Бабелем и Паустовским, казался неиссякаемым источником замечательных пианистов и скрипачей.
Рихтера в это время никто не знал.
Равнодушный к похвалам и порицаниям, он не делал ни одного шага, чтобы выдвинуться, обратить на себя внимание завоевать прочное положение или хотя бы вступить в естественное соревнование со сверстниками, стремившимися на концертную эстраду.
Рихтер делал только то, что ему нравилось. А нравились ему не многочасовые утомительные занятия на фортепиано не уроки под наблюдением педантичных учителей и даже не концертные выступления, а постижение музыки бесконечное вслушивание, открытие нового: незнакомых созвучий, логических закономерностей, образов... В нем рано развились само- стоятельность, независимость, равнодушие ко всему показному
Он не собирался покидать Одессу, если бы не такая уж значительная, но для него очень горькая обида: ему не дали обещанного дирижерского дебюта в опере.
И тогда Рихтер поехал в Москву к Генриху Нейгаузу.
Шаг этот был достаточно решительным и пожалуй даже смелым. Рихтеру минуло двадцать два года – возраст, в котором пианисты обычно уже концертируют и имеют представление о своих артистических возможностях. А Рихтер собирался только поступать в консерваторию, причем не имея даже диплома о среднем музыкальном образовании.
«Интересно было посмотреть на смельчака – рассказывал Нейгауз о первой встрече с Рихтером. И вот он пришел. Высокий худощавый юноша, светловолосый, синеглазый с живым, удивительно привлекательным лицом. Он сел за рояль, положил на клавиши мягкие, нервные руки и заиграл.
Играл он очень сдержанно, я бы сказал, даже подчеркнуто просто и строго. Его исполнение сразу захватило меня каким-то удивительным проникновением в музыку. Я шепнул своей ученице. „По-моему, он гениальный музыкант”»
Гениальный музыкант! – это мнение Нейгауза, проницательность которого не вызывала сомнений, скоро стало известным в консерватории, блиставшей тогда многими первоклассными молодыми пианистами.
Больше всех удивлен был сам Рихтер: он всегда считал, что немногие имеют право называться гениями фортепианного искусства, что это, как правило, исполнители, являвшиеся одновременно композиторами –реформаторами фортепиано, – Бетховен, Лист, Шопен, Скрябин, Рахманинов... Но сказанное Нейгаузом означало для Рихтера многое. Уже тогда довольно зрелый музыкант, замкнутый, недоверчивый, с острым чувством самокритики, он впервые встретил такую оценку своих возможностей. Это заставило задуматься: не пришла ли пора определить свой путь, концентрируя усилия в одном направлении?
Нейгауз ориентировал Рихтера на исполнительство, и Рихтер всецело поверил ему. Не избалованный в юности признанием и участием, он потянулся к педагогу-художнику, оказавшемуся именно тем учителем, какой единственно и мог подойти Рихтеру, – разносторонне одаренным, ненавязчивым, умевшим ждать и верить, бережно, чутко направляя усилия ученика, пробуждая в нем желание играть на эстраде, вкус к артистической деятельности и связанное с этим стремление к законченности, совершенству игры.
И все же прошло еще около пяти лет, прежде чем Рихтер смог себя ограничить: лишь в 1942 году, в двадцатисемилетнем возрасте, он начал заниматься фортепианной игрой без перерывов, с большим напряжением.
Занятия его с Нейгаузом проходили своеобразно. «Должен сказать откровенно, – рассказывал Г. Г. Нейгауз, – что учить Рихтера в общепринятом смысле слова мне было нечему. По отношению к нему я всегда соблюдал лишь позицию советчика... Однажды я попросил Рихтера подготовить к уроку сонату Листа – произведение исключительно сложное. Через некоторое время он сыграл сонату, и сыграл превосходно. Оставалось только дать ему несколько небольших советов да поспорить о трактовке одного эпизода, который показался мне недостаточно драматичным. На все это ушло минут тридцать-сорок. А обычно со своими учениками я работаю над этой сонатой по три-четыре часа на нескольких уроках.
Хочу думать, что мои занятия помогли Рихтеру, но больше всего он помог себе сам, помогла его страстная любовь к музыке».
Однако, что его ждет впереди, Рихтер и тогда еще не представлял.
Он все еще обучался в консерватории и отнюдь не торопился ее закончить. Далеко не все занятия его интересовали Некоторые предметы Рихтер совсем не посещал, зато, не считаясь со временем, увлекался работой в кружке ознакомления с музыкальной литературой.
Классы тгогда еще не были радиофицированы, – вспоминает Д.Б.Кабалевский, – и симфоническую музыку мы играли в четыре руки. Принес я как-то Третью симфонию Малера. Попробовал сыграть с одним студентом – ничего не вышло. С другим – тоже не получилось. «Неужели никто не сможет этого сыграть?» – обратился я к классу, понимая, впрочем что задал нелегкую задачу.
«Попробую», смутившись, сказал незнакомый мне, очень скромный и чуть-чуть нескладный юноша. Он быстрой походкой подошел к роялю, сел рядом со мной за «первую партию». Через несколько тактов я почти перестал понимать, что происходит. Такой талантливой и мастерской игры с листа я еще никогда, кажется, не встречал. Сознаюсь честно: я – профессор, –еле-еле свел концы с концами, чувствуя явное превосходство над собой этого незнакомого студента с огромными руками...
Когда мы доиграли первую часть симфонии, я спросил своего юного партнера: „Как ваша фамилия?". Он опять почему-то смутился и ответил: „Рихтер...”».
Условия жизни оставались трудными, и Рихтер ничего не предпринимал, чтобы их изменить. Не было ни квартиры ни рояля, ни денег. Ютился Рихтер у товарищей, занимался где придется, главным образом ночами; он поражал способностью сосредоточиваться на творчестве в любой обстановке в любое время.
Часто Святослав Рихтер занимался в доме московской художницы Анны Ивановны Трояновской. Приходил к ней вечером, молча садился за фортепиано, играл. А художница рисовала. С той поры сохранились у Трояновской нарисованные ею портреты молодого Рихтера.
«Даже в 1944 году, когда Славе уже было двадцать девять лет, он еще не имел собственного фортепиано, – рассказывает она. – Я с радостью предоставила ему свой рояль... Время тогда было военное, зима выдалась морозная и голодная.
Прямо посреди моей комнаты топилась печурка-времянка, на которой мы варили на ужин картошку».
Помогала Рихтеру и семья его консерваторского товарища, пианиста Анатолия Ведерникова, тоже ученика Неигауза.
Стоило Святославу прикоснуться к инструменту, как он забывал обо всем на свете, мог играть по восемь-десять часов; особенно любил играть сразу после концерта, когда подъем и возбуждение помогали преодолевать усталость.
«Как-то поздно вечером шли мы после его концерта из Большого зала консерватории, – вспоминает Г. Г. Нейгауз. Около института имени Гнесиных Рихтер остановился.
– Я, пожалуй, зайду позанимаюсь: через два дня у меня концерт в Ленинграде, – сказал он. Рихтер прозанимался всю ночь. В пять часов утра сторож зашел в класс и спросил у него. „Ну что, выходит у тебя?’’».
Первый самостоятельный сольный концерт Рихтера был назначен на 19 октября 1941 года. Фашистские войска наступали на Москву. Концерт отложили. Он состоялся в июле 1942 года. Пианист играл сочинения Бетховена, Шуберта, Рахманинова, Прокофьева.
Помнится, в 1944 году, незадолго до очередного Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, на доске учебных распоряжений Московской консерватории появился наконец маленький плакат, извещавший о государственном выпускном экзамене по фортепиано Святослава Рихтера.
Экзаменационной комиссии пришлось перейти в Большой зал консерватории, так как экзамен Рихтера заключался в открытом сольном концерте, собравшем много слушателей.
Вскоре Рихтер сыграл и на Всесоюзном конкурсе и разделил первое место с Виктором Мержановым Именно тогда же Рихтера высоко оценил С.С.Прокофьев. Их первая встреча произошла в 1941 году на концерте, где Рихтер играл Шестую сонату «Прокофьев, – рассказывает пианист, – улыбаясь, прошел через весь зал и пожал мне руку. В артистической возник разговор: «Может быть, молодой музыкант сыграет мой Пятый концерт, который провалился и не имеет успеха?! Так, может быть, он сыграет, и концерт понравится?!»
Я Пятого концерта не знал, но сразу же мне стало интересно…
В феврале 1941 года я уезжал в Одессу и взял с собой Пятый концерт.
Через месяц я вернулся в Москву с готовым концертом.
.. .Концерт имел большой успех... Я был счастлив. В двадцать два года я решил, что буду пианистом, и вот в двадцать пять лет играю сочинение, которое никто, кроме автора не исполнял».
Рихтеру передал Прокофьев для премьеры свою Седьмую сонату (разученную пианистом в рекордно короткий срок – за четыре дня) и затем, позднее, посвятил ему Девятую. Прокофьев вошел в жизнь пианиста как самый близкий композитор, в интерпретации произведений которого раскрываются лучшие черты исполнительского облика Святослава Рихтера связь его искусства с пульсом современности.
С этого времени, то есть с середины сороковых годов, канва биографии артиста, и прежде небогатой событиями, определяется только работой, концертами. Концерты – значит беспрерывные путешествия. А путешествия часто настолько насыщены концертами, что почти исключают элемент познавательный. Так, во время первых гастролей в США Рихтеру не удалось посетить ни одного концерта, только один раз он встретился с журналистами, поставив, таким образом, по мнению иностранной прессы, рекорд сдержанности.
Скромность Рихтера чужда нарочитости: это естественная потребность натуры, которая достаточно поздно осознала призвание и теперь бережет каждое мгновение для творчества. В каждую программу он вкладывает максимум усилий – духовных и физических. Вера Инбер после концерта Рихтера в 1951 году писала о «розовых от напряжения пальцах Рихтера».
Непоседливость Рихтера, его постоянные «перемены мест» проявление жажды деятельности, составляющей смысл жизни. Его энергию, как и прежде, подстегивает неудовлетворенность собой; зал может стонать от восторга, а Рихтер внутренне убежден: почти ничего не удалось. Вот’ кажется, только одно местечко... И терпеливо дождавшись, пока публика разойдется, усаживается за фортепиано, чтобы поработать еще и еще.
Нет ничего более ошибочного и даже обидного для Рихтера, нежели представлять его пианизм как застывшее классическое совершенство, ограничиваясь восторженными эпитетами. Очень важная и еще далеко не выполненная задача советского музыковедения – детально проследить эволюцию артиста, поучительные этапы развития его пианизма. Ведь достаточно было послушать цикл концертов Рихтера в Ленинграде, чтобы ощутить, насколько беспредельна способность пианиста к совершенствованию, к открытию нового, неведанного в давно известном и даже совсем простом «учебном репертуаре» (Девятнадцатая, Двадцатая бетховенские сонаты).
Было у Рихтера время, когда в центре внимания стояло накопление репертуара. Казалось, пианист никогда не играл дважды одно и то же. Сочинение выучивалось стремительно, «авральным способом», и тут же выносилось на эстраду. феноменальная память и сосредоточенность помогали быстрому усвоению капитальнейших произведений: цикла из сорока восьми прелюдий и фуг «Хорошо темперированного клавира» Баха, сонат Бетховена, сочинений современных авторов Бартока, ’ Шимановского... Казалось, у Рихтера не было симпатии или антипатий. Фортепианная литература лежала перед ним, словно открытая книга, и он листал ее с лихорадочной поспешностью, во всем находя прелесть, новизну (вспомним, например, его «открытие» и блестящее исполнение фортепианного концерта Римского-Корсакова).
«Репертуарная лихорадка» приводила к перенапряжению. Эстрада порой мстила за поспешность. Изменяла память - внезапно появлялись «провалы» в простых местах. Не всегда хватало эмоциональных сил – исполнение становилось чрезмерно сдержанным. Пианист как будто не исполнял, а «докладывал» музыку. Периоды творческого подъема сменялись упадком, депрессией, когда Рихтер, не удовлетворенный своей игрой, не прикасался к фортепиано.
Дальнейшее развитие его пианизма показало, что репертуарное обогащение имело для Рихтера принципиальное творческое значение. Рихтер никогда специально не занимался тем что принято называть техникой фортепианной игры, не играл упражнений, этюдов, гамм. Он и здесь шел путем необычным. Мастерство вырабатывалось на самом репертуаре, в процессе бесконечного «вхождения» в произведения разных авторов – от Баха до Прокофьева, использовавших разные средства и возможности фортепиано, требовавших совсем разного подхода. Вот почему на вопрос: «Как же вам все-таки удалось овладеть вершинами пианистической техники?» - Рихтер имеет право коротко ответить: «Я просто очень много играл. Вот и все».
И это действительно так: накопление репертуара было одновременно борьбой за мастерство.
В истории исполнительства нередко встречаются примеры когда исключительна приспособленным к фортепианной игре натурам приходится усилием воли восполнять недостатки музыкальной культуры, образования, кругозора, многосторонних качеств музыканта.
У Рихтера наоборот. Музыкант превалирует над пианистом-артистом.
Приходится задумываться над чисто пианистическими навыками, добиваться совершенства аппарата воплощения. И не нужно думать, что это давалось Рихтеру легко. Ведь у него не было школы, приобретаемой в детстве, его никто не учил как проще и надежней владеть инструментом. Однако – и здесь мы снова встречаемся со способностью истинно великих артистов даже недостатки превращать в достоинства, – лишенный ремесленного ученичества, Рихтер создает свою технику в которой отсутствуют привычные технические стандарты. Это техника, продиктованная единственно художественной волей артиста, его личными образными представлениями, полностью соответствующая артистической индивидуальности. В этом смысле Рихтеру удается выработать совершенную технику, подражать которой все же невозможно: она по-рихтеровски неповторима и притом что редко бывает даже у талантливых артистов исключительно гибка, изменчива, в зависимости от стилей, которые интерпретирует артист.
Нам пришлось за короткое время услышать три концерта Рихтера, когда игрались Шопен, Дебюсси, затем Бетховен, Прокофьев. Казалось, что за фортепиано сидели разные пианисты, настолько все менялось: приемы звукоизвлечения, характер пассажей, движения.
Периодом существенных сдвигов в исполнительском облике Рихтера была первая половина пятидесятых годов. Осуществилось задуманное: пианист в совершенстве овладел выразительными ресурсами фортепиано. Отчетливо выявились устойчивые психологические особенности процесса исполнительского творчества, в частности, характерный для Рихтера дирижерский склад исполнительского мышления, сказывающийся прежде всего в поразительной целостности трактовок. Еще прежде чем пианист прикасается к инструменту, музыкальная картина рельефно, словно совершенное создание архитектуры, воссоздается в его голове. Безупречна логика построения формы, соотношений, каждая деталь оправдана, необходима и кажется единственно правильной и уместной. Ничего лишнего. Ничего ради украшения. Никакой уступки соблазнам фортепианной виртуозности, красочности, чувственному очарованию фортепианного звука, имеющему свою притягательную прелесть для слушателей.
Вокальные принципы интонирования Рихтеру мало свойственны. Тембровая палитра настолько богата, что создается впечатление «фортепианной оркестровки». Истоки такого мышления, конечно же, в основательном знакомстве с оркестровой литературой, в изучении оркестровой звучности, чтении партитур, давней привычке воспринимать через фортепиано музыку симфоническую, оперную. Вероятно, так играл Лист, решавшийся исполнять в концертах симфонии и называвший свои переложения «фортепианными партитурами». Эта традиция имела в России своего сторонника в лице Мусоргского; его «Картинки с выставки» – высшее исполнительское достижение Рихтера.
В этой работе сказалось еще одно качество его воображения; сочетание слышания музыканта с видением художника, постижение зримой пластики образов-картин нечто общее с психологией Федора Шаляпина – актера, музыканта, художника. Было бы наивной схемой проводить аналогии между рисунками, картинами, принадлежащими кисти Рихтера – а он великолепный, оригинальный живописец, – и его пианизмом. Скорее даже можно отметить различия: избегающий как интерпретатор пейзажных произведений, зыбких настроений, он охотно рисует подобного рода «легкие», трепетные эскизы: «Голубой Дунай», «Лето», «Набросок» – воспоминания, грезы. Не потому ли он сам считает свои занятия живописью только разрядкой, отдыхом от музыки. И все же развитие остроты видения несомненно отражается на живости его пианистического «рисунка», обогащает его пианистическую «палитру», благотворно уводит от опасности холодной безупречности.
Сейчас Рихтер достиг творческой зрелости.
Постоянные поиски, одержимость в работе остаются неотъемлемыми его свойствами, но развитие искусства идет теперь уже не вширь, а вглубь.
Круг репертуара, характерный для нынешнего Рихтера, - Гайдн, Бетховен, Шуберт, Шуман, Брамс, Прокофьев, причем произведения, сравнительно редко звучащие с эстрады. Обилие репертуара не означает равный успех; есть авторы и сочинения, далекие Рихтеру, например, Шопен, «Лунная соната» Бетховена, большая часть фортепианных сочинений Шостаковича.
Обычно с возрастом исполнители умеряют проявления эмоциональной непосредственности. Рихтер вновь исключение из правила. Не удивительно: ведь признание и уверенность приходят к нему сравнительно поздно. Поздно постигает он артистические законы восприятия, узнает окрыляющую радость душевного контакта со слушателями. Наблюдая Рихтера на эстраде сдержанного, всецело погруженного в музыку, – можно подумать о равнодушии артиста к реакции зала на его игру. Но это не так. Рихтер, по его собственным словам, судит о слушателях «не по аплодисментам и вызовам, которые нередко бывают данью вежливости, и не по лестным отзывам прессы.. а по той «немой», но так знакомой каждому исполнителю глубокой реакции слушателей, по тем, я сказал бы, трепетным сердечным нитям, которые связывают зал с эстрадой». Эти-то трепетные нити, всегда возникающие на концертах Рихтера, и составляют самое ценное завоевание музыканта, помогающее ему свободно и смело выявлять свои исполнительские намерения.
Иногда Рихтера называют романтиком фортепианной игры, иногда пишут о нем как о классике.
Я бы затруднилась классифицировать его творчество, ибо всякая классификация выдающихся художников условна, в данном случае – крайне условна. Артист бывает и романтичным, и классичным, фантазия его гибка, подвижна.
Отсюда не следует, что игра Рихтера одинаково близка всем. Он едва ли многое скажет людям, ищущим в музыке тихой пристани от житейских бурь, наслаждения, безмятежной радости, изысканности, патетики, риторики. Музыка в его исполнении, как правильно определил один зарубежный критик, прежде всего «звуковой процесс мышления». В игре Рихтера – диалектика нашей бурной эпохи. Есть элементы, сближающие его искусство с видением мира Блоком, Маяковским, Хемингуэем. Аналогией в области композиторского творчества может быть творческий метод Сергея Прокофьева, в области киноискусства – Сергея Эйзенштейна. Как и названным художникам, Рихтеру свойственна манера выражения, типичная для нашего времени: лаконизм, простота, точность, интеллектуальная проникновенность и сдержанность при необычайной внутренней эмоциональной насыщенности.
Как-то один крупный артист, выполняющий, много различных обязанностей – педагогических, концертных, административных, – сказал, что Рихтер – единственный музыкант, которому удается полностью осуществлять намеченное и делать только то, что необходимо для творчества.
Не уверена, что это полностью соответствует истине, но Рихтер действительно стремится каждое мгновение посвящать музыке, как делу жизни.
Такие художники, как Рихтер, многое дают людям. Учат правде. Просвещают. Увлекают творческой одержимостью. Вот почему все, кто любит музыку, восхищаются Рихтером и относят его к числу самых значительных музыкантов-исполнителей XX века.
1970

Леонид Евгеньевич Гаккель.
Из сборника популярных очерков «Рассказы о музыке и музыкантах».
М.-Л.: "Советский Композитор", 1973, с. 124-151.
Для музыки и для людей
Святослав Теофилович Рихтер родился 20 марта 1915 года в Житомире. Музыкальная наследственность его более чем очевидна: отец — музыкант-профессионал, пианист и органист, окончивший в свое время Венскую музыкальную академию. В семилетнем возрасте, в Одессе, куда переехала семья, Рихтер получает от отца первые уроки фортепианной игры. Дело, однако, не пошло далеко; вскоре мальчик оказывается предоставленным самому себе в своих музыкальных занятиях. Рихтер с эпическим спокойствием описывает это время: «Все мы — папа, мама и я — жили в Одессе. Папа преподавал в консерватории. Я любил сидеть дома и проигрывать с листа оперы — с начала до конца». Он «читал» оперы, читал разнообразную музыку, как другие читают книги, — читал целыми днями, не торопясь, перечитывая прочитанное, наслаждаясь чтением... Музыка и стала для него вскоре «открытой книгой».
Окончив школу — там интерес его, кстати, сосредоточивался лишь на гуманитарных науках, — Рихтер поступил концертмейстером в Одесскую филармонию (1930), потом перешел в Театр оперы и балета, где проработал три сезона концертмейстером оперы. Он работал вовсе не вынужденно, не ради заработка (по крайней мере, не только ради заработка). Ему нравилось «читать» новую музыку, симфоническую и оперную.
Концертмейстерство и дало ему огромную начитанность в музыке различных стилей, поэтому в дальнейшем он так легко вошел в обладание колоссальным фортепианным репертуаром. Концертмейстерство в невиданной мере развило у него навык чтения с листа, оно вообще развило умение читать нотный текст. Немаловажная деталь: Рихтер читает нотный текст абсолютно полно, в характере и в темпе, не теряя практически ни одного авторского знака, и эта культура чтения текста составляет высочайшее достоинство Рихтера — интерпретатора фортепианной музыки. «Тело музыки» никогда не терпит у него ущерба.
Концертмейстерство существенно повлияло на Рихтера-артиста. Он мыслит крупными единствами: фортепианную технику воспринимает обобщенно, легко сводя ее к основным типам-формулам (октавы и аккорды, гаммы и арпеджио, двойные ноты и т. д.); техника любого сочинения отчетливо видится им как нечто типичное, типичное же хорошо освоено, отсюда — легкость технического постижения любой музыки.
Концертмейстерство развило в пианисте дирижера. Рихтер мыслит широкими единствами, и вместе с тем музыка у него пульсирует живо и часто (Генрих Густавович Нейгауз признавался: «Когда я слушаю Святослава... моя рука начинает невольно дирижировать»). Но играет он не только как дирижер, но и как... оркестр.
Когда говорят об оркестре, об «оркестральности» применительно к пианистам, большей частью имеют в виду красочность фортепианного звучания. Но ведь «оркестральность» — это еще и проблема ритма. «Оркестрально» играет тот пианист, чей ритм в своей мерности схож с ритмом коллективной игры, с ритмом оркестра, вбирающим в себя десятки индивидуальных ритмов и превращающим их в один мерный, «средний» ритм! Ритм Рихтера порой именно и есть несколько обезличенный, «объективный» ритм звучащего множества, скажем, оркестрового коллектива, а вовсе не изменчивый, своевольный ритм индивидуала. Отсюда в первую очередь и идет впечатление от рихтеровской игры как от «оркестральной». Рихтер вспоминает: «Мне иногда говорили, что играю я оркестрово, как дирижер, и что пианист из меня вряд ли выйдет...» Пианист вышел громадный, но качество оркестровости в его игре сохранилось, сохранился полностью дирижерско-концертмейстерский навык мерной ритмической пульсации.
«Пианист из меня вряд ли выйдет...» Да Рихтер и не помышлял в те годы о пианистической карьере! Хотя он дал концерт из произведений Ф. Шопена в Одесском Доме инженера (май 1934 года), в программу которого вошли: 1-е отделение – шесть прелюдий из ор.28, ноктюрн g-moll, op.15, Полонез-фантазия, ор.61; 2-е отделение – Скерцо № 4 E-dur, Ноктюрн Es-dur, op.55, Мазурка C-dur, op.24, два этюда из ор.10 (№1, 10), Баллада № 4 f-moll. На бис был сыгран этюд cis-moll, op.10№4. Но предназначением своим считал, по всей вероятности, оперное дирижирование. Воля к организации музыки, инстинкт дирижера, — была в нем очень сильна и требовала выхода, оперу же он горячо любил. (Опера — важнейшее слагаемое рихтеровского микрокосма. Как бы ни воспринимал ее он — как музыку, разыгранную людьми, или как жизнь людей, переданную, познанную музыкально, — синтетичность оперы глубочайшим образом резонирует его синтетическому дарованию, в опере он находит удовлетворение своим склонностям живописца, поэта, актера, притом, что и поэт, и живописец, и актер в нем — per la musica, «ради музыки»... Рихтер любит оперу горячо: в каждом оперном городе он идет в оперный театр и уже во всем мире слышал, наверное, «Кармен» и «Фауста». Но недавнее его печатное признание все-таки поразительно: «Я ее (оперу) больше всего люблю и в музыке, и в театре».)
Раннее обширное знакомство с симфонической и оперной литературой, ранний опыт участия в коллективной творческой работе, рано проявившаяся воля организатора музыки — все это признаки будущего крупного дирижера, и в творческой биографии видных дирижеров немало имеется примеров того же «начального комплекса» — вплоть до опыта концертмейстерской работы в балете и опере (Дранишников, Мравинский, Клюитанс, Шолти). Но Рихтер, музыкант с задатками крупного дирижера, становится пианистом — парадокс судьбы Рихтера и вместе с тем одно из объяснений выдающейся роли артиста в пианистическом мире.
Одно из объяснений. Г. Г. Нейгауз предлагает другое: «...в чем, собственно, секрет его (Рихтера) исполнительского творчества? Секрет этот очень прост: он — композитор, и притом превосходный...». Нейгауз знает, что композиторские опыты Рихтера развития не получили, что Рихтер не уделяет композиции внимания, ограничиваясь импровизациями на домашних вечерах, но он знает также, что композиторское дарование помогает Рихтеру постичь язык чужой музыки, помогает постичь психологию другого композитора, более того, — отождествиться с ним, вызывая у слушателя ощущение полного слияния исполнителя и исполняемого. «Казалось, что сам Бетховен сидел за роялем» — эта фраза из финской газеты, конечно, наивна в своей восторженности, но ясно все же, что Рихтер говорит с Бетховеном, как творец с творцом, как посвященный с посвященным, что мысль исполнителя легко проходит путем созидательной мысли — мысли композитора...
И при этом композиторская одаренность — лишь часть общей, чрезвычайно широкой рихтеровской талантливости, лишь одна из сторон рихтеровского феномена. В том-то и дело, что дар Рихтера синтетичен! Очевидна, например, одаренность в живописи — поздно материализовавшаяся (Рихтер начал писать в 1953 году), но исподволь всегда окрашивавшая собой мировое приятие и звуковосприятие артиста. А литературная его одаренность? О ней почти ничего не говорят. Между тем перечитайте отрывок «О Прокофьеве» — замечательная проза, красочная, стильная! Описание квартиры Ламмов, по-моему, достойно Олеши: «...мрачновато... Пятно на стене — ее ел грибок...» Всюду точные, единственные слова: «Сергею Сергеевичу было трудно играть... Он как-то шмякал руками». Безошибочно выбирает автор из множества наблюдений одно-два, дающие словесной картине объемность. «Прокофьев пришел с женой, комната наполнилась крепким запахом парижских духов...» Прекрасно переданы цвета, жесты — особенно жесты: умение дать им звуковую форму выдает музыканта. А выразительная смена ритма от фрагмента к фрагменту!
Дарование синтетическое. Конечно, музыкант в Рихтере преобладает над писателем, живописцем или актером (о его актерстве речь впереди), но даже в двадцать два года нелегко сделать окончательный выбор, осложненный к тому же неопределенностью музыкальных занятий: пианист-самоучка, метящий в дирижеры... Отъезд в Москву в 1937 году относился, вероятно, к категории так называемых «волевых» решений. Будущее вряд ли поддавалось оценке, вряд ли и подвергалось ей.
«Студенты попросили прослушать молодого человека из Одессы, который хотел бы, поступить в консерваторию в мой класс.
— Он уже окончил музыкальную школу? — спросил я.
— Нет, он нигде не учился.
Признаюсь, ответ этот несколько озадачивал Человек, не получивший музыкального образования, собирался поступать в консерваторию!.. Интересно было посмотреть на смельчака. И вот он пришел. Высокий, худощавый юноша, светловолосый, синеглазый, с живым, удивительно привлекательным лицом. Он сел за рояль, положил на клавиши большие, мягкие, нервные руки и заиграл.
Играл он очень сдержанно, я бы сказал, даже подчеркнуто просто и строго. Его исполнение сразу захватило меня. Я шепнул своей ученице: «По-моему, он гениальный музыкант».
После Двадцать восьмой сонаты Бетховена юноша сыграл несколько своих сочинений, читал с листа. И всем присутствующим хотелось, чтобы он играл еще и еще...
С этого дня Святослав Рихтер стал моим учеником».
Так пишет Г. Г. Нейгауз спустя двадцать три года после воссозданного им события. «И вот он пришел...» Только о Рихтере мог так писать иронический, искушенный Нейгауз, только Рихтеру отвечал пламенными чувствами этот высокоцивилизованный музыкант, европеец. Ни один из его учеников — ни Гилельс, ни Зак, ни даже дивный поэт Эммануил Гроссман, ставший словно видением самого Шопена, — ни один из них не был Нейгаузу до конца родным; родным был только Рихтер, и только Рихтеру платил Нейгауз полной любовью, только за Рихтера благодарил судьбу, только у Рихтера — по собственному признанию — учился сам.
Почему так?.. В Рихтере Нейгауз видел не только пианиста, а многогранно одаренную личность, говорящую на языке музыки, потому что это родной, с детства привитый язык. Необыкновенное чувство достоинства в общении с инструментом — это тоже поражало учителя виртуозов, преданных инструменту без памяти. И еще: Нейгауза не могла не согревать глубоко, не могла не отзываться волненьем и радостью общность среды, музыкально взрастившей их обоих; это была среда профессиональных музыкантов, тесно связанных с австро-германской духовной традицией; Нейгауз и Рихтер музыкально были «из одного дома».
В одной из статей Нейгауз писал: «Должен сказать откровенно, что учить Рихтера в общепринятом смысле слова мне было нечему. По отношению к нему я всегда соблюдал лишь позицию советчика...» Именно советчика и недоставало Рихтеру, именно за советом Рихтер и явился в Москву! Пианистическое совершенствование всегда было его личной проблемой, здесь он давно уже обрел полную самостоятельность, вопросы же толкования музыки, вопросы творческой позиции нуждались в обсуждении. Нейгауз обсуждал их с Рихтером — и Рихтер-художник делался богаче, тоньше, умнее, чем был. У Нейгауза есть и определенная, четко формулируемая заслуга: он вызвал к жизни Рихтера-артиста, из-под брони концертмейстерства извлек он — помог извлечь — артистический флюид, помог обрести «специфическое исполнительское обаяние». В Рихтере был холод безгрешности, строгость музыканта-коллективиста — Нейгауз заставил его познать грех артистического своеволия, томительную прелесть эстрадного одиночества. Именно он, Нейгауз, и смог сделать это — артист до мозга костей, европеец, знающий цену чувственному обаянию культуры!
Да и в остальном они были редкостно похожи. Одинаково занимались: «играли, пока не выучивали». Никаких «этапов» работы: все вместе («техническое» и «художественное»), все сразу. Порой лишь — медленная игра, и то это не разучивание, а изучение: «рыть, рыть без конца». И «рыть», и «сразу исполнять» — все смешалось в этом необычном рабочем методе, не побоимся сказать, методе самоучек. Ничего школьного!..
Конечно, такой метод нельзя рекомендовать другому. Это метод взрослого музыканта, до дна познавшего свое ремесло, язык же музыки усвоившего от рождения. Может ли что-то яснее сказать о музыкальной близости Рихтера и Нейгауза, чем эта общность рабочего метода? Добавлю лишь в разъяснение слов о «методе самоучек»: ведь и Нейгауза не учили, свои десять уроков у Леопольда Годовского он взял, будучи уже зрелым пианистом, пианистом же Нейгауз исподволь сделался в родительском доме — в доме музыкантов.
Не буду обременять читателей подробным описанием метода домашних занятий Нейгауза и Рихтера; интересующиеся могут найти это описание в статье А. Вицинского «Психологический анализ процесса работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением». Известия Академии педагогических наук РСФСР, вып. 25, М., 1950.
Пять лет провел Рихтер в тесном общении с Нейгаузом; война их разделила, во время войны Рихтер вступил на путь концертирующего артиста, и формальная связь «учитель — ученик» уже более не восстанавливалась. Но формальный момент ни для учителя, ни для ученика не имел значения, их связь была духовной, она лишь укреплялась с годами. Нейгауз горячо поддерживал Рихтера во всех его начинаниях, он гордился Рихтером, жил им; с горделивым бесстрашием говорил он о своем ученике — знал, что слова его могут быть приняты как патетическое преувеличение, как вызов профессиональному этикету, но все же говорил, и нельзя забыть упоенную, вызывающе красивую его фразу: «В... черепе (Рихтера), напоминающем куполы Браманте и Микеланджело, вся музыка, вся прекрасная музыка покоится, как младенец на руках Рафаэлевской мадонны».
Рихтер платил Нейгаузу сыновними чувствами. На словах он несравненно сдержаннее, но творчески — связан тесно: идет стопами Нейгауза в репертуаре (Соната, ор.21, Шимановского, Прокофьев среднего периода, поздний Скрябин, из раннего Скрябина — Вторая соната), следует Нейгаузу в частных, но запоминающихся исполнительских решениях (речитатив без педали в первой части 17-й сонаты Бетховена). Знаком глубокой связи с Нейгаузом были вечера его памяти в Москве и Тбилиси (сезон 1965/66 г.г.): Рихтер играл бетховенские сонаты — Двадцать восьмую (с ней, как помним, он впервые предстал перед Нейгаузом), Тридцать первую (ее Нейгауз прошел с ним), Двадцать седьмую (она была исполнительским откровением самого Нейгауза), играл Сонату Листа, пройденную с Нейгаузом, играл Брамса... Облик Нейгауза явился здесь не в одних только программах: слушатели памятных концертов внимали тому художеству, которое двадцать семь лет светило Нейгаузу светом идеала!
Ниже я попытаюсь дать понятие об этом художестве, проще говоря, — об исполнительском стиле Рихтера. Пока же проследуем за артистом по его пути.
***
В пределах 1940-1949 годов лежит первый период концертно-исполнительской деятельности пианиста. Во всякой периодизации есть доля схематизма, но предлагаемая периодизация, на мой взгляд, обходится минимумом натяжек. 26 ноября 1940 года Рихтер впервые вышел на московскую эстраду (Малый зал консерватории, второе отделение концерта совместно с Генрихом Нейгаузом). В марте 1949 года артист был удостоен Государственной премии I-й степени, и это говорило о творчестве Рихтера как о крупной социальной ценности; через девять лет после дебюта Рихтер стал актуальным явлением отечественной культуры!
Но по порядку. 26 ноября 1940 года Рихтер играл сочинения Прокофьева, среди них — Шестую сонату. Факт многозначащий. Весь «ранний период» прошел у Рихтера под знаком прокофьевской музыки; во всяком случае, он накапливал прокофьевский репертуар с громадной интенсивностью — за пять лет обрел своего Прокофьева почти целиком!
Рихтер — прокофьевский пианист. Крупный масштаб контрастов, однородность эмоциональных состояний внутри больших единств формы, тезисная четкость материала, длительное следование единому принципу изложения, решающая роль ритмического начала — это Прокофьев, и это резонирует звукосозерцанию Рихтера. Контраст широких, однородно окрашенных пространств, гипноз мерной временной пульсации звукового поля — это Рихтер... Мои впечатления от Шестой сонаты Прокофьева в рихтеровской интерпретации относятся к началу 60-х годов (25 апреля 1960 г., Малый зал ЛГФ), позже я слушал у него сонату в 1964 году (16 апреля, Большой зал ЛГФ). Оба раза — гипнотизирующая сила ритмического напора в крайних частях, недобрая вкрадчивость в Allegretto, сухой блеск Вальса. Зал слушает в тревоге, временами испытывая страх. Тихое, но почти всеобщее «Ах!..» отвечает знаменитому прокофьевскому «col pugno» (удару кулаком) в первой части; Рихтер бьет правой рукой по басам — наотмашь. На концерте в Большом зале он рвет струну. Нервы слушателя напряжены. Но во всем, что делает Рихтер, царит абсолютный порядок. Пусть это зрелище зла — соната Прокофьева смотрит в «темное будущее Европы» (предполагавшийся эпиграф ко второй части Дивертисмента Бартока (1939)), но это порядок, и последним переживанием слушателя все-таки остается радость: он присутствует при высоком акте творения, он испытывает власть искусства; радостью художественности художник клеймит зло даже в тех случаях, когда воплощает это зла в своем творении...
В сезоне 1940/41 годов Рихтер дебютирует с оркестром: он играет концерты Чайковского (Первый) и Прокофьева (Пятый). Концерт Чайковского вызвал интересный отклик в печати: «...артистическая бескорыстность — характернейшая черта стиля пианистов нейгаузовской школы... У Рихтера эта черта воспринимается особенно органично. Я даже сказал бы, что его игра страдает некоторым... объективизмом, ей еще порой не хватает индивидуального обаяния и той концертности стиля... которые предполагают полнейшую свободу артистического выявления... Иногда казалось, что исполняется не концерт для фортепиано с оркестром, а произведение для оркестра с партией фортепиано... Играя, он (Рихтер) все время ощущает себя как часть целого... В его игре, простой... естественно благородной, хотелось бы ощутить больше артистического пафоса» (С. Шлифштейн).
Не узнаются ли здесь слова Г. Г. Нейгауза о «специфическом исполнительском обаянии» и недостатке «специфического обаяния» у раннего Рихтера? Не есть ли написанное рецензентом упрек в неизжитом еще «концертмейстерстве»? Если это и так — а это наверное так! — то скажем с определенностью: Рихтер сохранил подобную манеру, он и сейчас играет фортепианные концерты несколько «облигатно»... Тот же Концерт Чайковского: солист был частью целого не только в ансамбле с К. Ивановым (вышеупомянутое выступление), но и в ансамбле с Е. Мравинским (начало 50-х годов, личные впечатления — 10 октября 1954 года, Большой зал ЛГФ) и в ансамбле с Г. фон Караяном (Зальцбург, 1965 год). Выступление с Караяном в высшей степени показательно: Рихтер играет неторопливо, негромко, без всякого пафоса — он играет лирико-эпический концерт. И верно пишет по свежим следам этого исполнения немецкий критик И. Кайзер: «Караян и Рихтер взялись доказать, что Чайковский может звучать не менее благородно и лирично, чем Роберт Шуман. Они доказали это!».
Пятый концерт Прокофьева Рихтер впервые сыграл в марте 1941 года под управлением автора. В первый раз Рихтером двигало честолюбие молодого артиста, и он не скрывает этого в своем автобиографическом отрывке: «В 22 года я решил, что буду пианистом, и вот, в 25 лет играю сочинение, которое никто, кроме автора, не исполнял». А затем Рихтер, видимо, полюбил этот концерт; он играет живо, терпко, воображение его воспламенено («Лепестки роз, плавающие в воде», — сдается, что со слов Рихтера написал это рецензент о медленной части концерта) — и слушатель легко откликается на музыку концерта, далеко не самую общительную, не самую сердечную. Рихтер еще не раз возвращался к этому концерту: в 1958 году (гастроли Филадельфийского оркестра, дирижер Ю. Орманди) и в 1970 году (Госоркестр СССР, дирижер Е. Светланов). Существует запись 1959 года с оркестром под управлением В. Ровицкого.
Ноябрь 1941 года. Рихтер накануне своего первого сольного концерта. «До этого я сыграл концерт Баха, шумановский концерт, квинтет Брамса и с А. Ведерниковым двойной концерт Баха, но от волнения перед первым сольным концертом меня буквально трясло». Концерт перенесли, и он состоялся только в июле 1942 года. В программе были Бетховен, Шуберт, Прокофьев и Рахманинов; замечательно, что программа первого сольного концерта называет как раз тех авторов, которые впоследствии займут центральное место в необъятном рихтеровском репертуаре. Вряд ли мог даже и двадцатисемилетний Рихтер провидеть с такой ясностью свою репертуарную судьбу, но тем знаменательнее совпадение имен в афише!
Впрочем, как уже говорилось, Прокофьев стал центральным разделом репертуара в самом начале пути Рихтера-исполнителя. Одним из двух важнейших событий 1943 года оказалось для артиста первое исполнение 7-й сонаты Прокофьева (другим событием было начало гастрольных поездок — Тбилиси, Ереван, Баку). Рихтер играл сонату 18 января 1943 года. Он пишет: «Соната бросает вас сразу в тревожную обстановку потерявшего равновесие мира. Царит беспорядок и неизвестность. Человек наблюдает разгул смертоносных сил. Но то, чем он жил, не перестает для него существовать. Он чувствует, любит. Полнота его чувств обращается теперь ко всем. Он вместе со всеми и протестует, и остро переживает общее горе» («О Прокофьеве»). Написано экспрессивно, выпукло, в ритме речи узнается Allegro inquieto первой части сонаты. Не менее экспрессивно исполнение. «Потерявший равновесие мир» — да, но никакого «беспорядка»! Как и в Шестой сонате, зрелище зла жестко упорядочено, оно еще и бескрасочно (письмо Прокофьева скупое — только линия); равнодушие зла — вот впечатление от рихтеровского Allegro inquieto, но есть и другое впечатление — эпос! Вся Седьмая у Рихтера — как картина истории: нашествие — первая часть, победоносная битва — финал. Личное слышно лишь во второй части, но набатный звон кульминации и здесь возвращает к картине «мира, потерявшего равновесие». Рихтер в своем отрывке пишет о человеке. Это он сам — человек, любящий и горюющий, он сам — человек, протестующий против жестокости и яростно сопротивляющийся ей (первая часть: резко акцентированная лирическая тема, «как голос возмездия»; финал: «пальцы, вгрызающиеся в клавиатуру, ноги, исступленно топчущие пол около педалей. Это не эксцессы показного эстрадного темперамента — тут, пожалуй, уместнее вспомнить слово «берсеркер», которым норманны некогда обозначали неистовство, в бою охватывавшее викингов». — Д.Рабинович).
В 1943 году Рихтер впервые для себя сыграл 4-ю сонату Прокофьева (23 июня, БЗК) и прокофьевский Первый фортепианный концерт (27 декабря, там же, дирижер М. Жуков). Также имеется запись концерта на пластинку (Московский симфонический оркестр под управлением К. Кондрашина, 1960). Обеими руками черпает пианист из Прокофьева; несколько крупных сочинений из его прокофьевского репертуара остаются к этому времени несыгранными — они и не написаны еще! Но Рихтер играет не только Прокофьева, но и Концерт ре минор Моцарта (Тбилиси, на радио), и Первый концерт Чайковского (с Н. Аносовым в БЗК); стремительно нарастает объем сольных программ. «...Именно тогда он (Рихтер) стал буквально «осыпать» публику концертами...», — пишет В. Дельсон. В 1944 году один из таких концертов в Большом зале консерватории приравнивается к государственному экзамену, и двадцатидевятилетний Рихтер завершает таким образом курс музыкального образования. Стоит ли говорить, что фиксация этого момента носила в данном случае более чем условный характер?
1945 год. Рихтер вспоминает: «Проводился Всесоюзный конкурс пианистов, на участие в котором меня усиленно толкали самые близкие друзья». Что говорить, успех на конкурсе мог бы значительно облегчить решение многих рихтеровских проблем — в этот момент у пианиста не было ни своего дома, ни своего инструмента. .. Но это именно резоны друзей. Для Рихтера вопрос «официального признания» не был вопросом первостепенной важности. Творческие проблемы волновали больше. «Я взял в программу Восьмую сонату...» Восьмую Прокофьева, лишь недавно написанную и единственным лишь пианистом (Э. Гилельсом) до этого исполненную. Позднейшая рихтеровская запись Восьмой производит впечатление игры несколько «объективизированной» — все как бы от третьего лица, но это и необыкновенно возвышенно, эпично. «Временами соната как бы цепенеет, прислушиваясь к неумолимому ходу времени»: да, однородность, длительность состояний (динамических, темповых) позволяет почувствовать ход физического времени, драматизм временной необратимости музыки, подобной — в этом — жизни... Те же ощущения (и едва ли не более сильно) дал артист испытать нам, играя Восьмую в Большом зале ЛГФ 5 мая 1961 года.
Кроме Восьмой сонаты Прокофьева, Рихтер вынес на конкурс произведения Рахманинова, Чайковского (Первый концерт с А. Орловым в финальном туре); исполнение им на втором туре листовской «Дикой охоты» произвело почти устрашающей силы впечатление даже и на видавших виды музыкальных критиков. 29 декабря 1945 года были объявлены итоги конкурса. Рихтер разделил первую премию с Виктором Мержановым, двадцатишестилетним учеником Самуила Фейнберга, ныне профессором Московской консерватории.
Еще несколько знаменательных моментов в жизни артиста датировано 1945 годом. 25 марта на авторском вечере Прокофьева состоялось первое совместное выступление Святослава Рихтера и Нины Дорлиак (Пять стихотворений Ахматовой, ор. 27); Рихтер нашел в аккомпанементе форму самораскрытия, счастливо сочетающую данные дирижера, режиссера, организатора музыки и специфическое для артиста желание раствориться в звуке, замереть, прислушиваясь к пульсации музыкального микрокосма. Во всяком случае, выступления Рихтера-аккомпаниатора следуют отныне непрерывно. И другое памятное событие: в октябре Рихтер сыграл с оркестром Всесоюзного радиокомитета Второй фортепианный концерт Рахманинова (дирижировал Н. Голованов). Позже этот концерт приобрел репутацию едва ли не самого дискуссионного номера в рихтеровском репертуаре. Дело здесь, в основном, в темпах — резко замедленных, совершенно непохожих на темпы авторского исполнения. Имеются записи этого концерта с оркестром Ленинградской филармонии (дирижер К. Зандерлинг, 1964) и оркестром Варшавской филармонии (дирижер В. Ровицкий, 1959). Идея ясна: прочесть музыку, исходя из нее самой, а не из авторского исполнения, исходя из того, что написано автором, а не из того, что и как им сыграно, то есть исходя из «письменной», а не из «устной» формы музыки. Беда лишь в том, что Рихтер не справляется с заданными им же самим темпами, вернее, эти темпы переходят возможности инструмента — звук рояля не может тянуться слишком долго. Отсюда и неубедительность, отсюда упреки пианисту в искусственности...
Не буду столь же подробно описывать каждый рихтеровский сезон. Напомню лишь о важнейших выступлениях конца 40-х годов. 9 мая 1946 года Рихтер сыграл в Большом зале Московской консерватории три прокофьевские сонаты: Шестую, Седьмую и Восьмую. Три сонаты предстали перед музыкальным миром как цикл, как триада. На концерте присутствовал автор; красочное описание концерта содержится в рихтеровском отрывке «О Прокофьеве». В том же 1946 году Рихтер впервые выступил с прелюдиями и фугами «Хорошо темперированного клавира» Баха. Имеется знаменательное признание артиста: «Без особого энтузиазма, просто чтобы избежать однобокого развития, я заставил себя выучить 48 прелюдий и фуг Баха и только тогда ощутил все очарование и богатство полифонии. Мир Баха стал мне родным...» Оцените по достоинству это «заставил себя выучить 48 прелюдий и фуг»! Но вслед за подвигом воли пришла интерпретация. Соглашусь с В. Ю. Дельсоном, написавшим: «...нейтральность» — принципиальная особенность его (Рихтера) подхода к интерпретации баховских произведений, которые, с его точки зрения, лишь теряют от заметного проявления исполнительской активности». У Рихтера Бах спокоен, как спокоен он, например, и у знаменитого бахианца Гульда, но гульдовский Бах — покой стихии, силы, в рихтеровском же Бахе покой — психологическое состояние, «сон чувств»...
1946-1948 годы в жизни Рихтера — пора бахианства. Дважды (в 1946 и 1948 годах) он играет «Хорошо темперированный клавир», в 1948 году выносит на эстраду «Итальянский концерт», «Каприччио на отъезд возлюбленного брата», Сонату и т.д. Критика пишет о выявленной Рихтером «народно-бытовой» струе баховского творчества.
К 1947 году относятся ярчайшие достижения раннего Рихтера в сфере романтического репертуара, точнее, в обретенных им «своих» разделах романтической литературы: Шуберт (Соната ре мажор) и Лист (Мефисто-вальс, Полонез ми мажор, Этюды трансцендентного исполнения). В Шуберте Рихтер полностью раскрыл едва ли не важнейшую черту своего дарования — умение «владеть временем» (выражение Д. А. Рабиновича). Пианист обладает совершенно небывалой среди концертирующих артистов эмоциональной (по Рабиновичу — «душевной») выдержкой: он нигде не пытается «помочь» Шуберту каким-либо динамическим, агогическим или иным нюансом, предоставляя шубертовской музыке струиться так, как она хочет; и начинает щемить у вас на сердце, вы грустите, вы чувствуете, как течет жизнь, и совсем другой принимаете вы вновь прозвучавшую и неизменившуюся шубертовскую мелодию. О нет, она изменилась — изменилась вместе с вами.
Соната записана Рихтером на пластинку в 1959 году.
Пусть у пианиста в прочтении сонаты Шуберта нет сладостного тепла старых шубертианцев — Бруно Вальтера, Артура Шнабеля, Лотты Леман, — но его умение «длить время», душевная выдержка, превосходящая все, что знала эстрада, делают его шубертианцем по призванию. Он верно понял ответ шубертовского творения на извечный вопрос артиста-исполнителя: «Соната, чего ты хочешь от меня?». Шубертовская соната ответила лишь: «Дай мне прожить во времени...».
Лист. В нем ранний Рихтер щедро проявил свой виртуозный дар. Нет, не о техническом совершенстве речь, — оно, конечно, было, но им дело далеко не исчерпывалось — речь идет о доблести, отваге, риске на эстраде, о виртуозности в начальном, чистейшем смысле слова («виртус» — доблестный, мужественный!). Верно пишет В. Ю. Дельсон: «Его (Рихтера)... виртуозность... бесстрашно бросается в «зону предельного риска», и надо быть очень уверенным в себе, чтобы решиться на столь «опасные» приемы игры. Его фигура за инструментом становится исключительно подвижной (особенно плечи!), она извивается, отбрасывается, стремительно перекидывается из стороны в сторону... вся поддаваясь... экспрессии, охватывающей пианиста «с ног до головы». Это словно описание виденной нами картины: Рихтер играет листовские Этюды трансцендентного исполнения в Большом зале ЛГФ (10 и 14 апреля 1956 года). В этюде ля минор тело его молниеносно проносится от края к краю клавиатуры, миг — и он теряет равновесие... но нет, он снова горделиво выпрямился! Ответом артисту из зала был стон восторженного ужаса перед риском виртуоза, перед его, а все вместе было минутой единения публики и артиста в очищающем напряжении подвига. Тогда он играл Листа именно так. "...Кое-что... было отягчено... преувеличенными темпами, головокружительными излишествами... Во всем были мощь и смелость изумительные" (Я.Мильштейн). Именно так: "излишества" были мощью и смелостью, "излишества" были самое Лист!
О том, какое место занимала виртуозная сторона этюдов в представлениях самого Рихтера, свидетельствует его интервью журналу «Огонек»: «Сейчас я работаю над этюдами Листа... Это один из наиболее трудных «барьеров» для пианиста-виртуоза. Очень труден он и для меня. Но будут ли мои слушатели удовлетворены, если я только «блесну» легкостью и свободой исполнения этих этюдов? Для чего же добиваться этой легкости, этой свободы, как не для того, чтобы выразить... мысли, заключенные в каждом произведении?»
В 1949 году, как уже говорилось, Рихтер получил Государственную премию. Артист полон планов: «...я дам три сольных концерта. В первом будут исполнены этюды Шопена и Листа, во втором — 29-я соната Бетховена и вариации Брамса на тему Паганини, в третьем концерте — «Большая соната» Чайковского и «Картинки с выставки» Мусоргского». Вторая из этих программ не была осуществлена, первая, в сущности, тоже, поскольку объявленные произведения не шли в объявленных сочетаниях, по крайней мере, на моей памяти (напротив, я помню сыгранные вместе Сонату Чайковского и Этюды Листа — 14 апреля 1956 года). Но как бы там ни было, Рихтер вступил в новый период своего артистического существования, условно назовем его вторым и расположим между знаками официального признания: Государственной премией 1949 года и Ленинской премией 1961 года (в 1961 году Рихтер стал также народным артистом СССР).
В мае 1950 года Рихтер предпринял первую зарубежную поездку — в Чехословакию, на фестиваль «Пражская весна». Он дал сольный концерт из произведений русских композиторов; с оркестром Чешской филармонии под управлением К. Кондрашина сыграл фортепианные концерты Моцарта, Шумана и Брамса (Второй). Через четыре года он снова едет в Чехословакию; в том же 1954 году гастролирует в Венгрии и Польше. В последующие пять лет Рихтер совершает поездки в социалистические страны (1955 — Польша, 1957 —Китай, 1958 — Венгрия, Румыния, Болгария, 1959 — Польша, Чехословакия); в мае 1960 года пианист впервые выезжает за рубеж социалистического мира (Финляндия).
Рихтер 50-х годов играет много русской музыки: Мусоргский, Чайковский, Рахманинов, «Картинки с выставки» Мусоргского делаются непременной принадлежностью рихтеровских гастрольных программ. Запись «Картинок с выставки» сделана Рихтером в 1958 году. Что говорить, исполнение им этого цикла эпохально. Оно красочно, но покоряет оно все же не красочностью, а драматизмом, властностью артистического жеста, неумолимостью ритмической дисциплины. Пожалуй, самой впечатляющей пьесой цикла у Рихтера можно назвать «Бабу Ягу». Жесткий блеск звучности, устрашающая мерность поступи. Да, это не сказочный персонаж — это враг: неожиданно перекликнулись «Картинки» с Шестой сонатой Прокофьева! Всюду в «Картинках» неторопливые темпы, всюду резкая характерность темповая, а не только — может быть, и не столько — звуковая. Пронзительный драматизм «Гнома», «Быдла», «Двух евреев» — из-за безошибочно верно найденного дыхания музыки, напряженного, прерывистого... И еще — построение цикла, исполнительская режиссура целого. Смена звучности, темпов, четыре совершенно разных по эмоциональному колориту «Прогулки» — все это делает «Картинки» храмовой фреской, пусть многообразной, многоОбрАзной, но задуманной и выполненной цельно.
В начале 50-х годов Рихтер обращается к музыке Шопена. Конечно, не впервые: он, как помним, начал свой артистический путь шопеновской программой, но в ранние 50-е годы Шопен становится — позволительно ли сказать? — рихтеровской драмой.
Слово «драма» следует читать здесь в двух смыслах: «проблема» и «переживание». Шопен был для Рихтера проблемой, как был проблемой любой автор, ибо Рихтер никогда не брал ничего из «вторых рук», а всегда приходил к любой музыке, любому автору собственным путем. Переживанием же — и нелегким и горьким —Шопен был потому, что путь к нему не отыскивался: вслед за Рихтером не шли...
Отыскался ли сейчас этот путь? Да, Рихтер нашел Шопена — рационалиста, Шопена — интеллектуала. Ratio ведь в Шопене чувствуется весьма сильно — в формах его музыки, например. А в шопеновском миро- и звукосозерцании положительно присутствует нота отрешенности, белизны — это белизна чистоты, душевного целомудрия, может быть, бескровность квиетизма (в позднем Шопене). Композитор и на рояле играл порой как-то абстрактно, «бесчувственно» — вспомним дошедшее до нас свидетельство Вильгельма Ленца. Вот и рихтеровский Шопен несколько абстрактен, чист до белизны, до белизны безгрешен — здесь дело в рихтеровском, лишенном чувственной прелести, «белом» звуке. Шопен у Рихтера холоден, это мрамор, но это же — ни с чем не сравнимая краска в мире шопеновских интерпретаций, а кроме того — нет ли тут правды? Не был ли Шопен порой и холоден, и жесток, и высокомерен (слова Листа, вполне уместно процитированные А. А. Николаевым в связи с рихтеровским Шопеном. См.: Николаев А., Шопен в исполнении советских пианистов.— «Советская музыка», 1949, № 10, с. 58.) — тем холодом, той жестокостью и высокомерием, которые дает чистота, «белизна» души? Скажем смелее: не есть ли недобрый Шопен, Шопен Рихтера,— правда о Шопене, неполная, «не лучшая», но все же правда?
Вопрос остается без ответа. Как бы там ни было, рихтеровский Шопен существует. Другое дело — притягателен ли он, лишенный непосредственности, шарма, «игры»? Притягателен ли Шопен, замкнутый и отрешенный от всех в покое праведника? Что ж, может быть!
21 апреля 1951 года Рихтер впервые сыграл Девятую сонату Прокофьева. Композитор посвятил ее Рихтеру и тем увековечил связь своего позднего творчества с выдающимся артистом-исполнителем. В Девятой сонате лишь один виртуозный фрагмент (Allegro sostenuto в 3-й части), она камерна и тем не менее полно отвечает духовному облику Рихтера: чистый, чуть отрешенный лиризм, мерная пульсация времени — все это рихтеровское. Пианист любит играть Девятую Прокофьева в одной программе с Третьей сонатой Мясковского и Прелюдиями и фугами Шостаковича (в частности, эта программа была представлена 22 июня 1957 года в Малом зале ЛГФ). «Эмоциональная кривая» здесь такова: сумеречный, старомодно-патетичный Мясковский, светлый, «закатный» Прокофьев и — второе отделение — жесткий, некрасивый, трагический Шостакович. Рихтер заканчивает концерт Прелюдией и фугой ре-бемоль мажор: жутко, «дурашливо» приплясывающая прелюдия, и фуга... пароксизм зла, неистовство белокурой бестии, огню и мечу предающей землю и людей. Страшно слушать здесь Рихтера, страшны сплошные его fortissimi и marcati; страшно и смотреть: снова топчет он пол, снова пальцы «вгрызаются» в клавиатуру. Кончив, он начинает фугу сначала — якобы на бис, а на самом деле ему не остановиться, если остановится — оборвется дыхание. И лишь во второй раз сыграв фугу, он чуть успокаивается, снимает руки с клавиатуры, встает, раскланивается. Но теперь мы не видим его: слишком велико потрясение от только что пережитого. Гарь в воздухе нарядного, уютного зала...
18 февраля 1952 года Рихтер выступил в качестве дирижера; он провел аккомпанемент Симфонии-концерта для виолончели с оркестром Прокофьева (солировал Мстислав Ростропович). Долгожданное это выступление не стало, как все мы надеялись, новым рихтеровским откровением, не стало и началом иного пути. И причина — не то, что выступление было все-таки случайным, не то, что была «плохая пресса» (отрицательный отзыв Е. Добрыниной в «Советской музыке») — дело здесь, видимо, в том, что вопреки рихтеровской «автоконцепции» и вопреки мнению о нем других, дирижер в нем присутствует лишь в составе пианистического комплекса и едва ли может быть «выделен» в каких-то иных ракурсах; Рихтер дирижирует только за роялем (юмористическое описание самим артистом первого выхода к пульту подтверждает это: «Вышел... Нет рояля... Куда идти?»). Впрочем, дирижер Симфонии-концерта получил радость от своего опыта, он сделал объективно большое дело (организация прокофьевской премьеры не была в те годы слишком легким занятием), единственное же дирижерское выступление Рихтера вошло навсегда в историю музыкальной культуры благодаря «мало удачному», как писал рецензент, выбору сочинения для дебюта…
Еще одно важное событие в жизни артиста: в 1952 году Рихтер снялся в роли Листа в фильме режиссера Г. Александрова «Композитор Глинка». Вновь, как и в случае с дирижированием, он запоздало проявил свою давнюю склонность — на этот раз актерскую (в юности Рихтер мечтал об актерской карьере, в детстве разыгрывал со сверстниками целые спектакли). В роли Листа он необыкновенно выразителен, да и что удивляться этому: исполняя в листовском облике «Марш Черномора» Глинки-Листа, Рихтер конгениален своему герою!
Минуя некоторые факты, более или менее интересные для данной хроники, обратимся к значительнейшему событию рихтеровского «второго периода» — гастрольной поездке пианиста в США осенью 1960 года. Она являет целую систему событий и мнений, и внутри системы находят себе место многие явления творческой биографии Рихтера.
Он отплыл в США на пароходе «Queen Mary» 3 октября 1960 года. Первое его выступление состоялось в Чикаго 16 октября: Рихтер сыграл Второй концерт Брамса с Чикагским симфоническим оркестром под управлением Э. Лайнсдорфа». Ответственнейшие гастроли открылись далеко не самым «легким на слух» сочинением, но оно для Рихтера как раз одно из самых «уютных»: не раз игранное, продуманное до мельчайших деталей и, конечно, близкое душевно. Близкое во многом, и может быть, в главном: широте артистического жеста, «пассионатности», драматизме. Огромен, грозен у Рихтера концерт: грозен, но и мятежен, жесткость и возбужденность причудливо переплетены, и если тревога, мятеж порой подымаются до экстатических состояний (в Allegro appassionato), то жесткость, императивность тона порой оборачиваются сухостью... Концерт покоряет, но не утешает, —даже в Andante, где нет покоя и тепла; в лукавом, ласковом, абсолютно «венском» у Брамса финале — нет Вены!..
Тем же составом в тот же период была сделана запись концерта фирмой «RCA». В 1969 году Рихтер записал концерт с Парижским симфоническим оркестром под управлением Л. Маазеля. К этой записи мы еще вернемся.
Рихтер играет много брамсовской музыки: сказываются и собственные склонности, и нейгаузовское наследство. Но будь то Баллады, ор.10, или Фантазии, ор.116, Соната фа-диез минор, ор.2, или фортепианные ансамбли — нигде нет улыбающегося, чувственного, обольстительного Брамса, Брамса-венца. Всюду — сумеречное раздумье, «ночные мысли» и — обжигающее appassionato. В своем Брамсе Рихтер велик; навсегда останется он в памяти с «ночным» откровением Интермеццо ми-бемоль минор, с одухотворенной страстностью Квинтета фа минор, ор.34...
В декабре 1952 года Рихтер дал концерты из брамсовских камерно-фортепианных ансамблей с Квартетом Московской филармонии (переименованный впоследствии в Квартет им. Бородина). Исполнялись Квинтет, ор. 34, и квартеты, ор. 26 и ор. 60.
21 октября 1960 года в «Карнеги-холле» открылись нью-йоркские концерты Рихтера. Пианист играл Третью, Девятую, Двенадцатую, Двадцать вторую и Двадцать третью сонаты Бетховена. (Есть ли другой артист, который решился бы впервые предстать перед публикой крупнейшего концертного зала Америки с программой, на три четверти состоящей из репертуарных раритетов?!) В раннем Бетховене Рихтер неизменно сдержан, неизменно благороден (цитировавшийся уже Иоахим Кайзер пишет о «листовском благородстве» в его исполнении Двенадцатой сонаты: целью артиста здесь словно бы является отчетливость, прямота, простота; звучность несколько абстрактна, но здесь, кстати, все это хорошо вяжется с устойчивостью ритмического пульса). Все вместе создает исполнительское подобие стиля ампир, стиля ясности и прямых линий. Рихтеровский Бетховен здоров, хотя это и не краснощекое плотское здоровье, не рубенсовское и шекспировское, а шиллеровское, это здоровье духа, здоровье идеала.
Если же Рихтер ищет бетховенского драматизма, он находит его в контрастах крупного плана. Так, в 7-й сонате он противополагает три мажорные части и Largo; необыкновенно выразителен здесь рисунок темпов: Менуэт только чуть подвижнее Ларго (четверть приравнена восьмой) — словно приходит в себя душа, истомленная скорбью, словно поднимается она из глубин меланхолии к покою и свету... Лир, просыпающийся под звуки музыки! В 17-й и 23-й сонатах контрастность крупного плана создают неслыханно быстрые финалы — эти легендарные рихтеровские agitati. В 9-й сонате контрастируют крайние части и Allegretto (средняя часть), проникнутое русской задумчивостью.
Нью-йоркские гастроли Рихтера продолжались: 23 октября в Карнеги-холл он дал концерт из сочинений Прокофьева. Снова — весьма смелое начинание, тем более, что в программе стояли 6-я соната, пьесы среднего периода и другая, почти не известная в Америке музыка. Но кому же, спрашивается, было представить американской публике Прокофьева не как экзотику, а как классику? Кому под силу было доказать Америке, что Прокофьев — композитор не «бисов», а клавирабендов? Только Рихтеру, конечно. И в придачу к тому, что уже писалось здесь на тему «Рихтер и Прокофьев», дадим лишь одну фразу американского критика, говорящую о существе отношений между исполнителем и композитором: «Рихтер (в Прокофьеве) преследовал... одну цель — передать... мысли, настроения и переживания близкого друга, которого он глубоко понимал и от души любил».
Третья программа нью-йоркских гастролей раскрыла Рихтера в Шумане и Дебюсси — традиционно рихтеровских репертуарных сферах. Шуман у Рихтера «романтический и фантастический» — пользуюсь словами А. Г. Рубинштейна, — но «романтизм» и «фантастика» тут, конечно, особенные. «Романтичность» и «фантастичность» сливаются воедино. Имматериальная виртуозность есть духовность, всепоглощающая же духовность — это сам романтизм и сам Шуман. В шумановской Токкате рихтеровская техника невесома, но не светоносный полет дает исполнитель, а путь мысли, незатруднительный и неторопливый. Созерцательность — существенный тон его Шумана; созерцание, размышление — их не разделить — наполняют собою у Рихтера и звучащую форму «Пестрых листков», ор.99, и Фантазии (финальная ее часть — откровение; нота отрешенности, свойственная артисту, находит в музыке глубокий отклик, горним покоем дышит все здесь, и вам никогда не забыть этого покоя, этой благодати вечернего молчания). Есть и еще краски: Арлекина, прусского марша — грубоватый напор земного; есть юмор, почти всегда эксцентричный — и все это перемешано; и в пестроте этой, в богатстве красок встают эпохальные творения исполнителя, подобные «Юмореске», «Бабочкам»...
Дебюсси — как, впрочем, и Шуман — стал частью рихтеровских программ еще в 40-е годы. В Нью-Йорке, на третьем своем концерте, пианист сыграл двенадцать прелюдий французского композитора. Критика писала: «У Рихтера Дебюсси не столь импрессионист-пейзажист, сколь мыслитель, исследующий бесконечные оттенки чувств». Верен ли этот отзыв? В первой своей фразе — конечно. Во второй — едва ли. Любая прелюдия Дебюсси у Рихтера — это все-таки картина: ибо она недвижна. Рихтеровский ритм в Дебюсси устойчивее, чем где бы то ни было; при общей склонности к мерному движению исполнитель здесь достигает уже почти математически четкой пульсации. Временная жизнь музыки замирает, время становится неразрывным мигом. Добавьте к этому редкостную выравненность звучания, устойчивость динамических красок, и вы получите классическое «impression» — впечатление от единого мига жизни, цельного до неподвижности. Само впечатление чрезвычайно отчетливо, и, конечно, столь ритмичного Дебюсси эстрада еще не знала; замечательна и звучность: продолжая быть по-рихтеровски абстрактной, она очень тонко расчленена и создает впечатление прозрачного воздуха, в котором все видится резко. Дебюсси ясен, но это именно картина, пейзаж, притом пейзаж без человека: рихтеровский Дебюсси не драматургичен, дыхание его бесстрастно, как дыхание природы (чрезвычайно характерно в этом смысле имеющееся в записи исполнение прелюдии «Ветер на равнине»).
Рихтер дает в США еще двадцать три (!) концерта, затем три — в Канаде. По свидетельству пианиста, он «главным образом... играл Бетховена и Прокофьева», но были в его программах также и Гайдн, Шопен, Рахманинов и др.; в Филадельфии Рихтер исполнял Концерт Дворжака (Филадельфийский оркестр, дирижер Ю. Орманди). Только в январе 1961 года артист возвратился домой. В апреле того же года он удостаивается Ленинской премии — вместе с академиками Иоффе, Волгиным, Амосовым, вместе с Твардовским, Сарьяном, Пашенной, Чухраем...
«Рихтер сейчас находится в расцвете своего замечательного таланта»,— писал критик еще в 1952 году. Тем более верно это в применении к «третьему периоду» артистической жизни пианиста — начиная с 1961 года. Периодизация условна, и все же... Рихтер на пороге пятидесятилетия. Он обрел себя, построил свой мир, нашел свой закон. Он сам стал целым миром и законом; приемля или не приемля его, современники в музыкальном своем бытии знают о нем, внимают ему, слушают его, стремясь не пропустить ни одного концерта.
Шестидесятые годы — полоса непрерывных гастролей Рихтера. В 1961 — Болгария, Англия (делаются записи Фантазии Шумана, фортепианных концертов Листа с оркестром Лондонской филармонии под управлением Кондрашина и других сочинений); в 1962-м (вероятно, рекордный год по числу поездок) — Чехословакия, Румыния, Италия, Австрия (делается замечательная по своим художественным достоинствам запись всех виолончельных сонат Бетховена в дуэте с М. Ростроповичем), Франция, Англия; 1964 —Германия, Чехословакия, Польша, Франция, Канада; 1965 — США, Франция; 1968 — Болгария, Турция, Швеция; 1970 —Япония, США.
Почти каждое лето Рихтер приезжает во Францию. У него есть там свое пристанище — это деревня Меле в окрестностях города Тур. Начиная с 1963 года Рихтер устраивает в Меле музыкальные фестивали, используя для концертов старинный овин Мармонтьерского аббатства. Музыкальные фестивали, патронируемые выдающимися артистами, — распространенное явление на Западе (напомним о фестивале Артуро Бенедетти-Микеланджели в Больцано, фестивале Пабло Казальса в Праге); артист-патрон приглашает артистов-гостей, сам участвует в фестивальных концертах. У Рихтера в Меле побывали Бриттен, Мессиан, Фишер-Дискау, Маазель, Шварцкопф и многие другие. Пресса восторженно писала о лидерабендах с Фишером-Дискау летом 1967 года: исполнялись «Песни Магелоны» Брамса и «Песни Мерике» Вольфа. Здесь впервые выступил дуэт Рихтер и Ойстрах, являющий собою две резко различные индивидуальности, объединенные двумя началами: высочайшим мастерством и высочайшей точностью в прочтении текста. Но этих двух начал достаточно для того, чтобы создать картину полного единения артистических воль — во славу авторской воли.
Там же, во Франции, в Туре, в октябре 1963 года Рихтер сыграл программу, «эхо от которой,— по выражению Д. Рабиновича,— прокатилось по всей Европе». Три последние сонаты Бетховена: Тридцатая, Тридцать первая и Тридцать вторая...
Как некогда три поздние сонаты Прокофьева, Рихтер смыкает их в цикл, в триаду. Все три сонаты решены на началах резкой эмоциональной поляризации: действие — созерцание, и нам остается лишь согласиться с наблюдением Рабиновича, согласно которому все сонаты — не только двухчастная 32-я — решены «двухчастно». Поляризация содержательная, эмоциональная, во многом выражает себя через контраст темпов: не отступая от традиционного темпа быстрых частей, Рихтер намеренно сдерживает темпы бетховенских adagio и andante (особенно в 31-й сонате). Отсюда — действенность формы и вместе с тем некоторая «стратосферичность» финальных, созерцательных разделов. Земное — далеко внизу... Конечно, такому впечатлению во многом способствует и звучность, прозрачная, разреженная, хотя Рихтер и тяготеет повсюду к legato характерно бетховенского плана.
В марте 1964 года Рихтер играет в Москве фортепианный концерт Грига (с СО МГФ под управлением К. Кондрашина). И снова ощущение события, едва ли не сенсации. Концерт наполнился патетикой, демонизмом, понимаемым — по-гетевски — как наивысшее напряжение творческих сил. «Какой изматывающий концерт!..», — приводит А. Золотев реплику Рихтера после репетиции. Что же тут удивительного, когда сочинению волей исполнителей сообщена энергия в миллион вольт?!
Зимой 1964-1965 годов пианист на протяжении двух недель непрерывно концертирует в Москве. Сонаты Бетховена, Этюды-картины Рахманинова, Скерцо Шопена, циклы Равеля и — Скрябин, незабываемый рихтеровский Скрябин. Рихтер играет Шестую сонату Скрябина колдовски, иначе это не назовешь: плотное звуковое марево стоит над залом, стоит недвижно, не колеблемое ни единым движением воздуха — разве что на миг, в заключительной партии... Медленно течет поток времени; звучащая форма словно огибает круг за кругом. Но вы почти физически ощущаете, как круг за кругом накаляется звуковое тело, как скапливается жар под недвижным покровом формы. И вот уже сама форма словно растворяется в горячем тумане бесконечности.
Волхвование, гипноз! Вы заворожены, вам душно, вы чувствуете себя внутри какого-то перламутрового шара, из которого нет выхода, ибо нет прямых линий, — это шар!.. Ни один пианист в мире не воплотил с такой полнотой скрябинскую идею «формы-шара», идею абсолютного единства музыкального пространства, как это сделал Рихтер в Шестой сонате, ни один не воплотил так полно не мятежного, не человеческого, а именно космогонического Скрябина! Рихтеровская Шестая — космос, бесстрастный и раскаленный, и в ней Рихтер сильнее Софроницкого, мятущегося, переменчивого, сильнее всех скрябинистов!
Имеется запись сонаты по трансляции (1955 г.).
В апреле 1966 года артистом исполнялся фортепианный концерт си-бемоль мажор (№27) Моцарта (с МКО под управлением Р. Баршая). Рихтер сравнительно часто играет Моцарта в 60-е годы — и сонаты, и концерты. О его Моцарте кратко не скажешь. У него, в сущности, два Моцарта. Один — чрезвычайно активный, громкий и звонкий, почти ударный, «с доведенной до высшей точки интенсификацией всех средств выразительности» (В. Дельсон). Другой рихтеровский Моцарт — концертов (того же си-бемоль мажорного, ми-бемоль мажорного). Этот Моцарт почти бестелесный: звучность sotto voce, еле намеченная педаль, выровненная артикуляция. Что это, стилизация? Нет. Будь это стилизация, а лучше сказать, верность стилю, были бы импровизация, живость движения, непринужденность, капризность — но этой «игры» у Рихтера нет. Доброжелательная критика констатирует это в виде похвалы: «...Рихтер играет Моцарта. Правда, «играет», не совсем то слово. Он создает, творит» (Играет Рихтер. «Известия», 1961, 15 января). То есть, стильного Моцарта нет все-таки без игры, и поэтому Моцарт нелегок для Рихтера. Во всяком случае, когда в присутствии автора этих строк артисту задали вопрос, кто, по его мнению, «самый трудный» для исполнения композитор, ответ был незамедлителен: «Моцарт!».
Замечательно интерпретирует Рихтер в 60-е годы также и те разделы своего репертуара, о которых мы уже писали, — интерпретирует во многом иначе. Выше говорилось о его Концерте Брамса с Э. Ляйнсдорфом; в конце 60-х годов он в Концерте Брамса уже иной (запись с Л. Маазелем): активность духа прежняя, но теперь это не только напор, не только appassionato, но и ласка, и элегичность.
В шубертовской программе 10 апреля 1964 года потрясла Соната си-бемоль мажор: шел звуковой поток такой неслыханной ясности, такой неслыханной чистоты (впечатление связано отчасти с очень медленным темпом), что невольно вспомнились слова Якова Зака (кстати, тоже нейгаузовского ученика): «Есть на свете музыка... чистая, простая и ясная, как природа; пришли люди и стали ее разукрашивать... напяливать на нее разные маски и платья... И вот появился Святослав Рихтер и как бы одним движением руки снял с нее все... наросты и покровы, и музыка опять стала ясной, простой и чистой...»
В 1965 году Рихтер вступил в свое шестое десятилетие. 19 марта 1965 года он был награжден орденом Ленина – «За большие заслуги в области советского музыкального искусства. . .»
Шестое его десятилетие продолжается. Огромную лысую голову артиста обрамляют седые волосы, но все так же стройна фигура, все так же стремителен шаг. И все так же неявен Рихтер – неявностью человека, без остатка растворенного в музыке других людей. Кто он? Как увидеть черты его, поглощенные светом – или тенью – великих мастеров музыки?
Проще всего сказать, что индивидуальность Рихтера как раз и есть умение раствориться в музыке великих композиторов. И это во многом верно, и об этом не раз писали — тот же Д. Рабинович, И. Кайзер (последний, правда, довел мысль до абсурда: объявил об отсутствии индивидуальности у Рихтера). Но можно ведь попытаться и «поймать» рихтеровские черты, заключить контуром его фигуру — идя путями негативным и позитивным.
Путь негативный: то, чего нет. В. Рихтере нет «Jubel» — этим словом (буквально: «ликование», «веселье») немецкие романтики обозначали полную духовную раскрепощенность, экстатический порыв к свету и радости, самозабвение. В Рихтере нет чувственного обаяния, обольстительности; в Рихтере нет ласки, лукавства, игры, ритм его лишен каприччиозности.
Но чем обладает он? О, перечень его сокровищ может быть долог!
Пронзительный ум и неслыханной силы воля: воля организатора, управляющего потоком времени, воля творца, смыкающего миги музыки в неделимое единство. Огромный темперамент, силой которого формуется звучащая материя, огнем которого озаряются широкие пространства формы (интересно, что на Западе Рихтера зачислили в романтики именно по признаку его высочайшего «brio», но рихтеровский темперамент — не самозабвенный полет экстатика, а мощное волевое усилие творца-организатора). Рихтер — врожденное ощущение музыки как порядка, а музыкального произведения — как системы, элементы которой жестко связаны и не могут быть трансформированы без того, чтобы система не распалась.
Рихтер — огромное явление. Его искусство не ласкает, не греет, и вряд ли наедине с ним — с его записями — вы будете чувствовать себя утешенным и согретым, вряд ли будете чувствовать тихое прикосновение дружеской руки и готовность разделить вашу печаль. Нет, — слушая Рихтера, вы озаритесь и взволнуетесь мощью духа, прикоснетесь к небу и морю, радостно покоритесь воле героя. Герой — Рихтер, он герой античного мифа, сияющий чистотою души и мысли. И некого поставить с ним рядом. Все — другие, земные...
В заключение — несколько слов о рихтеровском репертуаре. Опять, казалось бы, не усмотреть личность в репертуаре необъятном, как сама музыка. Но нет, личность видна! И не в выборе авторов, а в выборе сочинений. Неиграемых авторов почти нет (исключение, пожалуй, составляет музыка композиторов Испании), но есть неиграемые сочинения, среди них — популярные номера классического фортепианного репертуара. Рихтер не играет бетховенской «Лунной», шумановского «Карнавала», не играет сонат Шопена, поздних концертов Бетховена, 1-го концерта Брамса. Напрашивающееся «зато» — наивно. «Зато» — бесчисленные богатства рихтеровских просветительских программ, «зато» — огромное количество редко играемых или никогда ранее не игравшихся сочинений: Сонаты Шуберта, Вебера, фортепианные миниатюры Чайковского, вариации Глазунова, Концерт фа мажор Сен-Санса, Концерты Дворжака, Бриттена, «Aubade» Пуленка. Рихтер играет Вторую фортепианную сонату, ор. 2, Брамса (но не 3-ю, чаще всего играемую), 17-ю рапсодию Листа (но не 2-ю, не 6-ю, не 12-ю), играет фуги Шумана (а не «Крейслериану»), Рондо и вариации Шопена. Исполняется, конечно, и очень многое из «играемого»; стоит ли напоминать, что среди рихтеровских шедевров — 1-й Концерт Чайковского, бетховенская Appassionata, Соната Листа, «Картинки с выставки»? И все же репертуар пианиста специфичен. В нем отражено — почти подчеркнуто — чувство артистического достоинства, исключающее поиски успеха на путях популярной музыки. В нем сказывается белизна художественной натуры Рихтера, может быть, и некоторая холодность, но и рыцарственность в служении музыке: артист представляет публике сочинения, которые она не знает или с которыми мало знакома, поэтому и оценивает их непредвзято, поэтому и смотрит на них ясными глазами; правда, это же означает, что публика He может ответить сочинению полнотой чувств, ибо в восприятии не участвует память – социально наиболее активный фактор восприятия, отсутствует социально дорогое чувство «связи времен» – «эту музыку я слушал вместе с отцом», «а помнишь,, мы это слышали до войны?»,– в зале отсутствует прочная связь людей, даваемая общезначимым, общезначимое же есть общедоступное.
Что ж, Рихтер идет на это. Он служит музыке. Музыке... а не людям? Нет, говорить так было бы несправедливо. Он ведет людей к музыке, он приносит в мир людей чистоту и ясность искусства, он убеждает верить искусству во имя света и радости, насылаемых искусством на человеческие сердца.
Он убеждает верить художнику. Мы верим – верим Рихтеру. Он огромен, всегда немного таинствен, но он – часть нашей жизни. То, что он есть, создает далекий и широкий фон нашего духовного бытия, наполняет жгучим интересом к деяниям человеческим, питает сердце и ум. Да будет он – для музыки и людей, для музыки людей!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание.
В середине 40-х г.г. Рихтер говорил о пятнадцати-двадцати готовых программах (см. Рабинович Д.— Портреты пианистов, с. 246); по сведениям 1968 года, у артиста «в голове» сто двадцать программ (см.: Путь к фильму. Рассказывает Гунар Пиесис, режиссер фильма «Святослав Рихтер».— «Советская культура», 1968, 27 февраля). На моей памяти — а я слышал у Рихтера около 30-ти программ — он ни разу целиком не повторился и только один раз дал в концерте более чем трех авторов. О типичных для пианиста программах правильно пишет С. Финкельстайн: «...Рихтер не стремится представить много различных стилей. Он выбирает одного композитора, но раскрывает его полно и глубоко как мыслителя и индивидуальность».
Гордостью проникнуты известные рихтеровские слова: «Мне кажется, что если зарекомендовавший себя исполнитель берет какое-либо сочинение, то тем самым он утверждает его качество. Слушатель может отнестись с полным доверием к исполняемому произведению и должен стараться его понять».
Перепечатано из сборника популярных очерков «Рассказы о музыке и музыкантах», М-Л., Советский Композитор, 1973, с. 124-151.

Пожидаев Г. А.
Рассказы о музыке. М., «Молодая гвардия», 1975.
Фрагмент
СОНАТА
Пианист вышел на сцену, поклонился в бушующий аплодисментами зал и сел за рояль. Обычно после этого говорят: воцарилась тишина. Но слушатели еще не успели сосредоточиться, настроиться на музыку, а пианист, едва успел сесть, как руки его, взлетев с колен молниеносным движением, бросились в клавиатуру рояля — взрыв необычайной энергии...
Вторая соната Прокофьева.
Я слушаю эту вещь впервые, как, впрочем, и другие сонаты Прокофьева — Четвертую и Шестую, которые сегодня включил в свой концерт Святослав Рихтер.
Накануне концерта я прочитал воспоминание Рихтера о встречах с Прокофьевым и его музыкой. Однако, по признанию пианиста, далеко не все сказано в этих мемуарах. «Играя Прокофьева, я в какой-то степени исчерпываю то, что мог бы сказать о нем словами», — пишет Рихтер. И вот сейчас он рассказывает о Прокофьеве музыкой. Я не могу четко разобраться в потоке тем и эпизодов Второй сонаты: она просто ошеломляет напором высвобождающейся энергии. Однако замечаю лиричную мелодию второй темы из первой части, задумчивый настрой третьей. Побеждает же все самый тон произведения, его заразительно-задорное настроение.
Невольно бросаются в глаза поразительная внешняя простота и сдержанность чувств в рихтеровском исполнении. Никаких в общем-то привычных для пианистов видимых переживаний музыки. По воспоминаниям очевидцев я знаю, что у Прокофьева была такая же манера исполнения — без всякого внешнего эффекта, без лишних движений и какого бы то ни было преувеличенного выражения чувств.
Вспоминаю еще раз и слова поэта В. Каменского о встрече с композитором в московском «Кафе поэтов», где тот исполнял свои сочинения: «Ну и темперамент у Прокофьева!..»
Слушая финал сонаты, я видел, ощущал то же. Это впечатление исходило от музыки, от невероятной рихтеровской игры. Наверное, в этом превращении и заключается волшебство настоящего мастера.
Пианист выбрал сонаты из разных периодов жизни композитора, причем Вторую и Четвертую, написанные до революции (кроме финала Четвертой), от Шестой отделяют десятки лет — огромный отрезок творческой биографии. Однако непонятно, почему выбраны две сонаты именно молодого Прокофьева?
Загадки стали проясняться, когда началась Четвертая соната. Заразительное буйство красок, гармоний, переполнившее предыдущую сонату, в Четвертой словно отошло на второй план. Нечто новое — волевое, сильное и вместе с тем сосредоточенное и серьезное — стало главным здесь. Это уже другой Прокофьев. В первой части энергия, не раскрываемая до конца, словно сдерживается мощной рукой. Вторая часть сонаты уже не требует этого укрощающего усилия. Скорее наоборот. Начинается она в нижнем регистре, как будто из глубины сознания. Звуковые краски приглушены. Пианист оцепенел, задумавшись над клавиатурой. Постепенно светлея, медленно развертываясь, наплывает дума. Она не отпускает вашего внимания ни на минуту. Испытываешь какое-то завороженное состояние. Кажется, так можно просидеть бесконечно в кругу необычных ощущений.
Эта соната — одна из любимых Святославом Рихтером. Не потому ли, что в ней большой простор для размышлений о жизни, философского углубления в себя?
Любопытна история ее создания. У нее есть подзаголовок, сделанный композитором: «Из старых тетрадей». В 1908 году в консерватории он начал писать новую сонату, но не закончил и забросил работу на неопределенное время. В том же году сочинил Прокофьев и новую симфонию. Однако ее судьба оказалась несчастливой. Через несколько лет, взглянув на эти свои юношеские сочинения, композитор вдруг увидел, что первая часть сонаты и анданте из симфонии как будто созданы друг для друга. Так родились две части новой — Четвертой — сонаты. Осталось дописать третью часть — финал, который был начат еще в консерватории. Но он, видимо, никак не поддавался. Нужно было найти логически законченный выход глубоким и серьезным размышлениям о жизни, которые легли в основу первых двух частей.
И вот Святослав Рихтер играет финал. Кажется, целый сноп света ворвался в зал. Пожалуй, такой финал произведения особенно понятен сейчас. Но в нем чувствуется не только отдохновение от сложных переживаний предыдущих частей, не только радостный вихрь. Музыка этой части несет в себе нечто более важное, какой-то взволнованный монолог. Вспомним, при каких обстоятельствах композитор сочинял ее.
Это была осень 1917 года! Прокофьев жил в это время в Кисловодске. Из Петрограда пришли известия об Октябрьской революции, и он решил немедленно ехать в столицу. «Но пришел поезд с разбитыми окнами, из которого высыпала испуганная буржуазия», — вспоминал в автобиографии композитор. Ему сказали, что он «сошел с ума», что в Москве и Петрограде стреляют, что он вообще не доедет...
Так вот она, буря финала — предчувствие нового, свежий ветер революции. Пусть не все еще в происходящих событиях было ясно молодому композитору, но его творчество этих лет само выражало оптимистическое восприятие жизни, было ясным лучом на фоне упаднических настроений большей части буржуазной интеллигенции. Не случайно в 1918 году А. В. Луначарский сказал ему: «Вы революционер в музыке, а мы в жизни — нам надо работать вместе».
Мелодии в сочинениях существуют не сами по себе. Они несут определенную мысль автора, отражают его восприятие жизни. Можно ли бурное революционное наступление XX века выразить одними плавными певучими мелодиями? А если сам творец под стать эпохе, имеет характер новатора, не любящего проторенных путей? Если и ритм и темп жизни — другие, если социальные противоречия достигли гигантских масштабов? Если все это носится в воздухе и этим воздухом дышит художник? Тогда, очевидно, и рождаются такие творцы, как Прокофьев.
И вот что самое поразительное. На наш слух, слух людей второй половины XX века, не производят «ужасного» впечатления те произведения Прокофьева, которые когда-то вызывали подлинные скандалы. Вспомним ту же Скифскую сюиту.
Как-то Прокофьев сказал, что один и тот же композитор может думать то сложно, то просто. Да, каждый замысел рождает и свой характер воплощения. Значит, нужно учиться понимать сложную музыку, чтобы, научившись, разделять с автором его большие мысли и глубокие чувства.
Прокофьева нужно понимать таким, какой он есть. И учиться слушать, чтобы не терять почву под ногами при первых же звуках такой сонаты, как, например, Шестая.
...Казалось, пианист вонзил руки в клавиатуру. Немыслимые удары, аккорды — какое-то грандиозное крушение. Все подчинил себе железный, беспощадный ритм. Отбрасываешь слабую попытку понять, где какие темы, откуда начинается разработка. Кажется, что соната прямо с нее и началась. С разработки какой-то одной громадной мысли.
Святослав Рихтер, первый исполнитель этого сочинения после автора, так определяет смысл сонаты: «С варварской смелостью композитор порывает с идеалами романтики и включает в свою музыку сокрушающий пульс XX века». Призываю на помощь биографию Прокофьева. Да, это пульс, пожалуй, еще и зловещий. Композитор начал сочинять Шестую сонату в 1939 году, а закончил в 1940-м. Коричневая чума германского фашизма уже расползалась по Европе — началась вторая мировая война. И в музыку не могло не проникнуть это нашествие злых сил и тревога большого художника за судьбы мира. ...
Среди безумных пассажей звуков словно молотком выстукивается одна нота. Она пронзает вас своей резкостью, несозвучностью, дисгармонией...
Кончилась первая часть. Теперь из этой черной, глубокой бездны начинается подъем, возвращение к жизни, к ее смыслу. Вторая часть — аллегретто — более уравновешенная, просветленная. Третья — в темпе очень медленного вальса. Вся она — успокоение и задумчивость. Но этого мало. Пассивность не может противодействовать той, первой теме, окончательно победить ее, подняться над ней. И тогда наступает четвертая часть — финал. Снова порыв. Но в нем уже не внешний блеск изобретательного финала Второй сонаты, не взволнованное предчувствие нового (финал Четвертой). Горячая вера в торжество света, воля, которая становится почти осязаемой силой, победа жизни - таким мне кажется смысл финала Шестой сонаты Прокофьева.
Овациям не было конца. Очень любят Святослава Рихтера москвичи. Да и не только москвичи. Концерты Рихтера везде выливаются в праздник музыки. И кто знает сколько в этот памятный для меня вечер было в зале людей, которых замечательный пианист навсегда подружил с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым.

Г.Цыпин
В книге Л.Григорьев, Я.Платек.
«Мастера музыки и балета».
«Советский композитор», М.: 1978, 315 с.
Святослав Рихтер
Учитель Рихтера, замечательный советский музыкант Генрих Густавович Нейгауз рассказал однажды о первой встрече со своим будущим учеником: «Студенты попросили прослушать молодого человека из Одессы, который хотел бы поступить в консерваторию в мой класс.
– Он уже окончил музыкальную школу?– спросил я.
– Нет, он нигде не учился.
Признаюсь, ответ этот несколько озадачивал. Человек, не получивший музыкального образования, собирался в консерваторию!.. Интересно было посмотреть на смельчака.
И вот он пришел. Высокий, худощавый юноша, светловолосый, синеглазый, с живым, удивительно привлекательным лицом. Он сел за рояль, положил на клавиши большие, мягкие, нервные руки и заиграл.
Играл он очень сдержанно, я бы сказал, даже подчеркнуто просто и строго. Его исполнение сразу захватило меня каким-то удивительным проникновением в музыку. Я шепнул своей ученице: «По-моему, он гениальный музыкант». После Двадцать восьмой сонаты Бетховена юноша сыграл несколько своих сочинений, читал с листа. И всем присутствующим хотелось, чтобы он играл и играл еще...
С этого дня Святослав Рихтер стал моим учеником».
(Нейгауз Г.Г. Размышления, воспоминания, дневники. – Избранные статьи. Письма к родителям, с. 244-245.)
Так, не совсем обычно начинался путь в большом искусстве одного из крупнейших исполнителей современности, «пианиста века», по утверждению мировой прессы, Святослава Рихтера. В его артистической биографии вообще было много необычного – не было многого из того, что вполне обычно для большинства его коллег. Не было повседневной, участливой педагогической опеки, которая другими ощущается сызмальства; не было твердой руки руководителя и наставника, планомерно организованных занятий на инструменте. Не было каждодневных технических экзерсисов, кропотливо и долго разучиваемых учебных программ, методичного продвижения со ступеньки на ступеньку, из класса в класс. Была страстная увлеченность музыкой, стихийные, никем не контролируемые поиски за клавиатурой феноменально одаренного самоучки; была нескончаемая читка с листа самых разнообразных произведений (преимущественно оперных клавиров), настойчивые попытки сочинять; со временем – работа аккомпаниатора в Одесской филармонии, затем в театре оперы и балета. Была заветная мечта сделаться дирижером – и неожиданная ломка всех планов, поездка в Москву, в консерваторию, к Генриху Нейгаузу.
В ноябре 1940 года состоялось первое выступление двадцатипятилетнего Рихтера перед столичной аудиторией. Оно имело триумфальный успех, специалисты и авторитетная часть публики заговорили о новом, ярком явлении в пианизме. За ноябрьским дебютом последовали еще концерты, один примечательнее и удачнее другого. (Огромный резонанс, вспоминают летописцы музыкального прошлого, имело исполнение Рихтером Первого концерта Чайковского на одном из симфонических вечеров в Большом зале консерватории.) Ширилась известность пианиста, крепла слава. А затем в его жизнь, в жизнь всей страны вошла война...
Эвакуировалась Московская консерватория, уехал Нейгауз. Рихтер остался в столице – голодной, полузамерзшей, обезлюдевшей. Ко всем трудностям, выпадавшим на долю людей в те годы, у него прибавились свои: не было постоянного пристанища, собственного инструмента. (Выручали друзья: одной из первых должна быть названа давняя и преданная поклонница рихтеровского дарования, художница А.И.Трояновская.) И все же именно в эту пору он трудится за роялем настойчивее, упорнее, чем когда-либо прежде. Среди музыкантов считается: пяти-шестичасовые упражнения ежедневно – норма весьма внушительная. Рихтер работает чуть ли не вдвое больше. Позднее он скажет, что «по-настоящему» начал заниматься с начала сороковых годов.
С июля 1942 года возобновляются встречи Рихтера с широкой публикой. Один из биографов Рихтера так описывает это время: «Жизнь артиста превращается в сплошной поток выступлений без отдыха и передышки.. Концерт за концертом. Города, поезда, самолеты, люди.... Новые оркестры и новые дирижеры. И опять репетиции. Концерты. Полные залы. Блистательный успех...». (Дельсон В. Святослав Рихтер. – М., 1961, с.18)
Удивителен, впрочем, не только тот факт, что пианист играет много; удивляет, сколь многое выносится на эстраду им в этот период. Рихтеровские сезоны – если оглянуться на начальные этапы сценической биографии артиста – поистине неиссякаемый, ослепительный в своем многоцветье фейерверк программ. Труднейшие пьесы фортепианного репертуара осваиваются молодым музыкантом буквально за считанные дни. Так, в январе 1943 года им была исполнена в открытом концерте Седьмая соната Прокофьева. У большинства его коллег на предварительную подготовку ушли бы месяцы; некоторые – из особо даровитых и опытных – возможно, справились бы за недели. Рихтер выучил прокофьевскую сонату за ... четыре дня.
К концу сороковых годов Рихтер – одна из самых заметных фигур в великолепной плеяде мастеров советского пианизма. За его плечами победа на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей (1945), блистательное окончание консерватории. (Редкостный случай в практике столичного музыкального вуза: государственным экзаменом Рихтеру был засчитан один из его многочисленных концертов в Большом зале консерватории; «экзаменаторами» в данном случае выступили массы слушателей, чья оценка была высказана со всей ясностью, определенностью и единодушием.) Вслед за всесоюзной известностью приходит и мировая: с 1950 года начинаются поездки пианиста за рубеж – в Чехословакию, Польшу, Венгрию, Болгарию, Румынию, позднее в Финляндию, США, Канаду, Англию, Францию, Италию, Японию и другие страны. Все внимательнее всматривается в искусство артиста музыкальная критика. Множатся попытки проанализировать это искусство, уяснить его творческую типологию, специфику, главнейшие особенности и черты. Казалось бы, чего проще: фигура Рихтера-художника так крупна, рельефна в очертаниях, самобытна, несхожа с остальными... Тем не менее задача «диагностиков» от музыкальной критики оказывается на поверку далеко не простой.
Есть множество определений, суждений, утверждений и т.д., которые могли бы быть высказаны о Рихтере как концертирующем музыканте; верные сами по себе, каждое в отдельности, они – если сложить их воедино – образуют, сколь ни удивительно, картину, лишенную всякой характерности. Картину «вообще», приблизительную, расплывчатую, маловыразительную. Портретной достоверности (это – Рихтер, и никто другой) с их помощью не добиться. Возьмем такой пример: рецензентами неоднократно писалось об огромном, поистине безбрежном репертуаре пианиста. Действительно, Рихтер играет практически всю фортепианную музыку, от Баха до Берга и от Гайдна до Хиндемита. Однако он ли один? Коль уж заводить разговор о широте и богатстве репертуарных фондов, то обладали ими и Лист, и Бюлов, и Иосиф Гофман, и, конечно же, великий учитель последнего – Антон Рубинштейн, исполнивший в своих знаменитых «Исторических концертах» свыше тысячи трехсот (!) произведений, принадлежавших семидесяти девяти авторам. По силам продолжить этот ряд и некоторым из современных мастеров. Нет, сам факт, что на афишах артиста можно встретить едва ли не все, предназначенное роялю, еще не делает Рихтера – Рихтером, не определяет сугубо индивидуального склада его творчества.
Не приоткрывает ли его тайны великолепная, безукоризненно отграненная техника исполнителя, его исключительно высокое профессиональное мастерство? И вправду, редкая публикация о Рихтере обходится без восторженных слов относительно его пианистической искусности, полного и безоговорочного владения инструментом и т. д. Но, если рассуждать объективно, берутся же подобные высоты и некоторыми другими. В век Горовица, Гилельса, Микеланджели, Гульда вообще затруднительно было бы выделить абсолютного лидера в фортепианном техницизме. Или, выше говорилось о поразительном трудолюбии Рихтера, его неиссякаемой, ломающей все привычные представления работоспособности. Однако и тут он не единствен в своем роде, найдутся люди в музыкальном мире, способные поспорить с ним и в этом отношении. (О молодом Горовице рассказывали, что он даже в гостях не упускал возможности поупражняться за клавиатурой.) Говорят, Рихтер почти никогда не бывает удовлетворен собой; извечно терзались творческими колебаниями и Софроницкий, и Нейгауз, и Юдина. (А чего стоят известные строки – без волнения их читать невозможно, – содержащиеся в одном из писем Рахманинова: «Нет на свете критика, более во мне сомневающегося, чем я сам...») В чем же тогда разгадка «фенотипа» (фенотип (phaino – являю+тип) – сочетание всех признаков и свойств индивидуума, сформировавшихся в процессе его развития), как сказал бы психолог, Рихтера-художника? В том, что отличает одно явление в музыкальном исполнительстве от другого. В особенностях духовного мира пианиста. В складе его личности. В эмоционально-психологическом содержании его творчества.
Искусство Рихтера – искусство могучих, исполинских страстей. Есть немало концертантов, игра которых нежит слух, радует изящной отточенностью рисунков, «приятностью» звуковых колоритов. Исполнение Рихтера потрясает, а то и ошеломляет слушателя, выводит из привычной сферы чувствований, волнует до глубин души. Так, к примеру, потрясают интерпретации пианистом «Аппассионаты» или «Патетической» Бетховена, си-минорной сонаты или «Трансцендентных этюдов» Листа, Второго фортепианного концерта Брамса или Первого Чайковского, «Скитальца» Шуберта или «Картинок с выставки» Мусоргского, ряда произведений Баха, Шумана, Франка, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева, Шимановского, Бартока... От завсегдатаев рихтеровских концертов можно слышать иной раз, что ими испытывается странное, не совсем обычное состояние на выступлениях пианиста: музыка, издавна и хорошо знакомая, видится словно бы в укрупнении, увеличении, в изменении масштабов. Все становится как-то больше, монументальнее, значительнее... Андрей Белый как-то сказал, что люди, слушая музыку, получают возможность пережить то, что чувствуют и переживают великаны; рихтеровской аудитории прекрасно известны ощущения, которые имел в виду поэт.
Таким был Рихтер смолоду, таков он и поныне. Когда-то, в далеком 1945 году, он играл на Всесоюзном конкурсе «Дикую охоту» Листа. Один из московских музыкантов, присутствовавший при этом, вспоминает: «...Перед нами был исполнитель-титан, казалось, созданный для воплощения могучей романтической фрески. Предельная стремительность темпа, шквалы динамических нарастаний, огненный темперамент... Хотелось схватиться за ручку кресла, чтобы устоять перед дьявольским натиском этой музыки...» (Аджемов К.Х. Незабываемое. – М.:1972, с.92.) Несколько десятилетий спустя Рихтер сыграл в одном из сезонов ряд прелюдий и фуг Шостаковича, Третью сонату Мясковского, Восьмую Прокофьева. И опять, как в былое время, впору было бы писать в критическом отчете: «хотелось схватиться за ручку кресла...» – настолько силен, яростен был эмоциональный смерч, бушевавший в музыке Мясковского, Шостаковича, в финале прокофьевского цикла.
Вместе с тем Рихтер всегда любил, мгновенно и полностью преобразившись, увести слушателя в мир тихих, отрешенных звукосозерцаний, музыкальных «нирван», сосредоточенных раздумий. В тот таинственный и труднодоступный мир, где все сугубо материальное в исполнительстве – фактурные покровы, ткань, вещество, оболочка – уже исчезает, растворяется без остатка, уступая место лишь сильнейшему, тысячевольтному духовному излучению. Таков у Рихтера мир многих прелюдий и фуг из «Хорошо темперированного клавира» Баха, последних фортепианных творений Бетховена (прежде всего, гениальной Ариетты из опуса 111), медленных частей шубертовских сонат, философской поэтики Брамса, психологически утонченной звукописи Дебюсси и Равеля. Интерпретации этих произведений дали основание одному из зарубежных рецензентов написать: «Рихтер – пианист удивительной внутренней концентрации. Порой кажется, что весь процесс музыкального исполнения происходит в нем самом». (Цит. по кн.: Дельсон В. Святослав Рихтер. – М., 1961, с. 19.) Критиком подобраны действительно меткие слова.
Итак, мощнейшее «фортиссимо» сценических переживаний – и завораживающее «пианиссимо»... Испокон веку было известно: концертирующий артист, будь то пианист, скрипач, дирижер и т. д., интересен лишь постольку, поскольку интересна – широка, богата, разнообразна – палитра его чувствований. Думается, величие Рихтера-концертанта не только в интенсивности, ослепительной яркости его эмоций, но и в их подлинно шекспировской контрастности, гигантской масштабности перепадов: неистовство – углубленная философичность, экстатический порыв – успокоение и греза, активное действие – напряженный и сложный самоанализ.
Любопытно отметить в то же время, что есть и такие цвета в спектре эмоций человека, которых Рихтер как художник всегда чуждался и избегал. Один из наиболее проницательных исследователей его творчества, ленинградец Л.Е.Гаккель однажды задался вопросом: чего в искусстве Рихтера нет? (Вопросом на первый взгляд риторическим и странным, по сути же – вполне правомерным, ибо отсутствие чего-то характеризует иной раз артистическую личность ярче, нежели наличие в ее облике таких-то и таких-то черт.) В Рихтере, пишет Гаккель, «...нет чувственного обаяния, обольстительности; в Рихтере нет ласки, лукавства, игры, ритм его лишен каприччиозности...» (Гаккель Л. Для музыки и для людей. – В кн.: Расскаазы о музыке и музыкантах. Л.;М., 1973, с.147.) Можно было бы продолжить: Рихтер не слишком склонен к той задушевности, доверительной интимности, с которой иной исполнитель распахивает свою душу перед аудиторией, – вспомним хотя бы Клиберна. Как артист Рихтер не из «открытых» натур, в нем нет чрезмерной общительности (Корто,. Артур Рубинштейн), нет того особого качества – назовем его исповедальностью – коим было отмечено искусство Софроницкого или Юдиной. Чувства музыканта возвышенны, строги, в них и серьезность, и философичность; чего-то другого – сердечности ли, нежности, участливого тепла... – им порой недостает. Нейгауз в свое время написал, что ему «иногда, правда, очень редко» не хватало «человечности» в Рихтере, «несмотря на всю духовную высоту исполнения». (Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, днекники, с.109.) Не случайно, видимо, встречаются среди фортепианных пьес и такие, с которыми пианисту, в силу его индивидуальности, сложнее, чем с прочими. Есть авторы, путь к которым для него всегда был непрост; рецензентами, например, издавна дебатировалась «проблема Шопена» в рихтеровском исполнительском творчестве.
Иногда спрашивают: что же доминирует в искусстве артиста – чувство? мысль? (На этом традиционном «оселке» испытывается, как известно, большинство характеристик, выдаваемых исполнителям музыкальной критикой.) Ни то и ни другое – и это тоже примечательно для Рихтера. Он в равной мере далек как от импульсивности художников романтического толка, так и от хладнокровной рассудочности, с которой возводят свои звуковые конструкции исполнители-«рационалисты». И не только потому, что равновесие и гармония – в природе Рихтера, во всем, что является делом: его рук. Тут еще и иное.
Рихтер – художник сугубо современной формации. Как и у большинства крупных мастеров музыкальной культуры XX века, его творческое мышление являет собой органический синтез рационального и эмоционального. Одна лишь существенная деталь. Не традиционный синтез горячего чувства и трезвой, уравновешенной мысли, как это часто встречалось в прошлом, а, напротив, единение пламенной, добела раскаленной художественной мысли с умными, содержательными чувствами. («Чувство интеллектуализировано, а мысль накаляется до такой степени, что становится острым переживанием» – эти слова Л.Мазеля (Мазель Л. О стиле Шостаковича. – В кн.: Черты стиля Шостаковича, М., 1962, с. 15.), определяющие одну из важных сторон современного мироощущения в музыке, кажутся порой сказанными прямо о Рихтере). Понять этот кажущийся парадокс – значит понять нечто очень существенное в интерпретациях пианистом произведений Бартока, Шостаковича, Хиндемита, Берга.
И еще одна отличительная примета рихтеровских работ – четкая внутренняя организованность. Ранее говорилось, во всем, что делается людьми в искусстве – писателями, художниками, актерами, музыкантами, – всегда сквозит их чисто человеческое «я»; homo sapiens проявляется в деятельности, просвечивает в ней. Рихтер, каким его знают окружающие, непримирим к любым проявлениям небрежности, неряшливого отношения к делу, органически не терпит того, что могло бы ассоциироваться с «между прочим» и «кое-как». Любопытный штрих. За его плечами тысячи публичных выступлений, и каждое бралось им на учет, фиксировалось в специальных тетрадях: что игралось, где и когда. Та же врожденная склонность к строгой упорядоченности и самодисциплине – в интерпретациях пианиста. Все в них детально спланировано, взвешено и распределено, во всем абсолютная ясность: в намерениях, приемах и способах сценического воплощения. Особенно рельефна рихтеровская логика организации материала в произведениях крупных форм, числящихся в репертуаре артиста. Таких, как Первый фортепианный концерт Чайковского (знаменитая запись с Караяном), Пятый Прокофьева с Маазелем, Первый бетховенский с Мюншем; концерты и сонатные циклы Моцарта, Шумана, Листа, Рахманинова, Бартока и других авторов.
Рассказывают, что во время своих многочисленных гастролей, бывая в разных городах и странах, Рихтер не упускает случая заглянуть в театр; особенно близка ему опера. Он страстный поклонник кино, хороший фильм для него – настоящая радость. Известно, Рихтер давний и горячий любитель живописи: сам рисовал (специалисты уверяют, что интересно и талантливо), часами простаивал в музеях перед понравившимися ему картинами; его дом часто служил для вернисажей, выставок работ того или иного художника. И еще: с юных лет его не оставляло увлечение литературой, он благоговел перед Шекспиром, Гете, Пушкиным, Блоком... Непосредственное и близкое соприкосновение с различными искусствами, огромная художественная культура, энциклопедический кругозор – все это освещает особым светом исполнительство Рихтера, делает его явлением.
В то же время – еще один парадокс в искусстве пианиста! – персонифицированное «я» Рихтера никогда не претендует на роль демиурга в творческом процессе. Вернее всего, думается подчас на концертах музыканта, было бы сравнить индивидуально-личностное в его трактовках с подводной, невидимой частью айсберга: в ней многотонная мощь, она – основание тому, что на поверхности; от сторонних взоров, однако, она скрыта – и полностью... Критики не раз писали об умении артиста без остатка «растворяться» в исполняемом, о «неявности» Рихтера-интерпретатора – этой явной и характерной черте его сценического облика. Рассказывая о пианисте, один из рецензентов сослался как-то на знаменитые слова Шиллера: высшая похвала художнику – сказать, что мы забываем о нем за его созданиями; они словно бы адресованы Рихтеру – вот кто действительно заставляет забыть о себе за тем, что он делает... Видимо, здесь дают о себе знать какие- то природные особенности дарования музыканта – типология, специфика и т. д. Кроме того, здесь и принципиальная творческая установка.
Отсюда-то и берет начало еще одна, едва ли не самая удивительная способность Рихтера-концертанта – способность к творческому перевоплощению. Откристаллизовавшаяся у него до высших степеней совершенства и профессиональной искусности, она ставит его на особое место в кругу коллег, даже самых именитых; по этой части он почти не знает себе равных. Нейгауз, относивший стилистические трансформации на выступлениях Рихтера к разряду высочайших достоинств артиста, писал после одного из его клавирабендов: «Когда он заиграл Шумана после Гайдна, все стало другим: рояль был другой, звук другой, ритм другой, характер экспрессии другой; и так понятно почему – то был Гайдн, а то был Шуман, и С.Рихтер с предельной ясностью сумел воплотить в своем исполнении не только облик каждого автора, но и его эпохи». (Нейгауз Г. Святослав Рихтер. – В кн.: Размышления, воспоминания, дневники, с. 240)
В последние годы пианист познакомил публику с несколькими новыми программами. Все они, как и следовало ожидать, имели огромный успех. Возможно, успех тем больший (парадокс очередной и последний), что слушателям – как и всегда на рихтеровских клавирабендах – не дано было полюбоваться здесь всем тем, чем они привыкли любоваться на вечерах многих прославленных «асов» пианизма: ни щедрой на эффекты инструментальной виртуозностью, ни роскошным звуковым «декором», ни блестящей «концертностью»....
Это всегда было характерно для исполнительской манеры Рихтера – категорический отказ от всего внешне броского, претенциозного (семидесятые годы лишь довели эту тенденцию до максимума возможного). Всего, что могло бы отвлечь аудиторию от основного и главного в музыке – сфокусировать внимание на достоинствах исполнителя, а не исполняемого. Играть так, как играет Рихтер, – для этого, наверное, мало одного лишь сценического опыта – сколь бы велик он ни был; одной лишь художественной культуры – даже уникальной по масштабам; профессионального кругозора – самого широкого; природного дарования – хотя бы и гигантского... Тут требуется иное. Некий комплекс чисто человеческих качеств и черт. Люди, близко знающие Рихтера, в один голос говорят о его скромности, бескорыстии, альтруистическом отношении к окружающему, жизни, музыке.
Вот уже несколько десятилетий он безостановочно идет вперед. Идет, казалось бы, легко и окрыленно, на деле же – прокладывая себе путь нескончаемым, беспощадным, нечеловеческим трудом. Оставаясь самим собой, он одновременно в чем-то меняется с каждым годом, концертным сезоном. Можно проникнуть, хотя и не без труда, в творческие загадки «вчерашнего» или «сегодняшнего» Рихтера. Его «завтра» неведомо никому...

Г.Цыпин.
Портреты советских пианистов
Москва: «Советский композитор», 1990, 334 стр.

Г.М.Цыпин
Святослав Рихтер
В книге "Портреты советских пианистов". «Советский композитор», 1982. Стр. 86-96 (Та же статья Г.Цыпина опубликована в книге Л.Григорьев, Я.Платек.
«Мастера музыки и балета».)
В.Лазурский. «Путь к книге», 1985, изд-во «Книга». Начало. Одесса 20-е годы. Отчий дом. Фрагмент:
Среди мальчиков детской группы были мой младший брат и его ровесник Светик Рихтер, сын знакомого нашей семье музыканта — профессора консерватории Т. Д. Рихтера. О Светике говорили, что у него хорошие музыкальные способности. Перед выступлениями старший инструктор Анна Фридриховна Крафт поручала Тине и мне заниматься отдельно с теми девочками и мальчиками, которые плохо маршировали под музыку, постоянно сбиваясь с ноги. Среди них наиболее неспособным был Светик Рихтер. Как я ни бился, он никак не мог попасть в ногу. Чтобы не портить впечатления от всей группы, его приходилось исключать из нее во время публичных выступлении.
Встретясь четверть века спустя в Москве, после окончания Великой Отечественной войны, в гостях у своей тетки О. Г. Богомолец со Святославом Теофильевичем, я спросил прославленного пианиста, помнит ли он, как тщетны были мои усилия научить его ходить под музыку в ногу. Он ответил, добродушно посмеиваясь, что помнит. Когда я рассказываю об этом странном феномене, мне обычно не хотят верить. Однако это истинная правда...

Вадим Могильницкий был одним из самых дорогих мне людей и друзей. Пусть книги Вадима на этом сайте будут данью его памяти и памяти Музыканта, перед которым он преклонялся. Рад, что смог оказать ему помощь при написании второй книги.
Публикую одну из его поздних фотографий, подаренных лично мне.

Валерий Воскобойников.
Воспоминания о Рихтере и Гилельсе (из книги Г.Г.Нейгауз. Литературное наследие)

А.Д.Алексеев.
История фортепианного искусства.
Глава VII
«Музыка», М.: 1988.
Автор учебника впервые в советском и мировом музыкознании рассматривает развитие фортепианного искусства от истоков до современности в синтезе его важнейших компонентов — композиторского творчества, исполнительского искусства и педагогики. Первое издание выпущено в 1962 г. (ч 1) и в 1967 (ч 2) годах.
Предназначается для студентов музыкальных вузов Может быть использован учащимися и педагогами музыкальных училищ.
Глава VII
Советские мастера пианизма Советская фортепианная литература Первые ее представители; Мясковский. Подъем искусства в республиках СССР. Новое поколение советских композиторов; Хачатурян, Кабалевский. Шостакович. Прокофьев — композитор и пианист. Фортепианное искусство послевоенного времени, советское и зарубежное
Выдержки из книги с упоминанием Рихтера.
Класс Нейгауза привлек к себе много талантливой молодежи, особенно после того, как из него вышли Рихтер, Гилельс, Зак.
Своеобразие артистической индивидуальности было присуще Григорию Романовичу Гинзбургу (1904—1961), Якову Израилевичу Заку (1913—1976) и другим крупным пианистам, выдвинувшимся в то время. В первую очередь это* конечно, относится к Святославу Теофиловичу Рихтеру (род. 1915), деятельность которого развертывается с 1940-х годов (характеристика его искусства будет дана позднее).
Фортепианные сочинения Мясковского, особенно сонаты 1920-х годов, привлекли внимание крупных пианистов. Третью и Четвертую сонаты впервые сыграл С. Фейнберг. Третья соната звучала в исполнении Г. Нейгауза, С. Рихтера, Я. Зака. За рубежом ее включал в программы своих концертов австрийский пианист Ф. Вюрер. Вторая соната записана В. Софроницким и Т. Гутманом. Нельзя не пожалеть, что произведения Мясковского все же крайне редко звучат на концертной эстраде.
Двадцать четыре прелюдии и фуги (Шостакович). Отдельные пьесы этого опуса можно прослушать в записи автора и многих пианистов, в том числе С. Рихтера, Э. Гилельса, В. Софроницкого, М. Гринберг, Л. Власенко. Всё собрание пьес записано Т. Николаевой (она же впервые исполнила его целиком). Среди этих интерпретаций немало интересных, оставляющих сильное художественное впечатление. Так, еще на Первом международном конкурсе им. П. И. Чайковского привлекло к себе внимание и запомнилось исполнение китайским пианистом Лю Ши-Кунем Прелюдии и фуги A-dur, выделившееся своей совсем особенной, первозданной чистотой чувства. Другой полюс трактовки прелюдий и фуг Шостаковича — исполнение С. Рихтером Прелюдии и фуги Des-dur. Не только фуга, но и прелюдия, столь жизнерадостная на первый взгляд, рождает при внимательном вслушивании ассоциации с жуткими образами войны. «Не беззаботная песенка»— дурашливое приплясывание палача, вальс на губной гармонике солдата-захватчика» — пишет о Прелюдии Л. Гаккель, добавляя: «Образ этот, не скрою, внушен замечательной интерпретацией ре-бемоль-мажорного цикла С. Т. Рихтером» (26, 276). Перечень таких выдающихся интерпретаций можно легко продолжить. Ознакомление с ними, доступное по записям каждому пианисту, может дать многое для изучения творчества Шостаковича и представленного им направления полифонической музыки, особенно если будет сочетаться с чтением музыковедческих работ, посвященных Двадцати четырем прелюдиям и фугам.
Особенно близки духу творчества Прокофьева трактовки некоторых советских пианистов, общавшихся с композитором и ставших первыми исполнителями его новых произведений, когда сам он из-за пошатнувшегося здоровья принужден был свертывать концертную деятельность. Этими пианистами были С. Рихтер, Э. Гилельс и А. Ведерников. Рихтер — первый интерпретатор Седьмой и Девятой сонат, Гилельс — Восьмой, Ведерников — Пятой (в поздней редакции). С именем Ведерникова связано также «открытие» Четвертого концерта.
Для Гилельса музыка Прокофьева — родная стихия. Уже в юности пианист заявил о себе как о ярком интерпретаторе некоторых сочинений композитора. Неизгладимый след в памяти оставила Токката, захватывавшая концертный зал энергией ритма, яростными его нагнетаниями и властными обузданиями. Превосходным образцом зрелой манеры игры артиста может служить исполнение Третьей сонаты. Она подкупает выразительным воплощением двух ее образных сфер — токкатной и лирической и в то же время гармоничным их сочетанием в живом процессе становления формы. К вершинным достижениям Гилельса следует отнести интерпретацию Третьего концерта, монументальную и исключительно цельную, словно высекающую всю эту «многофигурную» композицию из одного куска мрамора.
Значение Рихтера как исполнителя Прокофьева определяется прежде всего трактовками поздних сонат и особенно триады военных лет. Самим складом своего дарования пианист был словно предназначен для выполнения этой сложнейшей художественной задачи. Редко кто из исполнителей прокофьевских сонат может сравниться с ним в широте охвата их образов как единого целого, в умении сыграть на одном дыхании крупные разделы сочинений, не задерживаясь на многих выразительных деталях и в то же время не проходя мимо них. В этом смысле поучительна его трактовка главной и связующей партий Восьмой сонаты, изобилующих такими «соблазнительными» деталями.
Целостности исполнения способствует в первую очередь ритм пианиста, обладающий в высокой мере свойствами активного и целеустремленного движения к важнейшим драматургическим узлам произведения. Ритмические характеристики музыки сонат очень разнообразны. Так, в главной партии первой части Седьмой сонаты ритм устрашающе-нагнетательный, в связующей — постепенно рассредоточивающий накопленную энергию и тем подготавливающий появление лирики побочной партии. Нагнетательный характер ритма присущ также исполнению финала, производящего в трактовке Рихтера поистине ошеломляющее впечатление. Но здесь этот ритм иного рода — не столько жестко однородный, сколько пружинно-упругий. Очень выразительны и ритмические характеристики музыки медленных частей — например, эпически-широкое исполнение начала средней части Седьмой сонаты или завораживающе-застылое — в конце среднего раздела той же части.
Поразительно разнообразны звуковые краски, использованные Рихтером: темные, холодные в темах агрессии, сверкающие в финалах Седьмой и Восьмой сонат, сочно-кантиленные, виолончельные в главной теме средней части Седьмой. Все эти фонические характеристики, так же как и ритмические, остаются, однако, для слушателя настолько органично взаимосвязанными и подчиненными общей художественной концепции, что воспринимаешь музыку как целостное единство формы и содержания, как воплощение великого творения современности, ожившего в искусстве выдающегося артиста.*
Исключительным размахом отличается концертная деятельность Святослава Рихтера, выдвинувшая его в число крупнейших музыкантов-исполнителей нашего века.
Большинству пианистов послевоенных лет свойственны те типические черты, о которых шла речь выше. Но исполнительское искусство любого крупного артиста глубоко индивидуально и не может рассматриваться лишь в рамках господствующих творческих направлений. Обратимся в качестве примера к исполнительской деятельности таких выдающихся мастеров, как Бенедетти Микеланджели, Гульд и Рихтер.
Если для искусства Бенедетти Микеланджели характерна медленная эволюция трактовок, то понимание произведения и даже стиля композитора Гульдом может изменяться сравнительно быстро. В поисках новых трактовок он постоянно экспериментирует, порой радикально переосмысливая существующие традиции. Нередко ему удается сделать на этом пути художественные открытия высокой ценности (запись «Гольдберговских вариаций», Партиты № 6, «Итальянского концерта» И. С. Баха). Но иногда предлагаемые им творческие решения оказываются весьма спорными, субъективистски-произвольными и обедняющими содержание музыки (Фуга cis-moll I тома «Хорошо темперированного клавира»).
Святослав Рихтер выделяется среди пианистов нашего времени особенно широким кругом интересов в области музыкального искусства. Все корифеи фортепианной литературы от Баха до Прокофьева представлены в его репертуаре, причем капитальнейшими своими творениями (кроме того, он исполнил множество камерно-ансамблевых сочинений, вокальных и инструментальных). Более всего поражает то, что Рихтер сумел себя ярко проявить во многих трактовках различных по стилю произведений. Трудно сказать, где он достиг наибольших высот — в сонатах Бетховена или Шуберта, в Фантазии Шумана или «Картинках с выставки» Мусоргского, в прелюдиях Дебюсси или этюдах Скрябина, в концертах Прокофьева или Бартока?
Редкая многогранность исполнительского дарования пианиста сказалась в соотношении объективного начала и субъективного при интерпретации им различных по стилю сочинений. Хотя объективное начало в искусстве Рихтера обычно преобладает над субъективным, слушатели его концертных выступлений были свидетелями и очень непосредственных лирических высказываний (Шуберт), и бурного выражения страстных, пламенных чувств (Лист).
Весьма разнообразна пианистическая стилистика Рихтера. В пьесах французских импрессионистов он предстает поистине волшебником красок, извлекающим из инструмента богатейший спектр разнообразных звучностей — от радужно-звончатых до тусклых, затуманенных. Наряду с этим исполнение Баха и неоклассицистской музыки, особенно в поздний период творческой деятельности пианиста, могло быть весьма строгим, даже чересчур аскетичным в эмоциональном плане, а в отношении колорита — подчеркнуто линеарным, графическим.
Рихтер проявил себя мастером в трактовке сочинений различных жанров и форм музыки — концертов, сонат, циклов миниатюр. Ему в высокой мере свойственны симфоничность музыкального мышления, находящая выражение в создании больших исполнительских концепций и умении воплотить их крупным планом. Он в равной мере убедительно выявляет природу симфонизма конфликтно-драматического типа и жанрово-эпического.
Широта художественного кругозора Рихтера и глубокое постижение им многих явлений мирового музыкального искусства обусловлены, думается, не только особенностями его творческой личности. Сказалась также направленность педагогики его учителя — Г. Г. Нейгауза и воздействие эстетических идей советской школы пианизма в целом. А за всем этим ощутимы и уходящие в дали прошлого традиции русских классиков, проникнутые духом высокого гуманизма и живым интересом ее корифеев к художественным сокровищам народов мира.

Л.Григорев, Я.Платек. «Современные пианисты».
М.:»Советский композитор», 1990, 464 с.
РИХТЕР Святослав Теофилович (р. 20. III 1915), нар. арт. СССР (1961), Гос. премия СССР (1951), Ленинская премия (1961), Герой Социалистического Труда (1975).
...Где бы ни выступал выдающийся советский пианист – будь то в Москве и Ленинграде, Праге и Нью-Йорке, Будапеште и Лондоне, Софии и Париже,– везде его встречают восторженные овации слушателей и единодушные похвалы критиков. Любое его выступление – это настоящий праздник, значительное художественное событие.
Творческое становление Рихтера – путь неустанных исканий, глубоких музыкальных открытий, идет ли речь о новых произведениях его современников или о классических шедеврах. Первые шаги на этом пути он сделал под руководством отца в Житомире, где тот работал органистом. В детстве он не замыкался в круг узких фортепианных интересов, как это часто случается с будущими виртуозами. В ту далекую пору рояль служил для него всего лишь средством для ознакомления с оперными и симфоническими созданиями Бетховена и Глинки, Брамса и Чайковского, Вагнера и Римского-Корсакова... Словом, по справедливому замечанию Г.Когана, он шел от музыки к фортепиано, а не от фортепиано к музыке, как бывает обычно. Еще большему размаху его музыкальной эрудиции послужила практическая деятельность. Молодой концертмейстер Одесской филармонии, а затем оперного театра поражал своих коллег невероятной легкостью, с которой он прочитывал сложнейшие партитуры. Мир искусства открывался перед ним разными гранями – он пробовал свои силы в композиции, «грешил» литературными опытами, мечтал о дирижерской карьере. Но судьба вела его к фортепиано. В 1934 году Рихтер впервые вышел на эстраду как пианист. А вот дирижерский дебют по разным причинам тогда так и не состоялся. Спустя три года он отправился в Москву, так и не сделав окончательного выбора. «Пианист из меня вряд ли выйдет», – говорил Рихтер.
...«Студенты попросили прослушать молодого человека из Одессы, который хотел бы поступить в консерваторию в мой класс, – рассказывает Г. Г. Нейгауз.
– Он уже окончил музыкальную школу? – спросил я.
– Нет, он нигде не учился.
Признаюсь, ответ этот несколько озадачивал.
Человек, не получивший музыкального образования, собирался поступать в консерваторию!.. Интересно было посмотреть на смельчака. И вот он пришел. Высокий, худощавый юноша, светловолосый, синеглазый, с живым, удивительно привлекательным лицом. Он сел за рояль, положил на клавиши большие, мягкие, нервные руки и заиграл.
Играл он очень сдержанно, я бы сказал, даже подчеркнуто просто и строго. Его исполнение сразу захватило меня. Я шепнул своей ученице: «По-моему, он гениальный музыкант».
После Двадцать восьмой сонаты Бетховена юноша сыграл несколько своих сочинений, читал с листа. И всем присутствующим хотелось, чтобы он играл еще и еще... С этого дня Святослав Рихтер стал моим учеником».
Шел 1937 год. Удивительное родство душ, интеллекта, художественных устремлений сблизило одного из крупнейших музыкантов страны и молодого пианиста. Творческий облик артиста складывался под благотворным воздействием Г. Г.Нейгауза, хотя последний весьма скромно оценивал свою роль в этом процессе: «...в занятиях с Рихтером я чаще всего придерживался политики „дружественного нейтралитета" (но вовсе не пассивного). Он смолоду обнаруживал такое великолепное понимание музыки, столько вмещал ее в своей голове, обладая при этом чудесным природным пианизмом, что приходилось поступать согласно пословице: ученого учить – только портить. Вероятно, я ему помог немного в его развитии, но больше всего помог он сам себе, и прежде всего помогала сама музыка, которой он рьяно и страстно занимался».
В 1942 году Рихтер дал первый самостоятельный концерт в Москве; в программе – Бетховен, Шуберт, Прокофьев, Рахманинов. Однако эта дата знаменательна для него не только московским дебютом как таковым. Только теперь, по собственным словам Рихтера, он стал серьезно заниматься как пианист. А еще через два года необычный государственный экзамен – сольный концерт в Большом зале Московской консерватории.
Как правило, успешное выступление в музыкальном соревновании открывает молодому талантливому исполнителю доступ на концертную эстраду. Для Рихтера Всесоюзный конкурс 1945 года стал скорее подведением определенных итогов пианистической молодости. И, конечно, первая премия...
Дальнейшее творческое развитие Рихтера шло поистине семимильными шагами. Он буквально обрушивал на публику одну новую программу за другой. Характеризуя первый период артистической деятельности Рихтера, музыковед Л.Гаккель называет его «прокофьевским пианистом». И с подобным определением можно согласиться: прокофьевские сонаты, концерты, многие другие пьесы нашли в лице молодого артиста глубочайшего истолкователя. Так считал и сам композитор, доверивший Рихтеру первое исполнение своей Девятой фортепианной сонаты (1951). В.Дельсон в, монографии, изданной в 1961 году, опорными пунктами необъятного рихтеровского репертуара называет Прокофьева и Шуберта. В одном из немногочисленных интервью (польский журнал «Рух музычны») сам Рихтер назвал своими любимыми композиторам Моцарта, Шопена и Дебюсси. Наконец, в последние годы мы с особым правом можем назвать Рихтера выдающимся бетховенистом, прежде всего имея в виду его изумительную интерпретацию трех последних сонат великого композитора Словом, каждое из этих наблюдений носит «временной» характер. Гораздо авторитетнее следующее признание пианиста: «Я существо „всеядное”, и мне многого хочется. И не потому что я честолюбив или разбрасываюсь по сторонам. Просто, я многое люблю, и меня никогда не оставляет желание донести все любимое мною до слушателей».
Вместо «всеядность» правильнее сказать – широта художественного кругозора, удивительная способность проникать в самую суть музыкального произведения любой стилистической направленности. «Мне кажется, – подчеркивал Д. Шостакович, – что главной задачей, которую ставит себе Рихтер, является точное и в то же время творчески-вдохновенное изложение авторского замысла. Этой цели Рихтер посвящает весь свой огромный талант, все свое феноменальное мастерство».
Перевоплощение – органичный и необходимый компонент исполнительской профессии. Однако для Рихтера это основа основ, принципиальное художественное кредо. По наблюдению Г. Г. Нейгауза, «когда он играет разных авторов, кажется, что играют разные пианисты – рояль был другой, звук другой, ритм другой...» Как пианист достигает подобных метаморфоз? Во-первых, он сознательно стремится к этому: «Я думаю, что задача настоящего исполнителя – целиком подчиниться автору: его стилю, характеру, мировоззрению». Ну, а далее? Вроде бы все очень просто. На вопрос польского корреспондента о том, как артисту удается сделать столь выразительными «активные» паузы в ми-минорной Сонате Шуберта, Рихтер отвечал: «Я реализую только то, что есть в нотах. Эти
паузы достаточно четко обозначены там... Поверьте мне, в нотном тексте можно обнаружить буквально все, если его внимательно читать».
Однако за этой кажущейся простотой – упорный, неустанный труд, ибо нет предела в постижении настоящей музыки, зафиксированной в нотных строках. Характерно в этом смысле и такое признание пианиста: «Неудача никогда меня не обескураживает. Я не бросаю вещь, если она не получилась у меня на концерте так, как мне хотелось; я продолжаю работать над нею и играю ее до тех пор, пока она не получится».
Все это в равной мере относится и к классике (к упомянутым именам добавим и таких постоянных спутников Рихтера, как Бах, Лист, Шуман, Брамс, Григ, Чайковский, Мусоргский, Скрябин), н к современной музыке. Пианист чутко ощущает музыкальную атмосферу наших дней, внутреннюю связь времен, неразрывное единство музыкального процесса. «Мы слишком привыкли к тому, – говорит он, – что на основе старого познаем новое. А следовало бы еще добавить – исходя из нового, познаем старое». Наряду с Прокофьевым Рихтер неоднократно включал в свои программы произведения Н.Мясковского, Б.Бартока, Д.Шостаковича, К.Шимановского. Как видим, он строг в выборе нового репертуара.
Строг и требователен при всей широте художественной восприимчивости. Вот его девиз: «Я хочу прежде всего познавать музыку. Меня интересует сама музыка. Я – слуга музыки». Слуга музыки... Искренность этих слов подтверждается, быть может, с особенной очевидностью, если вспомнить об одной сфере исполнительской деятельности, в которой Рихтеру вряд ли найдется равный в современном художественном творчестве. Речь идет об ансамблевой игре, об искусстве аккомпанемента. В роли «аккомпаниатора» москвичи впервые услышали Рихтера еще в 1945 году: вместе с Н.Дорлиак он исполнял «Пять стихотворений Ахматовой» в авторском вечере С.Прокофьева. В дальнейшем программы зтого замечательного дуэта обогатились произведениями Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Шумана, Брамса, Грига и других композиторов. Еще в 1951 году Ан.Канкарович писал в «Советской музыке»: «Аккомпаниаторское искусство Рихтера привлекает смелостью нового прочтения классики, преодолением традиционных канонов „общепринятого"». Многим памятен и дуэт Рихтера с Д. Ойстрахом, в частности, исполнение ими Сонаты Д.Шостаковича. А незабываемые впечатления от Тройного концерта Бетховена, где Рихтер играл фортепианную партию. Наконец, творческое содружество советского пианиста с Д.Фишером-Дискау; трудно представить более совершенное истолкование песен Брамса или Вольфа...
Разгадка неотразимого воздействия Рихтера на слушателей объясняется удивительным комплексом художественных параметров, характерных для этого пианиста. «В истории музыкального исполнительства, – писал В.Дельсон, – не так легко найти примеры столь интенсивного развития в одном художнике интеллектуального и эмоционального начал, яркости и глубины, артистичности и мастерства, безукоризненного вкуса и виртуозного блеска».
Святослава Рихтера с полным правом следует назвать музыкантом-просветителем. Он открыл для людей множество страниц мировой художественной сокровищницы. Тысячи слушателей благодарны ему за фестиваль «Декабрьские вечера», который по его инициативе и поддержке ежегодно проводится в Государственном музее изобразительных искусств им.Пушкина... Тысячи? А может быть, миллионы, если учесть, что телевидение сделало этот фестиваль достоянием телезрителей всей страны. Нельзя не вспомнить и сравнительно недавнее грандиозное турне пианиста по транссибирскому маршруту. Оно стало выдающимся событием в культурной жизни необъятного края, население которого испытывает дефицит общения с большими артистами.
Встречи с Рихтером навсегда врезаются в память людей. Такие «собеседники» встречаются редко. «Музыка для Рихтера как бы родной язык, на котором он просто, естественно и в то же время непреклонно и властно излагает свои мысли и чувства. В его мире – широком и многообразном – не душно и не тесно, не холодно и не неприятно. Во все он вкладывает искренность, содержательность, необычайную устремленность порывов своей богато одаренной натуры». Эти слова написаны Я. Мильштейном в 1948 году. Их с еще большим основанием можно повторить сегодня в адрес одного из величайших пианистов ХХ века.
-----------------------------------------------
Литература: В.Дельсон. «Святослав Рихтер», «Государственное музыкальное издательство», М.:1961, 124 с.
Д.Рабинович. «Портреты пианистов», М.: «Советский композитор», 1970, 280 с.
Г.Цыпин. «Святослав Рихтер», М.: «Музыка», 1971

Золотов А.А..
Хроники Рихтера
Пианист века
Из книги
"Листопад или минуты музыки"
М. «Современник», 1989, с.230-264.
Тамара Грум-Гржимайло
(из книги “Ростропович и его современники. В легендах, былях и диалогах”
М.: Изд-во “Агар”, 1997)
ГЛАВА XIII
“Его все озаряющее присутствие”
ЛЕГЕНДА ЖИЗНИ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА, СЛОЖИВШАЯСЯ К ЕГО 70-ЛЕТИЮ, КОТОРОЕ ОТМЕЧАЛ ВЕСЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР В 1985 ГОДУ
Отвечая однажды на вопрос студента: “Будете ли вы преподавать?” – Святослав Рихтер воскликнул: “Нет, нет, не буду. Я еще сам все время учусь!”
Кажущаяся курьезность ответа в действительности обнажает правду единственного в своем роде максимализма, юношеской непресыщенности души великого музыканта.
Святослав Рихтер всегда умел и жаждал учиться у жизни, у природы, у творцов классического искусства, избегая банальных привязок к узко ремесленному цеху. И поэтому, наверное, его путь к вершинам музыкального исполнительства похож на легенду о блестящем самоучке, который, однако, никогда не был “вундеркиндом”.
Он пришел в музыку поздно. В юности создавал собственные музыкальные спектакли, выступая как композитор, драматург, режиссер и актер. И не удивительно, что на вопрос: “Кто ваш любимый композитор?” – Рихтер отвечает: “Тот, который совсем не писал фортепианную музыку, - Вагнер”. И потом поясняет: “Вагнер перешагнул рамки своего профессионализма. У него все сливается – музыка, театр, литература, дирижирование…” Ответ Рихтера высвечивает сокровенное – жизнь его духа в обширнейшей сфере искусств, его жажду художественного синтеза.
Строго говоря, его школьной скамьей стала сразу Московская консерватория, а точнее – класс Генриха Густавовича Нейгауза, куда был зачислен в 1937 году концертмейстер Одесского оперного театра Святослав Рихтер, не имевший никаких документов о начальном музыкальном образовании. А было ему в ту пору 22 (!) года – возраст, когда крупные музыканты уже завоевывают мировую известность…
Зато и наверстал упущенное в один вечер! То был памятный осенний вечер дебюта Рихтера с Шестой сонатой Прокофьева в Малом зале Московской консерватории в 1940 году. Перед ошеломленной публикой предстал не “ученик Нейгауза” (игравшего в первом отделении концерта), но законченный пианист-новатор, вулканический художник, артист мирового класса.
Генрих Нейгауз не случайно назвал Рихтера “учеником нашей страны, нашего времени и нашего народа. И только в последнюю очередь своим”. Он не стеснялся признаваться, что до конца дней своих будет не только восхищаться Святославом Рихтером, но и… учиться у него. Неумолимая жажда “ученичества” скрепила узы деликатнейшего из союзов Учителя и Ученика.
Между тем Рихтер всегда поражал именно комплексом ярчайших черт “школы”, русской музыкально-исполнительской классической традиции, на знамени которой написаны Человечность, Правда и Красота. Его гигантская одухотворенная виртуозность возвращала фортепиано его царственное положение на концертной эстраде ХХ века. “Такого мастера, как Святослав Рихтер, могла взрастить и выпестовать лишь лучшая музыкальная школа, какую знает мир”, - признавалась Розина Левина в дни первых гастролей советского пианиста в США в 1960 году. Рихтера назвали “пианистом века”, олицетворяющим собой гений русского народа. В нем увидели живое воплощение “легендарных гигантов клавиатуры прошлого”, один из которых – Антон Рубинштейн, основоположник русского концептуального пианизма, словно предвидя явление Рихтера, изрек известный афоризм: “Воспроизведение – это второе творение”.
Именно авторское, сверхмощное по творческой энергии, созидательное начало делает Рихтера интерпретатором, конгениальным исполняемым авторам. Именно феноменальный артистический максимализм, дар перевоплощения, позволяющий бесконечно глубоко погружаться в своеобразный мир композитора – будь то Бетховен, Шуберт, Шрпен, Скрябин, Прокофьев и кто угодно еще – составляет тайну всеохватывающего дарования пианиста. “Искать автора” – иначе “дорога в никуда”. Так лаконично определил однажды свою проблему Рихтер в беседе с журналистами…
2
Взойдя на вершину исполнительского мастерства и обретя к 60-тым годам мировую славу, он продолжал “расти”. Он продолжал свой путь к совершенству, который для него в этой земной (а быть может, и не только земной! ) жизни не завершится никогда. Мощный дух Рихтера, помноженный на исключительное виртуозное дарование, меняет облик его пианизма постоянно, заставая воображение слушателя врасплох. На смену демоническому приходит аскетическое; взамен отрешенному, холодному – глубоко человеческое. Но как говорит о нем Юрий Башмет: “И уж никак не отнесешь его к “романтическому” направлению или “интеллектуальному”. Это тот самый сплав всех оттенков исполнительского мастерства и всех человеческих качеств, который и дает ему право считаться великим… Он какой-то бездонный, Рихтер… От него словно излучение какое-то идет… Он одним своим присутствием “вытягивает” из человека максимум” (будь этот человек партнером по музыкальному ансамблю или дружескому общению, или, наконец, просто рядовым слушателем. – Т.Г.-Г.).
И далее Юрий Башмет размышляет: “Подарит ли природа миру еще одного такого музыканта? Если уже и родился другой такой же великий, то пусть сначала доживет до этого возраста (то есть до 70-летия. – Т.Г.-Г. ), и так же растет, и так же играет, пусть он станет величиной хотя бы вполовину того, что сейчас собой представляет Рихтер… Может быть, природа и одарит его комплексом каких-то исходных данных, но сможет ли он с ними справиться? А Рихтер справился. Уже очень давно”.
Еще студентом Святослав Рихтер переиграл “всю музыку” – камерную, оперную, симфоническую – и приобщил к ней коллег по Московской консерватории. Таких “рихтеровских” музыкальных собраний студенческого кружка, как вспоминают участники, состоялось около ста (!). В истории Московской консерватории – ни до, ни после Рихтера – ничего подобного не бывало.
“Музыку он знает всю, - рассказывает Нина Львовна Дорлиак, -Вспоминаю, как они общались с Нейгаузом. Тот подходил к роялю и наигрывал: “А вот в “Электре” Штрауса, Слава, ты помнишь?..” Так они с Генрихом Густавовичем разговаривали”.
А мы, консерваторская молодежь, каждый месяц устремлялись на новые “бездонные” программы концертов Рихтера, которые он посвящал “отдельно взятым” композиторам, как-то: Бах, Бетховен, Шуберт, Шуман, Лист, Дебюсси, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович – и несть им числа. Монографический тип концертов был его страстью, а для нас – огромным впечатлением-открытием, побуждающим нашу мысль и воображение – вслед за Рихтером – “выйти из берегов”.
“Помню его первые концерты в Москве, - пишет Вера Горностаева. – Облик молодого, стройного, идущего по сцене стремительно и плавно. Был волнующий контраст между закругленной пластикой походки и яростной волей, сокрушительной мощью, которые слышались в его игре. Зал ощущал охватывающий плен, особое влияние… Стихия в игре Рихтера так же запомнилась и впечаталась в сознание, как и побеждающий ее интеллект. Уже ясно становилось, что есть высшее и не имеет слов… ”
Его фортиссимо ошеломляло звуковой громадой и напряжением. Его пиано-пианиссимо зачаровывало, заколдовывало бездной оттенков и неземной отстраненностью. Рихтеровский фортепианный “оркестр” переливался фантастическим многоцветьем, сулящим приближение к тайнам непознанных звуковых миров. А темпы, темпы!.. Его ураганные темпы игры порой ломали все представления о границах человеческих возможностей. Его темпереамент, словно заряженный сверхвысокой энергетикой высших миров, придавал его облику черты и повадку молодого воина, бросающегося в сражение. Об этом особом состоянии артистического экстаза молодого Рихтера известный музыкальный критик и знаток пианистического искусства Давид Рабинович писал: “… Взгляните на его пальцы, вгрызающиеся в клавиатуру, на его ноги, исступленно топчущие пол около педалей. Это не эксцессы показного эстрадного темперамента – тут, пожалуй, уместнее вспомнить слово “берсеркер””, которым норманны некогда обозначали неистовство, в бою охватывающее викингов”.
Но мы знали и другого Рихтера – статуйно-неподвижного, отрешенного, почти холодного, почти недоступного для неискушенного слушателя; Рихтера, “музицирующего” наедине с Богом, живущим в его непостижимой музыкальной душе; Рихтера, играющего очень долго и очень тихо свои “божественные длинноты”… Но об этом “неприступном” Рихтере-олимпийце всегда хотелось сказать словами Бузони (о Бетховене) : “Его не назовешь божественным, он слишком человечен, в этом его величие…”
- Мне многого хочется, - признается Рихтер. – И не потому, что я честолюбив или разбрасываюсь. Просто я многое люблю, и меняч никогда не оставляет желание донести все любимое до слушателей.
3
Однажды ему задали весьма характерный вопрос:
-Вы играете “всю музыку”. И все же признаете ли вы перемены вкусов, как реагируете на моду на того или иного композитора?
Рихтер ответил:
-Мода на какого-то композитора, на определенный род музыки возможна только в дилетантской среде. Настоящее искусство неподвластно моде, оно живет века. И нужно играть все достойное, истинное.
В Рихтере все огромно, все вырывается за пределы привычных норм и представлений. Став пианистом, он умудрился, по существу, быть и композитором, и дирижером, и артистом-режиссером, а впоследствии – и живописцем (кстати, он брал уроки рисования у обожаемого им Фалька). Только все эти профессии слились в грандиозном сплаве его пианизма, равного которому не знал ХХ век.
4
- Нетерпение! Нетерпение! Все более одухотворенный звук! Чудо должно быть! ..
Эти удивительные, полные динамизма и мечтательности слова говорил Святослав Теофилович певцам коллективов Всесоюзного радио, репетируя с ними Шесть хоров для женских и детских голосов Рахманинова. Записанная на пленку и переданная в эфир, эта уникальная репетиция станет материальной крупицей памяти о “чудоискательстве” великого артиста-музыканта. Он верит в чудо – в искусстве и в жизни. Всегда ждет неожиданного, необыкновенного. И сам творит его.
- Я думаю, что все исполнительское искусство вообще, - говорит Рихтер, - построено на неожиданности…
Но в том-то и дело, что в своих вечных поисках “чуда” и “неожиданности” музыкального решения пианист бесконечно точен и строг, как профессионал-интерпретатор. Строгое отношение к своему искусству, говорит он, “мгновенно связывает тебя с концертным залом”, а “стихия музыки, подчинившая тебя, не оставляет места праздным мыслям… Тогда важно знать одно – идея, сформулированная композитором, как ценность, которой предстоит жить в звуках”.
Так говорит музыкант о мгновениях своего строгого концертного творчества, которое возвышает и артиста, и слушателя, и самого творца.
5
Режиссер Рижской киностудии Гунар Пиесис, снимавший фильм “Святосла Рихтер”, писал: “Удивительный он человек. Гениальное и простое в нем рядом. Как обаятелен и просто он в беседе с рыбаками! Какой огромной эмоциональной силой заряжено его восприятие!.. Музыка, живопись, литература, природа – все это связано неразрывно в его восприятии, и все это проникает в его творчество путями неведомыми, делая его всеобъемлющим, раздвиная для слушателей границы прекрасного беспредельно…”
Нейгауз гордился “универсализмом” Рихтера, способного воспроизводить своим искусством не только духовный мир композитора, но и мир целой эпохи. Мы, современники Рихтера, его слушатели и “ученики”, хорошо знаем, что такое всепокоряющая магия его интерпретаций: кажется, вся мощь его феноменальной памяти и культуры, весь его прометеев труд и “нетерпение души” переливаются в эти фортепианные откровения, а точнее сказать – необъятные космические миры духовного созидания, где сливаются все начала и стихии бытия, казалось бы, неподвластные рукам единственного музыканта. Знакомое ощущение: будто играет не один человек. “Все, что мы слышали, - писали, например, слушатели города Ужгорода в дни гастролей Рихтера, -выходило за пределы просто фортепианной музыки. Казалось, на сцене огромный оркестр, спаянный единой волей творца, стихия звуков. Мы забыли, что перед нами пианист. Мы видели художника, творца-композитора, дирижера, живописца…”
А гастроли предпринимал Рихтер фантастические. 70-летний мастер совершил многомесячное турне по просторам Сибири, Средней Азии, Дальнего Востока, республикам Прибалтики и Кавказа, в Молдавии, Белоруссии и на Украине, не пропуская и самых маленьких городов, и небольшиз поселков, не отказывая ни школам, ни сельским клубам, играя порой в помещениях, где до него не играл ни один пианист. Он мог играть в полутьме, при одной-единственной зажженной лампе, поставленной на пюпитр.
Его театрально-режиссерская фантазия порождает планы самые неожиданные. Он может предложить кинооператору снимать руки пианиста с самых невероятных точек: например, из-под рояля или с потолка. Его неуемная фантазия может превратить старый амбар для зерна в концертный зал. Так случилось в предместье французского города Тура, где по идее Рихтера “перевернутая лодка” деревянной постройки “Гранж де Меле” (чудо плотницкого искусства XIII века!) стала сводом концертного зала – центром притяжения лучших музыкальных сил мира на протяжении трех десятилетий!
6
Об этих интереснейших событиях биографии Рихтера рассказывает Нина Львовна Дорлиак: “Двадцать лет назад (то есть в середине 60-х годов. – Т.Г.-Г.) Рихтер давал концерт в Национальном театре города Тура, во Франции. “Садом Франции” называл Рабле эти края. Местное общество друзей музыки “уловило” то, что витало… Создать фестиваль Рихтера! Провезли его по всем окрестностям, по всем замкам. Наконец главный архитектор Тура, Пьер Буаль, привез его в старинный амбар “Гранж де Мэле”, постройку XIII века. Амбар был полон сена, кукурузы, но… акустика оказалась уникальной. С той поры ежегодно выступают тут музыканты мирового масштаба, подчиняющиеся инициативе Святослава Теофиловича с кротостью поразительной. Здесь дважды пел Д.Фишер-Дискау, Элизабет Шварцкопф, играл Давид Ойстрах, квартет имени Бородина, выступали певицы Криста Людвиг (с Венской Оперой), Барбара Хендрикс, Грэс Бэмбри, Джесси Норман, оркестры Пьера Булеза, Лорина Мазеля, Карла Рихтера, “Моцартеум” из Австрии, оперы Б.Бриттена шли в составе исполнителей из Ковент-Гардена. И неизменно ежегодно – Рихтер, Рихтер, Рихтер…”
В программке одного из туринских фестивалей середины 80-ых годов говорилось: “ЕГО ВСЕ ОЗАРЯЮЩЕЕ ПРИСУТСТВИЕ притягивает артистов и меломанов, которые хорошо знают, что там, где находится Рихтер, они найдут качество, чистоту стиля и вдохновение”.
На одном из фестивалей в Туре по приглашению Рихтера побывала Ирина Александровна Антонова, директор Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. И сразу задала вопрос “вдохновителю” фестиваля: почему в Туре, почему не в Москве?
Рихтера не пришлось долго уговаривать. Ведь он давно, еще с середины 50-ых годов, играл в “цветаевском доме” на Волхонке. Как вспоминает Ирина Александровна, первый концерт состоялся между итальянским и греческим двориками, когда пела Дорлиак, а Рихтер ей аккомпанировал. Потом он играл в музее в самых разных залах самые изысканные свои программы: поздние сонаты Бетховена, всю знаменитую серию фортепианных и вокальных произведений Шуберта, музыку Дебюсси и Шимановского, Двойной концерт для скрипки и фортепиано Альбана Берга…
Рихтер загорелся. И родились в снежном декабре 1981 года в Музее на Волхонке “Декабрьские вечера” – чудо московской элитарной музыкальной культуры и просвещения, сконцентрировавшихся вокруг гипнотической личности “пианиста века”. Их особенностью и непременным условием, по замыслу Рихтера, стала глубоко продуманная и каждый раз заново созданная художественно-насыщенная среда – воплощение рихтеровской идеи синтеза, созвучия искусств изобразительного и музыкального.
Белый зал Музея изящных искусств. Снежно-белая московская зима. Кажется, невозможно было отыскать лучшего фона и образа московских “Декабрьских вечеров”, о которых замечательно написал однажды петербургский музыковед Леонид Гаккель: “Здесь сыграли какую-то роль ключевые для русской культуры, в особенности для московской, понятия о зиме, о снеге, о каком-то укрытии под снегом за зимней пеленой. Особенно, мне кажется, это важно для Москвы, это какой-то тип русского общения, который всегда предполагает некую скорлупу, защиту. Снег, зима испокон века были такой защитой для культуры в Москве, в России вообще… И 81-й когда очень сильно замело снегами, вызвал потребность укрыть и сделать снег союзником, как сказано у Пастернака – “Зимний вечер, сочувствующий союзник”. И когда сегодня мы смотрим по сторонам, когда чувствуем, что нет никакой защиты и негде укрыться, то это значение Декабрьских вечеров как укрытия под снегом, как укрытия среди зимы… кажется еще более существенным. Для русской музыки очень терпким является контраст между простором русской беспредельности, русской открытости и духом камерного творчества, камерного музицирования. В этом есть какая-то острота, неведомая западной культуре. Там нет такого контраста между музицированием в узких стенах и широкими беспредельными просторами жизни. Беспредельными просторами русского материального мира. Все это придавало Декабрьским вечерам, их рождению, придает им до сих пор (Гаккель писал сей обзор десяти рихтеровских фестивалей в 1990 году – Т.Г.-Г.) какое-то живительное напряжение…
В камерном ансамбле мы наблюдаем музицирование, в котором никто не играет за чужой счет, мы наблюдаем способность умолкнуть и дать место другому, наблюдаем некое просветление. Это и есть существование в некоем музыкальном доме.
Я бы сказал, что нигде и никогда качество слушания не было лучше, чем на Декабрьских вечерах”.
Сказано удивительно проникновенно и точно. Страстная творческая стезя Рихтера–камерное музицирование, его великое прирожденное искусство БЫТЬ ПАРТНЕРОМ В АНСАМБЛЕ, в котором он не имеет себе равных, но где он всегда готов принять в свой “круг” аристократов музыкального духа молодых поколений, чтобы окунуть их в свой глубочайший творческий максимализм и неистовство любви к утонченно-высокому и беспредельному, как сама жизнь, воплащенная в музыке и живописи всех эпох, - не это ли единственная в своем роде суть Декабрьских вечеров?!
A постоянными партнерамии единомышленниками Рихтера в программах фестиваля, имевшего такие яркие тематические символы, как “Мир романтизма”, “Век Моцарта”, “Чайковский и Левитан”, “Ансамбли, сотворчество, содружество, гармония”, “Звездный час”, стали такие прославленные ныне музыканты, как Наталия Гутман, Юрий Башмет, Олег Каган (преждевременно ушедший), Элисо Вирсаладзе, Гидон Кремер, квартет Бородина и многие другие, в том числе и западноевропейские и американские исполнители.
Врезался в память своей художественной мощью фестиваль 83-го года, имевший название “Образы Англии. Тадиция и фантазии”. Не только чудом портретной живописи, густо заполнившей стены Белого зала, но редкой, неведомой музыкой, которую Рихтер всегда счастлив открыть своим слушателям, а – главное – колдовским представлением оперы Бриттена “Поворот винта”, поставленной режиссером… Святославом Рихтером.
Здесь пианист искал и находил родственные скрещения музыки, живописи, актерского представления и самого зрительно-конструктивного образа оперы. Именно в Декабрьских вечерах осуществлялось его невоплощенное режиссерское призвание, когда он каждый раз искал и находил особенную тему, особый ракурс концертов, интересных для возможностей музея, сам разрабатывал сценарий, выстраивал мизансцены и обдумывал интерьер, участвуя в развешивании картин и т.д. А основное, он находил “главный тон”, “главную интонацию” каждого фестиваля, призванного погрузить слушателей в новый и бесконечный мир музыкально-художественных ассоциаций и впечатлений.
- Есть особое настроение, сопутствующее концерту в музее, - Говорит Святослав Теофилович. – В величественном интерьере зала, среди творений Микеланджело, Вероккьо, Донателло слушатели, как мне кажется, необычайно чутки к музыке.
Мне вспоминается один эпизод, связанный с Декабрьскими вечерами 84-го года, имевшими девиз “Мастера ХХ века”. Их кульминацией стало фортепианное трио Дмитрия Шостаковича в исполнении бесподобного ансамбля: Святослав Рихтер, Олег Каган, Наталия Гутман. Изумительная, глубокая, смелая интерпретация!
- В чем секрет подобного нового, нетрадиционного интонирования этого сочинения? – cпросила я Святослава Теофиловича.
- Какой же тут секрет? Какая тут нетрадиционность? Точное исполнение текста – вот и все. Слава Богу, написано Шостаковичем. Что же там еще можно прибавить? Но!.. (пианист сделал интригующую паузу. – Т.Г.-Г.) НУЖНО ЧЕСТНО ПРОЧУВСТВОВАТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ.
7
В этих словах – “его все озаряющее присутствие“, - воплощение скромного творческого гения Человека в обличье Музыканта.
“Святослав Рихтер стал для своего поколения больше, нежели знаменитый артист, - пишет Вера Горностаева. – В быту, как и в искусстве, он тоже сотворил свое особенное “рихтеровское пространство”. Духовное поле, куда не проникает низменное, плоское, одномерное… Могучий облик излучает и притягивает. Любой человек видит: перед ним легенда. Живая, радующая нас своим необычайным существованием и остающаяся навсегда! Легенда”.

Бруно Монсенжон.
Рихтер. Диалоги. Дневники.
М.:Классика, 2002, 480 с.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dzmcYxDLNts

Святослав Рихтер.
О музыке.
Творческие дневники.
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.
Отдел музыкальной культуры.
Москва. "Памятники исторической мысли". 2007.

Я.Мильштейн.
Вопросы теории и истории исполнительства.
Сборник статей. М.: Сов.композитор 1983 г., 266 с.
Автобиографические признания.
Я.И.Мильштейн
Статьи. Воспоминания. Материалы
Москва, «Советский композитор», 1990, 288 с.
Мильштейн Я.И.
Из старых записных книжек
1940-е – 1950-е
* * *
О Рихтере: он не ищет, во что бы то ни стало, красивого, он ищет живого. Каждая деталь, каждая нота словно принесена в жертву общему построению, целому: все движется, перемещается, расчленяется, следуя необходимости могущественного ритма. Это артист тройного размаха; у него все слито в одно целое, согрето одним порывом.
1959
* * *
Изумительное исполнение Рихтером Второго концерта Рахманинова, исполнение самобытное, цельное, глубокое по содержанию, вызывает у многих осуждение. Честно говоря, я отказываюсь понимать людей. Что это: ограниченность или нежелание расстаться со штампами и шаблонами? Лишний раз убеждаюсь з том, что о каждом исполнении (конечно, значительном), как н каждом художественном произведении, надо судить исходя из его собственных норм. Нельзя исходить при оценке из своего личного вкуса или из соответствия данного явления каким-то априорным правилам и канонам. Для полного понимания того, что артистом сделано, необходимо знать, что он хотел сделать.
* * *
Вальс Равеля, по словам Рихтера, это своего рода Луна-парк, калейдоскоп увеселений.
* * *
Рихтер, которому я аккомпанировал Второй концерт Бартока (головоломный концерт!), сказал о второй части: «Это космос и... вакханалия». «Это Гойя»,– добавил бы еще я.
1961
* * *
Одна из примечательных черт Рихтера – его стремление каждый раз браться за что-либо новое. Он не любит однообразия, жаден до всего неизведанного, любит эксперименты.
В каждом из исполняемых произведений Рихтер стилистически иной. И, несмотря на это, он всегда остается самим собой. Он всегда играет в одной, лишь ему свойственной тональности.
* * *
Черты бледной немочи проглядывают в исполнении большинства молодых пианистов. Не понимаю в чем дело? Куда девалась та избыточная сила и титаническое здоровье, которым обладал годы молодости, скажем, Рихтер. О творческом выражении вообще не может быть и речи; его нет и в помине.
* * *
Рихтер мне говорил, что из всех сонат Прокофьева он особенно ценит 8-ю сонату. По его мнению – это самая значительная соната. «Еще, конечно, есть 2-я соната,– очень люблю ее, – но она еще слишком юношеская; а вот 4-я – может соперничать с 8-й». Когда мы коснулись содержания 8-й сонаты, Рихтер сказал: «Я представляю себе первую часть сонаты как раскрытие личного мира композитора; это его Я, его субъективное отношение к жизни; вторая часть – реминисценция прошлого, XVIII век; третья часть – это будущее, в ней есть что-то космическое».
1962
* * *
Недавно я разговаривал со Славой Рихтером о Мюнше: он с ним играл. «Спокойный, степенный дирижер, и совсем не позер»,– сказал он мне. А в моей памяти Мюнш остался как дирижер стальной воли, темпераментный и яркий.
1963
* * *
Рихтер не любит повторять самого себя; для него – повторение означает смерть, творческую гибель.
Иногда он играет произведения, в которых как будто нельзя открыть ничего нового, и все же он открывает это новое.
* * *
Рихтеру присуща глубокая внутренняя сосредоточенность, какая-то своя особая «тишина», которая уживается с ярким темпераментом и напором.
Он сдержан, но не равнодушен. Он не стремится формировать эмоции, а скорее играет с подтекстом.
* * *
У Рихтера – постоянное стремление к непривычному, эмоционально сдержанному лиризму.
1964
* * *
Есть грусть расслабляющая и безнадежная, но есть и светлая, мужественная. Именно такая грусть у Рихтера, когда он играет Брамса.
* * *
Сколько раз приходилось мне слышать 18-ю сонату Бетховена у Рихтера. И всегда я восхищался образностью и колоритом отдельных частей, их четкостью, их взаимной связью и их удивительной легкостью. Они каждый раз пленяют и каждый раз по-новому.
* * *
В Сонате Шуберта H-dur (кстати, я впервые ее слушал в концерте) не было никаких неожиданностей. Действие не спеша развертывалось, контрасты легко перемежались друг с другом, и это производило больше впечатления, чем любые бурные эффекты.
* * *
Интермеццо es-moll Брамса в исполнении Рихтера. Точность и выразительность интонаций ставят эту пьесу выше всего, что было сыграно им из Брамса (исключая, конечно, Рапсодию Es-dur).
* * *
Почему теперь не очень жалуют Листа? Да потому, что плохо играют. Рихтер высказался даже так, что Листа губят пианисты.
* * *
Такое исполнение, которое дает нам Рихтер, требует всего человека без остатка. Оно основано на максимуме напряженка душевных сил. Оно никогда не бывает безразличным, равнодушным. Рихтер играет много. Но он никогда не теряет способность видеть и слышать исполняемое своими глазами и ушами, в индивидуальной окраске. Он всегда живой, своеобразный. Во всем у него чувствуется неповторимая личность музыканта художника. Ничто не притупляет его восприимчивость и не тормозит его воображение.
* * *
Пример Рихтера достаточно ясно показывает, что для того, чтобы воссоздать произведение, необходимы не только обширные знания и навыки, но и полет воображения, интуитивное проникновение в мир исполняемого.
* * *
Было время, когда все исполнения Рихтера были своего рода упражнениями, - пианист учился на них своему ремеслу. Все шло ему на пользу, обогащало его ценнейшим опытом. Он был истинно щедрым по отношению к другим, не боялся растрачивать свои силы. Он не ждал того момента, пока не овладеет в совершенстве своим искусством, а, напротив, достигал этого совершенства в процессе исполнения на эстраде.
* * *
Исполнение Рихтера может быть менее удачным, менее ровным. Но в нем всегда есть единая сквозная линия, направляющая интерес слушателей.
* * *
В игре Рихтера все больше сказывается забота о гармонии линий и соразмерности частей, о красоте отделки и об изяществе граней. Грандиозное сочетается все более и более органично с изысканным, могучая сила – с тончайшей нюансировкой.
* * *
Мысль, понравившаяся мне и, как мне кажется, передающая отношение Рихтера к искусству: «Художник не должен сам объяснять свое творчество; его дело – общаться с людьми с помощью своего искусства; а настоящее искусство не нуждается в целом штате «переводчиков», расшифровывающих намерения художника; да и он сам, выступающий в роли комментатора собственного творчества, выглядит несколько нелепо». Это не значит, что следует ограничить работу искусствоведов, исследующих труд художника. Работа их нужна, но ее следует вести в определенном направлении. Никогда нельзя забывать, что все чаяния, помыслы, замыслы художника – в его трудах, и нигде больше.
* * *
У Рихтера бывают дни, когда он, по его собственному приданию, ничего не может делать за инструментом. Это те самые жестокие минуты, «когда нить обрывается и кажется, будто вся катушка размоталась» (Флобер).
* * *
В самые трудные дни войны Рихтер продолжал работать, не теряя ни минуты, и с поразительным рвением пополнял свой репертуар.
* * *
То, что естественно для Рихтера, то неестественно для других. И ему подражать крайне опасно. Можно впасть в преувеличения и превратиться в карикатуру.
* * *
В игре Рихтера нет помпезности и напыщенности. Нет и жеманничанья. Все строго обосновано, направлено к одной цели. И все очень взаимосвязано. В сущности, нет ни одного изолированного случайного действия.
* * *
Как человек Рихтер удивительно благороден. Он не стремится к эгоистической выгоде. Ему чужды зависть, глупое высокомерие, тем паче подлость. Никогда и ни в чем не поступается он своей совестью – совестью художника. Он весь в своем искусстве.
* * *
Рихтер любит путешествовать, ходить пешком. Страсть к перемене мест возникла у него еще в юности. И она не прошла с годами.
* * *
Не все сразу давалось Рихтеру. Бывали моменты, когда он с трудом овладевал произведением. Замыслы стесняли его, форма не подчинялась ему. Стиль оказывался чуждым. Но он никогда не впадал в уныние, никогда не бросал начатого на полдороге, не принимался за более легкие вещи.
* * *
Рихтеру свойствен широкий орлиный полет и вместе с те лиризм. Иногда деталь отмечается им с такой же силой, как значительный эпизод.
* * *
Рихтер рано осознал, как надо играть. Но научился он играть как надо значительно позже.
* * *
Нельзя сказать, чтобы Рихтер вел жизнь суровую, аскетичную, лишенную всякой внешней радости. Но он работал с невероятным упорством. По временам, когда, проиграв 6–8 часов подряд, он чувствовал себя опустошенным, когда он убеждался в невозможности достичь желаемого, он бросал все и шел бродить.
* * *
Снова о Рихтере. Он очень решительный человек. Его никто не сможет убедить делать то, чего ему не хотелось бы делать.
* * *
Рихтер на редкость аккуратен, а в своей работе даже педантичен. Он всегда точно знает, где у него что находится.
* * *
Любовь к природе – в крови у Рихтера. Природа его словно освежает, делает все естественным. Вот почему так любит он длительные пешеходные прогулки...
* * *
С именем Рихтера связана в пианистическом искусстве та линия, которая была начата Листом, продолжена Бузони – это линия преодоления «фортепианности», линия создания оркестрового колорита. Небывалого развития достигает у Рихтера в связи с этим прием звуковой перспективы, умение варьировать тембровую окраску звука, искусство владения педальной нюансировкой. Убедительным примером могут служить хотя бы Прелюдии Дебюсси (2-я тетрадь), исполненные в концерте 26 мая с поистине поразительным мастерством. Вот где столкнулись мы с тончайшими звуковыми градациями и почти неуловимыми педальными эффектами (вспомним нежно вибрирующие нити трелей в прелюдии «Феи – прелестные танцовщицы», или мягкие трезвучия, окутанные прозрачной сеткой мелких нот в «Туманах», или легчайшую звучность «чередующихся терций»). Казалось, все помогало Рихтеру воссоздать на фортепиано самые зыбкие, «уловимые звуковые эффекты.
Далее, с именем Рихтера связана линия образности в пианистическом искусстве. Когда играет Рихтер, почти зримо представляешь себе исполняемое. Причем ему в равной степени удаются самые разные образы – будь то пейзажи («Туманы», «Вереск»), гли образы, рожденные фантастикой («Ундина», «Феи – прелестные танцовщицы»), или образы экзотические (вроде «Ворот Альгамбры»), или образы в духе музыкального портрета (вспомним поразительное по выпуклости и «зримости» исполнение прелюдии «В честь С. Пиквика, эсквайра»). Все оживает под руками Рихтера – и легкое волнение водной глади, и стихийные порывы ветра, и яркий свет солнечного дня, и меркнущая атмосфера гредвечернего часа. А сколь необычно его исполнение «Фейерверка» – образ празднества, основанный на контрастных чередованиях и комбинировании различных приемов...
С именем Рихтера связано также особое умение внезапно переходить от бушующего fortissimo к легчайшему pianissimo, основанному на гибкости и ласковости туше, на мягком скользящем прикосновении к клавишам.
С именем Рихтера еще связана решительная борьба со всяко:го рода художественными и пианистическими штампами, с эстрадно-виртуозными стандартами.
Рихтеру свойственна вместе с тем ясность художественного мышления. Никакой недоговоренности. Никакой расплывчатости. Постоянное стремление к строгой симметрии, к упорядоченности, к стройности и четкости замыслов, равно как и средств их воплощения, законченность архитектонических конструкций.
Рихтеру присуще также особое умение подходить к кульминации и развертывать ее – последовательно доходя до ее эпицентра.
* * *
После концерта Рихтера в Большом зале (когда исполнялись Прелюдии Дебюсси) один музыкант сказал: «Странные вещи происходят на свете. Титаны делают успехи». И это действительно так. Человек, достигший, казалось бы, самых высоких вершин, пошел еще дальше в своем невероятном искусстве.
* * *
С каждым годом проникаешься все более глубоким уважением к сверхчеловеческому труду Рихтера.
* * *
Художественная сила Рихтера исключительна. Почти в каждой его интерпретации имеется нечто такое, что способно привлечь к себе восхищенное внимание слушателя.
Как превосходно, например, его исполнение 12 прелюдий Дебюсси. Все здесь поражает. Не будет преувеличением сказать, что это находится на самом пределе возможного и достижимого.
Или как, например, не признать великолепным исполнение Сонаты d-moll Вебера, показывающее всю прелесть этой, казалось бы, устаревшей музыки. Здесь Рихтер проявляет качества поистине удивительные. Мощь его художественного воображения кажется безграничной.
Хотелось бы также упомянуть о том, как исполняет он Новелетты Шумана, Баркаролу Шопена или Сонату h-moll Листа.
Чудесны и мелочи в исполнении Рихтера.
Исполнительская манера его единственна в своем роде. Он никогда никого не копирует. И всегда остается верным самому себе.
У Рихтера есть еще одно редкое артистическое свойство: умение убеждать. В его исполнении подчас может быть немало спорного. Но он настолько ясно слышит и видит, разрабатывая самые сокровенные пласты музыки, настолько проникается исполняемым, что слушатель невольно подчиняется его интерпретации. Можно спорить, например, о его трактовке Моцарта, считать ее излишне стилизованной, или, напротив, излишне свободной. Но нельзя не восхищаться логичностью его замыслов. Нельзя не любоваться тем мастерством, с которым воплощены эти замыслы.
* * *
Ни в одном из майских концертов Рихтера я не почувствовал натянутости, вымученной игры (которую, увы, теперь слышишь от многих на эстраде). Поразили меня особая легкость, свобода во всем. Были вещи – например, Прелюдии Дебюсси, концерты Бартока и Прокофьева, о которых можно только сказать одно: трудно представить себе, чтобы можно было сыграть их лучше.
* * *
Моцарт у Рихтера особенный. Он не всем нравится. Иные найдут его несколько выровненным, сухим, академичным. Для меня же он – на редкость естественный, сдержанный и отточенный. Никаких попыток удивить слушателя оригинальностью, необычным подходом к тексту. Никакой «цветистости» в нюансировке. Только самое необходимое, нужное и всегда на нужном месте. Над всем господствует строгий превосходный вкус. Отсюда – сила и стройность интерпретации, направленной больше вглубь, чем во вне. Попробуйте что-либо изменить в плане Рихтера, заменить одни динамические нюансы другими, модифицировать некоторые темпы. Из этого ничего не выйдет. Вы обнаружите, что в данном истолковании – это наиболее логичные вещи, быть может, даже единственно возможные. Это – безупречная интерпретация.
В таком духе был исполнен Концерт Es-dur № 22, с превосходными, удивительно свежими каденциями Бриттена.
Некоторые, восхищаясь поразительной ясностью рихтеровского Моцарта, его естественностью, отсутствием аффектации, наконец, лаконичностью средств выражения, говорят, что все же иногда чувствуешь, что внимание твое отвлекается, исполнение, де, не будит воображения, не вдохновляет. Да, так бывает, но только у тех, кто не удерживает самое содержание музыки, кто далек от этого содержания. Меня же рихтеровский Моцарт пленяет именно тем, что он преподносит нам музыку Моцарта, так сказать, в ее первозданном виде.
* * *
В исполнении Рихтером Сонаты Es-dur Гайдна пленяет какая-то весенняя радость, легкость, жизнерадостная непосредственность. Многие играли эту сонату, но редко кто приближался к подобному характеру. Все здесь у Рихтера овеяно свежим воздухом, жизнью, все проникнуто разнообразием.
* * *
Рихтер играет без всяких ухищрений, в возможно более неприкрашенной манере.
Он постоянно стремится к максимальному совершенству.
* * *
Рихтер как никто умеет быть ясным. Он мыслит на редкость логично, просто. Его намерения нельзя не понять. Самые тонкие оттенки мысли и чувства он выражает совершенно ясно. Можно не уловить всех разветвлений его фантазии, но значение его направляющих мыслей поймет каждый образованный музыкант.
Он всегда уверен в том, что он хочет сказать. И он умеет найти точное выражение для своих замыслов. Бывают артисты – нечего греха таить – у которых порой в игре доминируют смутные, а то и мутные представления. У Рихтера этого никогда не бывает. Он мыслит четко, без вывертов и ненужных ухищрений. Ясность – первое достоинство его искусства.
Иногда не замечают того, сколь изящно, благородно и сдержанно излагает Рихтер в Шопене свои мысли. Никаких затейливых узоров, никакой цветистости и выспренности. Кое-что. быть может, даже излишне прямолинейно, жестко по чувству, но зато без всяких излишеств – стройно, четко, благородно.
* * *
Прелюдии Дебюсси: поражает сочетание ясности и колорита. Рихтер достигает редкого по красоте колорита звучания, и вместе с тем он никогда не поступается ясностью выражения, ясностью мысли. Как-то он в разговоре заметил, что нет ничего хуже, как играть Дебюсси неясно. И эти слова невольно вспоминались к время его исполнения прелюдий. Были фразы, которые словно завораживали своей красочной томной неторопливостью. Была пассажи, которые набегали словно волны на отлогий берег. Были фазы настолько тонкие, что они вызывали потребность какого-то резкого контраста. Были мощные звучания, словно рождавшиеся из глубины рояля. Но во всем чувствовалась предельная ясность и органичность мышления. Рихтер счастливо избежал нарочитых приемов, механичности, неоправданных эффектов. Каждый хороший пианист знает, сколь трудно бывает уловить момент, когда отобранные средства начинают давать нужный эффект, единственно возможный.
* * *
Что значит играть совершенно? Это значит играть ясно, просто, хорошо по звучанию и живо. Если отсутствует хотя бы один из перечисленных мной признаков, то игра не будет совершенной.
* * *
Легкость в игре – великое качество. И не важно, как оно достигается – сразу ли или ценой огромного труда. Важно лишь, чтобы оно было.
* * *
Моцарт Рихтера весьма далек от стилизации. Рихтер играет его с оглядкой в прошлое, но в манере своего времени.
* * *
Исполнение Рихтером Второго концерта Бартока 14 – шедевр в полном смысле слова. Рихтер играл его не просто ярко, энергично, совершенно; он играл его предельно образно и выразительно. Местами его исполнение было полно жизни и силы, местами было стихийно, местами оно было трагичным, полным глубины и прозрения. Мощь, вдохновение, стройность, величие, наконец, безупречный вкус – все соединилось здесь в одно неразрывное целое.
* * *
Чтобы добиться подобного совершенства, нужна была строжайшая дисциплина.
* * *
Искусство Рихтера – упорядоченное искусство.
* * *
Попытки играть так, как играли в далеком прошлом, могут привести только к искусственности.
* * *
Сейчас, как никогда прежде, стала ясна еще одна черта искусства Рихтера – его необыкновенное благородство. Фразировка Рихтера всегда точна и верна, нюансы продуманы до конца. Все – так или иначе – порождено внутренним слышанием. Сила выражения соответствует силе чувствования.
* * *
О Рихтере: в ту пору у него вряд ли был распорядок жизни 15. Его настроения были слишком изменчивы, желания слишком многообразны. Он хотел воссоздавать лишь самое значительное, самое важное. И когда у него не хватало на это душевных сил, то предпочитал молчать. Его талант то накатывался мощным валом, то оставался спокойным. Порой, казалось, он бывал бездеятелен и опустошен. Но так только казалось. Шла скрытая работа мысли и чувств и шла до тех пор, пока мощная мысль не пробивала себе дорогу. Река выходила из берегов. И тогда концерты следовали один за другим.
* * *
Лист был новатором, но он никогда не был одержим новаторством. Ему было чуждо презрение к предшественникам. Наоборот, он лишь мечтал о том, чтобы приблизиться к ним.
1981
Рихтер
Его исполнение интонационно содержательно. Он не просто играет, а интонирует звуки. Это свойство всегда было редким у пианистов, а сейчас оно на вес золота. Мы никогда не столкнемся у Рихтера с интонационно серой, безликой формой исполнения.
Отсюда и особый подход его к ритму. Это тоже теперь услышишь не часто. Налицо органические отступления от метроритма при неукоснительном соблюдении его основ. Не мертвый ритм, а живой. Свобода, основанная на необходимости. Рихтеру предельно чужд косный, закостенелый метрономичный ритм. В неменьшей степени далек он от ритмического произвола, расхлябанности. Налицо инстинктивная ритмическая свобода, живое чувство ритма, властное и вместе с тем нисколько не навязчивое исполнение.
В сонате Шостаковича 16 особенно сказывался этот речевой подход к интонации и ритму.
Удивительное понимание и сопереживание ее интонационного смысла, разнообразие интонаций.
Удивительная свобода ритмического дыхания; непринужденная, естественная, речевая выразительность. Свободно дышащие цезуры и «говорящая» интонация.
Далее, игра многоплановая, игра в различных звуковых планах – разновременно (последовательное сопоставление планов) и одновременно (как картина с глубоким фоном, не плоскостная, а объемная, не моно фоничная, а стереофоничная).
И наряду с этим – у Рихтера, как мало у кого, закономерно раскрывается, развивается основное зерно, образ произведения.
Затем, игра предельно ясная. Ничего эскизного, туманного, неопределенного. Вся фактура слышима, реально ощутима – и первый, и второй, и третий планы очерчены с безупречной точностью.
Огромную роль во всем играет педаль. Рихтер пользуется ею с предельным совершенством и обильно. Он применяет ее не только там, где она гармонически необходима, и не только для специальных колористических эффектов, но и для обогащения звучания; звучность у него словно окутана, она никогда не бывает раздетой.
Безграничные интонационные, ритмические, колористические возможности!
* * *
Существуют мемуары «Время и люди». Почему бы не написать мемуары «Места и люди». Так, кстати, собирается сделать Рихтер, если ему придется заняться воспоминаниями.
Я.И.МИЛЬШТЕЙН
ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКОВ
(1945-1981)
1947
* * *
17 октября
Концерт С. Рихтера. В программе Соната D-dur Шуберта, «Лесной царь» Шуберта – Листа, Полонез E-dur, этюды Des-dur, Gnomenreigen, Ноктюрны №2 и №3, три забытых вальса, «Мефисто-вальс» (все Лист). Переполненный зал, повышенный тонус слушателей. Пришел на концерт раньше обычного: публику в зал не пускали. Из ложи, куда пробрался, наблюдал интересную сцену. Слава вышел на эстраду, сел за рояль, много раз пробовал, удобна ли ему высота сидения, как-то весь расправлялся, не издав ни одного звука, ушел в артистическую. Очень мудpo! Важно чувствовать, как сядешь за инструмент.
Сонату Шуберта играл восхитительно и предельно совершенно. Словно запахло свежим лугом и цветами. Во второй части – множество красок, теплота и поразительная пластичность, соната слушалась от начала до конца с неослабеваемым интересом. «Лесной царь» был сыгран превосходно по замыслу, к сожалению, из-за слишком скорого темпа (впрочем, темп именно таким должен быть) некоторые детали пропадали. Во втором отделении лучше всего были исполнены забытые вальсы, полные истинной грации и поэзии; Gnomenreigen был бы хорош, если бы не чересчур скорый темп (значительно больше, чем у Рахманинова) и не выстукивание басов в среднем эпизоде (как сказал Слава после в артистической – это следствие тугой клавиатуры); ноктюрны были сыграны хорошо, но без шарма; Полонез местами был великолепен (особенно – каденции и речитативы) в целом грандиозен по размаху, но в нем Слава слишком «рвал и метал»,– из-за чего была звуковая резкость. Этюд Des-dur определенно не удался; в «Мефисто» отсутствовал Мефистофель, и вообще куда-то исчезла сладострастная романтика (зато удивителен был размах и пианистический масштаб исполнения. На «бис» превосходно были сыграны Этюд es-moll op. 33 Рахманинова и «Ундина» Дебюсси. В первом – картина ветра, распахнувшего окно, ворвавшегося в комнату, освежившего атмосферу и столь же быстро улетевшего; во втором – зыбкие, чудесная звучания.
В общем концерт оставил сильнейшее впечатление. Несомненно, что у нас, а может быть, и во всем мире не найдется пианиста, равного по масштабу дарования Славе. Это какой-то дьявол, с универсальной техникой и с не менее универсальной головой. Слушать его – поистине великое наслаждение.
После концерта был у него в артистической. Он поразительно верно чувствует, что ему удалось, а что – нет. «Плохо, что я во втором отделении устал; это никуда не годится»,– так сказал он мне. Вот и выходит, что Листа играть гораздо труднее, чем многих других авторов; требуется огромная воля, пианистическая свобода, точность и т. п.
1948
* * *
12 марта
Концерт Рихтера. Это четвертый, который я слушал в этом году. И, несомненно, самый удачный. Подлинный музыкальный праздник. Н. 16 неправ: Рихтер не только диковинка, но и драгоценность. В первом концерте он играл Сонату D-dur Шуберта, «Лесного царя» Шуберта – Листа и ряд произведений Листа (Полонез E-dur, Этюд Des-dur, Хоровод гномов, Ноктюрн № 3, Три забытых вальса, «Мефисто-вальс», на bis – «Ундина» Дебюсси и др.); об этом концерте я писал рецензию, столь не удачно сокращенную в «Советском искусстве». Во втором концерте он повторял сонату Шуберта и играл произведения Прокофьева (6-ю сонату, «Мимолетности» и другие пьесы). В третьем – играл Сонату d-moll Вебера и Листа («Похороны», «Кипарисы виллы д’Эсте», Этюд Des-dur, «Хоровод гномов», три Забытых вальса, «Мефисто-вальс» и на bis – восхитительно! – «Блуждающие огни»). В четвертом – Сонату G-dur op. 78 Шуберта и произведения Листа («Лесной царь», «Обручение», «Кипарисы виллы д’Эсте», Сонет № 123, «На берегу ручья», «Долина Обермана», «Венеция и Неаполь»), На bis играл прелюдии Дебюсси («Холмы Анакапри», «Ворота Альгамбры», «Канопа»). В артистической – Пастернак и Нейгауз. Расцеловался с последним (в знак восхищения игрой Рихтера).
* * *
17 апреля
Репетиция, творческий кружок, концерт Г.Нейгауза. Концерт удачный, особенно хороши были «Фантазия» Шумана и мелочи Шопена. После концерта, в артистической – интересный эпизод с Пастернаком. Он пришел поздравить Нейгауза и, буквально крича, сказал следующее: «Это было замечательно. Не было никого, ни света, ни звезд. Ничто не мешало. Была только музыка и ты, ты и музыка... На тебя можно поставить, как на беговую лошадь...». После концерта до Курского вокзала ехалн вместе с Рихтером, Дорлиак, Заком и его женой. Любопытный разговор о Шумане. Рихтер восхвалял «Венский карнавал».
* * *
31 октября
Женя больна. Впервые иду на концерт Святослава Рихтера один. Это – начальный концерт цикла «48 прелюдий и фуг Баха». Малый зал переполнен. Сижу, как обычно, в последнем ряду на своем излюбленном месте. Первое отделение Рихтер играет несколько вяло; видимо, он робеет и скован мыслью о грандиозности поставленной задачи. Порядок исполнения необычен. Рихтер играет фуги не в хроматической последовательности, то есть не так, как они расположены в сборнике, а спускаясь от исходного C-dur – c-moll на большую терцию. Стало быть: C-dur – c-moll, As-dur – gis-moll, E-dur – e-moll, после чего перерыв. Затем: F-dur – f-moll, Cis-dur – cis-moll, A-dur – a-moll.
В антракте, по просьбе Нины Дорлиак, захожу в артистическую. Действительно, Слава, как никогда, взволнован. Успокаиваю его, как могу. Второе отделение он играет несравненно лучше. Некоторые прелюдии и фуги (например, f-moll, Cis-dur, A-dur) сыграны превосходно. На bis исполняются Багатели (F-dur и C-dur из ор. 33) Бетховена, которые большая часть публики не узнаёт (а публика в основном состоит из профессионалов), и а-moll’ная (отдельная) фуга Баха. И то и другое – на очень высоком уровне.
* * *
14 ноября
Вчера, на втором концерте Баховского цикла условился со Славой о встрече. Ровно в 1 ч. 30 м. я уже был у него. Сразу же начали беседу.
...«Удача или неудача зависит не только от работы. Вчера, например, h-moll’ная багатель мне удалась в концерте, пожалуй, лучше всего, а учил я ее всего один день. Es-dur’нaя же фуга, которую я учил долго, не вышла так, как мне хотелось» 21.
1949
* * *
21 апреля
Концерт С. Рихтера. Шопен и Скрябин22. Перед началом концерта неожиданное знакомство с Пастернаком. Он подошел ко мне, протянул руку.
«Я Вас знаю. Я слышал, как Вы говорили на вечере памяти Игумнова. Хорошо говорили...» В ответ я сказал: «А я так много, много знаю Вас... столько читал...». «Надо Вас послушать. Я не слыхал еще, как Вы играете...» – сказал он мне. В этот момент его отвлекла какая-то дама, и он отошел от меня. После концерта (изумительно сыграна была Пятая соната Скрябина) отправились в ресторан: Слава и Нина, а также жёны Пастернака и Генриха Густавовича поехали в автомобиле, Пастернак, Генрих Густавович, я и Женя пошли пешком. Шли по улице Станкевича. Пастернак вначале был мрачен, говорил почему-то о «Моцарте и Сальери», говорил очень тонко и умно о противоположности этих образов и о том, как их нужно воплощать на сцене. В ресторане уже застали Славу, Нину и других. Смешно было, когда выбирали еду. Далее разговор о Шопене. Слава сказал, что обожает то-то и то-то (Fis-dur’ный ноктюрн, в частности). На что последовал внушительный ответ Пастернака: «А с-moll’ный ноктюрн это что – дрянь?». Далее все пошло в нарастающем кресчендо. Пастернак говорил без умолку (и понятное, и непонятное); разошлись поздно (вернее, рано утром).
1957
* * *
10 ноября
Был на концерте в Большом зале. Слава Рихтер великолепно играл концерт Чайковского25. Широко, величаво, с огромным мастерством. Пожалуй, в таком исполнении я этот концерт еще не слышал.
* * *
16 ноября
Читал «Поэтику» Аристотеля, занимался, был в издательстве, вечером смотрел «Летят журавли» и слушал авторский концерт Шостаковича (Квартет № 6, Трио, «Еврейские песни»). Каргина произвела на меня сильное впечатление.
Огромное удовольствие получил от Трио Шостаковича (играли автор, Ойстрах и Кнушевицкий) и от «Еврейских песен». Нина Дорлиак пела очаровательно; чудесный она музыкант! На балконе в третьем отделении встретил Славу. Обрадовались друг другу, немного поговорили.
* * *
18 ноября
Возвращался домой вместе со Славой. Он мне рассказал о Китае, обычаях и нравах страны, концертах и т. п. Бродили мы с ним долго, сперва вокруг дома, потом по переулкам. И, наконец, больше часа простояли у нашей парадной двери: все говорили и говорили. Он очень чуткий и очень умный. Вот человек, который исключительно правдив и честен в вопросах искусства. Он не идет ни на какие компромиссы.
* * *
5 декабря
Днем занимался. Смотрел корректурные оттиски. Вечером звонок Нины Дорлиак. Сообщила, что Слава хочет меня повидать. Пришел Слава ко мне совсем поздно: после 10 часов. Очень тревожит его предстоящий концерт (две сонаты Шуберта, Funerailles, три забытых вальса и «Мефисто-вальс» Листа). Жалуется, что у него «не выходит», «не звучит» и т. п.
Играл мне одну из сонат Шуберта (попробовал мой «Стенвей»). «Ну вот,– сказал он,– здесь получается, а дома – никак». Говорили немного о «Мефисто-вальсе». По его словам, самое трудное в этом произведении точно рассчитать свои силы. «В третьей части, перед скачками, я, видимо, допускаю какой-то просчет и прихожу к скачкам уже утомленным».
Славе у нас понравилось. «Хорошо, что нет всяких фотографий; хорошо, что все строго». Пили чай, смотрели последние номера немецкого журнала по искусству, беседовали о литературе. Спорили о «Тихом Доне».
* * *
21 декабря
Вечером был у Рихтера (после концерта М. Гринберг). Беседовали о новой постановке «Войны и мира» Прокофьева 28. По мнению Славы, эта постановка значительно превосходит предыдущие. Особенно нравятся ему первые картины оперы. Хуже, по его словам, идет конец, где купюры портят изрядно оперу и вызывают лишь чувство досады.
1960
* * *
21 мая
После концерта Святослава Рихтера33. Изумительная Appassionata. Да и вообще весь концерт на редкость сильный и яркий. Но сам его «виновник» остался недоволен. Он закрылся в артистической и просил никого к нему не пускать. Я всё же проник туда: разговаривал со Славой. Кроме меня были Диза 34, Моисей Гринберг и кто-то еще. На мое замечание, что Appassionata удивительно была сыграна (пожалуй, я еще не слыхал в жизни такого исполнения), Слава ответил, что не всё ему удалось: «Гораздо лучше была Соната D-dur (а она мне понравилась меньше). Затем разговор (быстрый и отрывочный) перешел на другие темы,– всё это под непрекращающийся гул аплодисментов, на которые Славе приходилось выходить. «Ну вот,– сказал он мне,– мы и увиделись после концерта в обстановке нормальной; нет этого бесконечного количества посетителей... Сейчас я удеру, чтобы никого не видеть». И он быстро оделся и ушел. Буквально через какие-нибудь 20–30 секунд в дверь резко постучали и вошел Белоцерковский и за ним... Исаак Стерн с какой-то женщиной (возможно, супругой) и со своим пианистом. «Где Рихтер?» – грозно спросил Белоцерковский. «Уехал»,– ответила Диза. Произошло небольшое замешательство, затем Белоцерковский сказал Стерну: «Как это будет по-американски – „смылся“... Мне стало почему-то неловко, и я быстро ушел из артистической, хотя потом и жалел об этом: вероятно, можно было бы поговорить со Стерном. Кстати, он жаловался (Гринбергу) на усталость от концертов: «Все время хочу спать». И зачем только заставляют исполнителей (да еще таких крупных) работать на износ!
* * *
1962
29 ноября
Вдохновенный концерт Рихтера41. Особенно хороши «Фантазия» Шуберта, этюды Шопена (10-й и 12-й), «Вечер в Гренаде» а «Сады под дождем» Дебюсси.
1963
* * *
12 января
Был у Рихтера. Беседовали с ним много и интересно. Он недавно вернулся из Парижа, где дал несколько концертов. Вот что он мне рассказал, перемежая свои рассказы расспросами о московской жизни.
— В Париже слушал «Пеллеаса и Мелизанду» (в Комической опере). Отдельные эпизоды выпадают из стиля. А в исполнении все должно быть стильно.
— К сожалению, мало, очень мало слышал пианистов. Не хватает времени. Знаю их больше по пластинкам.
— В последнем концерте играл Прокофьева (6-ю сонату), Хиндемита (1-ю сонату) и Шостаковича (прелюдии и фуги). Шостаковича принимали великолепно. Долго я учил их, но все же выучил (чтобы каждый голос был слышен).
* * *
20 января
Весь вечер провел у Рихтера. Были еще Виленкин, Анна Ивановна Трояновская... Много разговаривали, слушали музыку (в записи). Самое интересное, конечно,– это последняя запись Славы с Караяном (Концерт b-moll Чайковского). Настоящая симфония, причем совсем новая. Вот что значит отход от штампов, приевшегося стандарта. Слушая этот концерт, я все время испытывал ощущение: наконец-то все стало на свое место, темпы нормальные, ясно, просто и в то же время артистично, значительно, веско. Не сомневаюсь, что запись будет иметь большой резонанс.
* * *
20 марта
День рождения Рихтера. Вечером был у него в гостях. Много народу – знакомого и незнакомого, много музыкантов (Нейгауз другие). Поздно, вероятно, в одиннадцатом часу приехали Бриттен, Пирс и с ними какая-то дама. Вели они себя совсем просто. После недолгих просьб они стали музицировать (Пирс пел, Бриттен аккомпанировал) – исполнили песни Шуберта (из «Зимнего пути» и еще несколько отдельных песен), одну песню Бриттена (на слова Харди) и одну народную песню. Удовольствие огромное, я бы сказал, редкое.
1964
* * *
5 декабря
Сегодня получил письмо-открытку от Рихтера. Не скрою – было очень приятно. Глубоко чту и уважаю этого человека.
Одновременно с письмом прочел заметку в «Известиях» о «необыкновенном концерте» Рихтера в Париже (переполненный зал Grand opera, Концерт Грига, дирижер Лорин Маазель). Вспомнил исполнение этого концерта совсем недавно в Москве. Слова парижского критика справедливы: «То, что сделал Рихтер из Концерта Грига, уникально и едва ли повторимо. Невозможно рассказать содержание этого Концерта, исполненного Рихтером. Это надо было пережить».
* * *
24 декабря
Изумительный концерт Рихтера в Большом зале44. Особенно запомнились пьесы Брамса (Рапсодии g-moll и Es-dur, Интермеццо ор. 119), Равеля («Ночные бабочки», «Печальные птицы»), Дебюсси (Бергамасская сюита), этюды-картины (fis-moll и D-dur) Рахманинова, 2-я соната Прокофьева (с поразительными второй, третьей и четвертой частями). Рихтер играл, быть может, излишне нервно, но зато в отношении концепции и красочности – совершенно гениально (не боюсь сказать этого слова). Что больше всего меня поражает в его игре? Торжество мысли, стройность (архитектурная) замысла, величавость и разнообразие колорита (звуковая перспектива). Сочетание размаха и возвышенности, темперамента и мысли. Отсутствие мелочного. Верность самому себе. Исполнитель твердой воли. Начинаешь понимать, что значит фортепианная игра и что способно дать исполнение. Никакой рисовки (если исключить внешние проявления чувств,– они не без преувеличения!). Удивительное умение инструментовать пальцами.
* * *
28 декабря
Концерт Рихтера. На этот раз Бетховен (Сонаты Es-dur, op. 31, g-moll, G-dur op. 49, e-moll, op. 90, As-dur, op. 110). В клубе под названием «Красная звезда». Великолепное исполнение Сонаты ор. 110. Плохой рояль, и все же хорошее звучание. После концерта – возвращение домой вместе с Рихтером. Разговор в машине.
* * *
30 декабря
Концерт Рихтера в Большом зале45. «Отражения» Равеля – уникальное исполнение «Ночных бабочек», «Лодки в океане», «Альборады». На bis «Игра воды» и Этюд-картина fis-moll Рахманинова.
1965
* * *
3 января
Об исполненном вчера (в Зале Чайковского) Концерте C-dur Бетховена Рихтер сказал весьма самокритично: «Неплохо я играл вторую часть и местами первую; финал почему-то не вышел. Мешал оркестр, не было настроения».
* * *
19 марта
Поздно вечером отправил Славе в Венецию телеграмму с поздравлением. «Грити Палас» – вспоминаю с удивительно теплым чувством. И кафе на площади Св. Марка. И поездки на Лидо. Z дома, нависшие над каналами. И узкие улицы...
* * *
10 октября
Концерт Рихтера – пять сонат Бетховена (№ 17, 18, 27, 28 и 31),– посвященный памяти Нейгауза. Мысль, чувство и форма, сплавленные воедино.
* * *
12 октября
Концерт Рихтера (на этот раз не в Большом зале, как третьего дня, а в Зале Чайковского). Программа на редкость интересная – Соната H-dur Шуберта, несколько произведений Брамса (Интермеццо a-moll, ор. 118, Рапсодия Es-dur, op. 119, Баллада g-moll, op. 118 и Интермеццо es-moll, op. 118), Соната Листа h-moll и на bis три этюда Шопена – первый, четвертый и двенадцатый. Играл восхитительно; это – титан, который сокрушает всех и вся. После концерта в артистической беседовали. Рихтер отстаивает свою интерпретацию сонаты (Листа) – он играет сонату необычайно цельно, симфонично (время исполнения – 29 минут), но никогда излишне быстро. О четвертом этюде Шопена, исполненном, кстати, в головокружительном темпе, Рихтер сказал: «Мне представляются здесь конькобежные гонки».
* * *
16 октября
Концерт Рихтера в Зале Чайковского. Программа почти такая же, как и 12-го числа; только вместо Брамса – Прелюдия, Хорал и Фуга Франка. Тонус концерта – если судить по первому отделению – несколько сниженный. Зато во втором отделении (соната Листа) Рихтер был буквально одержим: бездна красот, чувства, мысли и ошеломляющая виртуозность. Рояль был не закреплен и в какой-то момент покатился под мощными ударами пианиста. Рихтер подпрыгнул вместе со стулом, как джигит, и приблизился к роялю. Но это мог сделать только такой пианист, как Рихтер; у других – подобная вещь неминуемо привела бы к катастрофе.
1966
* * *
20 марта
Два концерта Рихтера (19 и 20 марта)51 – изумительные по мастерству и артистическому вдохновению. После первого концерта сам Рихтер признался: «Играл формально хорошо». Но добавил: «Без настроения». После второго: «Вот сегодня я чувствовал себя свободно, особенно в Моцарте. А Баркарола все же не удалась. В свое время я в ней что-то нашел, а теперь утратил». На замечание А.И.Трояновской: «У Вас такое воображение!» – Рихтер, смеясь, ответил: «Вы считаете, что у меня большое воображение, что я слишком много воображаю о себе».
* * *
29 декабря
Вечер у Рихтера. Пришел в разгар киносъемки. Стол, накрытый для трех человек. Рихтер сидит на диване, покрытом шкурой. За столом на стульях – друг против друга – сидим мы (Нина и я). Разговор о музыке, о слышимом и видимом. К наиболее сильным своим впечатлениям за последнее время Рихтер относит «Медею»53 с Марией Каллас в заглавной роли, а также Бриттеновский фестиваль, который он относит к числу необычных и высокохудожественных фестивалей.
1967
* * *
7 марта
Вечер у Рихтера. Играем Второй концерт Бартока. Затем мы беседовали, перескакивая с одного предмета на другой,– о Бриттене, поэзии, скульптуре, театре, Максиме Горьком и т. п.
Уже было поздно, когда мы начали слушать (для окончательного отбора) диски с записями сонат Моцарта в исполнении Славы.
Прослушали Сонаты F-dur, G-dur, B-dur и c-moll, а также одну сонату Бетховена (e-moll, op. 90). Мнения наши разошлись. Мне больше всего понравились Сонаты F-dur и c-moll, Славе – Соната B-dur. Вообще все записи, кстати, сделанные по трансляции из концертного зала (в Зальцбурге), превосходны.
После прослушивания мы ужинали (это во втором часу ночи). Снова говорили об искусстве. Запомнились слова Славы: «Все проходит, все уходит, но хорошее остается».
* * *
4 мая
Поразительный концерт Рихтера54. Соната (d) Вебера – нечто невероятное. Такого не услышишь. Во втором отделении – Соната h-moll Листа и на bis – «Фейерверк» Дебюсси. Всё – в самой лучшей форме.
* * *
6 мая
Гениальное исполнение Концерта Бартока55. Какое счастье, что есть такой пианист на свете.
* * *
8 мая
Заходил днем Рихтер (по поводу Рондо a la Mazur Шопена). Разговорились, и он у меня задержался. Сперва о Бартоке и его Втором концерте. Рихтер считает, что это лучший фортепианный концерт Бартока. Но играть его трудно. Светлановым он доволен. Говорит, что в Париже японский дирижер Иваки аккомпанировал ему гораздо хуже. В концерте Рихтер усматривает следы влияния Стравинского, Листа, отчасти даже Шумана (чего я не понимаю). Стравинский и Лист в концерте «чувствуются», Шуман же нет. Может быть, впрочем, известная доля фантастичности!..
* * *
23 сентября
Вечер у Рихтера после концерта (Соната Бетховена D-dur, № 7, Соната Бетховена d-moll, № 17, два Экспромта Шуберта G-dur и As-dur, «Скиталец» Шуберта)56. Рихтер в превосходном настроении. Удачный концерт (особенно хороша была «Фантазия» Шуберта). Встречи с самыми неожиданными людьми: Юрок, Завадский, Слободяник, Гринберг, Писаренко и другие. Разговоры на самые разные темы – по-русски, по-немецки и по- знглийски. Юрок – это типичная Одесса. Совсем уже старый человек. Все время нюхал валидол. Но живой и остроумный. Завадский держится просто и в то же время изысканно. С Рихтером беседовали мы о последних его фестивальных выступлениях (во Франции и в Англии), о Фишере-Дискау, о Мессиане (и его жене), о Бриттене, наконец, о его ближайших намерениях и планах.
* * *
7 ноября
Вечером у Рихтера. Разговор о книге. Чемодан с критическими отзывами. Тетради с записями программ концертов (начиная с 1934 года). Сожаление о том, что не сохранилась запись программ и регламента работы творческого кружка57. «Типично русская беспечность,– говорит Рихтер.– Как важно было бы теперь раскрыть эту тетрадь».
Вспоминаем Венецию. Рихтер от нее в восторге. Говорим о Т.Манне, А. де Ренье, Хемингуэе и других, писавших о Венеции. О театре «Де ля Фениче», где предстоит играть Рихтеру, об островах, каналах, церквах.
Разговор продолжается за столом в другой комнате. Вначале речь идет о книге Моруа «Ж. Санд» и о книге Цветаевой «Мой Пушкин». По мнению Рихтера, портрет Ж. Санд у Моруа получился весьма убедительным. Именно такой была Ж. Санд, а не тем исчадием ада, каким ее пытаются ныне представить исследователи творчества Шопена.
...Рихтер еще раз возвращается к Моруа, к его биографиям, которые представляют действительно большой интерес. Моруа умел писать биографии, любил их писать и не впадал при этом з ложный жанр преувеличений, сохранял достоверность. «Это всегда трудно»,– резюмирует Рихтер.
1968
* * *
19 мая
Концерт памяти Игумнова58. Мое вступительное слово и выступления пианистов-учеников К.Н. (Гринберг, Михновского, Штаркмана, Бошняковича, Давидович, Флиера).
После концерта – в гостях у Рихтера. Выставка рисунков Пикассо. Разговор о вчерашнем концерте Рихтера 59, посвященном памяти Нейгауза. Как поразительно точно и тонко, скромно оценивает свою игру Слава. «Играл ничего, вполне прилично, не было настроения».
— Хорошо, что Вы меня сегодня не слушали. В ложе на против сидели знакомые лица (имярек), и они меня отвлекали. Одна сидела вот так (и Рихтер показал размякшее сонное лицо), а потом в трудной вариации вдруг выпрямилась (опять показ!), стала настороженно слушать, я на нее загляделся и тут же… забыл.
— Рояль не нужно улучшать; его надо делать лишь удобным; рояль должен быть таким, как он есть. Исполнитель может найти нужные краски...
— Вчера было то же самое в Малом зале. В «Фейерверке, который был приличным, там, где легчайшая звучность, получилось грубо, реально, басы гремели, а что-то, наоборот, пропадало; приходилось что-то менять на ходу, а это не всегда удается (здесь Рихтер многое показывает жестами, мимикой, наконец, на рояле).
Запомнились еще мне отдельные фразы Рихтера.
— «Вермеер» – это цветная фотография.
— «Вакханалия» Пикассо (рисунок, выставленный у Рихтера на его экспозиции литографий рисунков Пикассо) нравится меньше, чем его другие рисунки. Во всяком случае «Вакханалия у Рубенса лучше».
Еще о «Фейерверке» Дебюсси:
– «Фейерверк» Дебюсси – это вовсе не переливание воды из пустого в порожнее; это словно зажигающиеся искры, сверкающие, порой «трещащие», подобно зажигающимся в фейерверке ракетам.
1969
* * *
27 сентября
Дневной концерт Рихтера в Зале Чайковского (27/09/1969): Бах (8 прелюдий и фуг) и Прокофьев (8-я соната). На бис: Прокофьев – «Пейзаж» и Вальс из оперы «Война и мир», Рахманинов – Прелюдии g-moll и c-moll, Дебюсси – «Колокола сквозь листья». Что сказать об исполнении? Пианист «божьей милостью». Так никто сейчас играть не может!
1976
Важнейшие дела на 1976 год.
Книга о Святославе Рихтере.
Десятый и одиннадцатый тома фортепианных сочинение Листа.
Сборник «Зарубежное исполнительское искусство» (Флеш Фишер, Казальс) .
Третий выпуск фортепианных упражнений Бузони .
Статья «Основные проблемы исполнительского искусства* («Стилевые проблемы в свете теории информации»).
Первый том песен Листа (на слова французских, итальянских, русских поэтов)68.
1979
* * *
30 мая
Приезд в Москву. Сквернейшее самочувствие. Класс в консерватории, затянувшийся до поздней ночи. Прослушивание белорусской записи,– хвалебное до неприличия – слово обо мне, два номера из «Крейслерианы» в исполнении Сережи, «Ундина» – Русиной, «Петрушка» – Левина.
Объявлены концерты Рихтера: 5 июня – Шуберт, Шуман, Дебюсси, 8 и 9 июня – Прокофьев. Очень хочется его снова услышать!
* * *
5 июня
Концерт Рихтера в Большом зале (05/06/1979 – прим. Ю.Б.). В первом отделении Соната A-dur Шуберта и три новеллеты (включая D-dur’нyю и fis-moll’ную) Шумана; во втором – «Бергамасская сюита» Дебюсси и его же «Эстампы». Исполнение поистине сказочное, заоблачное. Владение звуковыми градациями (особенно в сфере piano) архисовершенное. Образы, настроение, фразировка, охват целого – выше всяких похвал. Как обидно, что приходится уезжать в Петрозаводск; ведь через два дня Рихтер играет Прокофьева!
В час ночи уехал с Женей в Петрозаводск.
* * *
5 ноября
Вечер памяти Г. Г. Нейгауза у Рихтера. Много приглашенных. И не только учеников Нейгауза, но и тех, кто был так или иначе связан с ним. У каждого было свое место, закрепленное специальной бумажкой с именем, отчеством и фамилией приглашенного. Я оказался на самом почетном месте – №1. Наверное, книга, которую я сделал, сыграла здесь свою роль.
Вечер был на редкость теплый. Открылся он словами Рихтера, который вел его с начала до конца. Вот эти слова: «Сегодняшний вечер мы начинаем со «Stabat mater» Шимановского». Затем следовало само исполнение – великолепная запись!
На специальном аппарате показывали фото Генриха Густавовича, картины Дрезденской галереи. И все это безостановочно делал Рихтер, сопровождая диапозитивы пояснениями.
В конце вечера играли ученики Нейгауза (Наумов, Малинин, Муравлев, Горностаева и другие). Последним играл сам Рихтер Вальс из ор.32 Прокофьева).
На вечере у Рихтера я получил от него красную гвоздику. Сам вдел ее в мою петлицу и сказал: «Орден Красной гвоздики – это самое почетное».
1980
* * *
28 января
Гражданская панихида по Стасику Нейгаузу – в 13 часов. Играл Рихтер (Дебюсси - Preludes, Book II – No.7 – La terrase des audiences – прим. Ю.Б.).
* * *
31 мая
У Славы Рихтера вечером слушал Второй квартет Шуберта в исполнении бородинцев, Сонату E-dur (пятичастную) Шуберта, которую великолепно играл хозяин дома, и, наконец, «Forellen-квинтет» Шуберта. Сказочно хорошо, особенно Forellen-квинтет. Было немного друзей и кое-кто со стороны. Со Славой удалось поговорить,– это в последнее время случается не часто. Через два дня у него концерт в Музее Пушкина, а затем – через Украину – едет на родину Шуберта, где предстоит Шубертиана. впрочем, он не слишком вдавался в подробности, заметив, что стал суеверен и боится наперед о чем-либо говорить: «Задумаешь, скажешь, а в результате не сбудется».
1981
* * *
9 мая
Концерт74 Славы в 5 часов дня (из произведений Прокофьева) изумительный, неповторимый.
* * *
20 июня
Я в реанимации. И все думаю о последнем разговоре с Рихтером. Он сегодня летит в Париж. А затем сразу же едет в Тур, там у него три концерта. И каждый – по интереснейшей и труднейшей программе.
* * *
23 сентября
Концерт бородинцев75 (два квартета Шостаковича) и Рихтера с Башметом (альтовая соната).
Замечательная музыка и замечательное исполнение!
* * *
27 сентября
Квинтет Шостаковича – бородинцы и Рихтер. Великолепное исполнение 76.
Ночью писал рецензию.
* * *
3 ноября
У Рихтера: первая наша рабочая встреча по поводу бесед. Образы скерцо Шопена: 1-е – Грильпарцер, 2-е – Большие бульвары, 3-е – Гарц.
* * *
5 ноября
У Рихтера: вторая встреча.
--------------------------------------------------------
…Святослав Рихтер, о котором я много писал и в газетах, и в журналах. Давно работаю над книгой об этом замечательном пианисте и никак не могу ее кончить. Отчасти потому, что творческая эволюция Рихтера протекает очень интенсивно, хотя ему за шестьдесят. Почти каждый его концерт – а в Москве я слышал едва ли не все его выступления – дает богатую пищу для размышлений, и не только об искусстве. Завершение этой работы я ощущаю как долг.
Избранные комментарии к книге
Я.И.Мильштейн
Статьи. Воспоминания. Материалы
1990
14. 2-й концерт Бартока, также как и остальные произведения, об исполнении которых идет речь в нескольких предыдущих заметках, посвященных Святославу Рихтеру, был сыгран в мае 1967 года.
15. По-видимому, имеется в виду период конца 40-х – начала 50-х годов.
16. Речь идет о Сонате для альта и фортепиано, оп.147, исполненной Святославом Рихтером в ансамбле с Юрием Башметом в сентябре 1981 года.
21. Большинство высказываний Святослав Рихтера в этой беседе можно найти в книге Я.И.Мильштейна «Вопросы теории и исполнительства» («По следам бесед со Святославом Рихтером»).
22. В этом концерте, состоявшемся в Большом зале консерватории (21/04/1949 – прим. Ю.Б.), были исполнены следующие произведения:
CHOPIN
Variations Brillantes in B–flat, Op.12
Nocturne in g, Op.15/3
Nocturne in G, Op.37/2 I
Mazurka in C, Op. 7/5
Mazurka in A–flat, Op.24/3
Mazurka in c–sharp, Op.63/3 I
Waltz in e, op. posth. I
Scherzo No.4 in E, Op.54
-------––––––
SCRIABIN
Fantasy in b, Op.28
Prelude in C, Op.13/1
Prelude in e, Op.13/4
Prelude in b–flat, Op.37/1 I
Prelude in F–sharp, Op.37/2 I
Prelude in B, Op.37/3 I
Prelude in g, Op.37/4 I
Prelude in G, Op.39/3 I
Prelude in A–flat, Op.39/4 I
Prelude, Op.59/2
Prelude No.1, Op.74 I
Prelude No.3, Op.74
Prelude No.4, Op.74
Poeme in F–sharp, Op.32/1
Piano Sonata No.5 in F–sharp, Op.53
[LISZT
Annees de Pelerinage – 3rd Year – No.2 – Aux cypres de la ville d'Este
CHOPIN
Nocturne in E, Op.62/2
Waltz in e, op. posth.
Nocturne in b–flat, Op.9/1]
25. Дирижировал Н.Г.Рахлин. Во II отделении исполнялась 11-я симфония Шостаковича (10/11/1957, Москва, БЗК. Существует запись – прим.Ю.Б.).
28. Имеется в виду постановка оперы в Музыкальном театре им.К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко (режиссеры П.С.Златогоров, Л.В.Баратов).
33. В этом концерте (21/05/60 – Москва, БЗК – прим. Ю.Б.) Рихтер сыграл
HAYDN
Sonata No.62 in E–flat, Hob.XVI:52 (op. 82)
BEETHOVEN
Piano Sonata No.7 in D, Op.10/3
––––––––––––––––––––––––––––––––
BEETHOVEN
Piano Sonata No.22 in F, Op.54
Piano Sonata No.23 in f, Op.57
[SCHUBERT
Impromptu No.4 in A–flat, D.899, Op.90
SCHUMANN
Fantasiestuck – Aufschwung, Op.12/2
CHOPIN
Etude No.10 in A–flat, Op.10
RACHMANINOFF
Prelude in f, Op.32/6
PROKOFIEV
Vision Fugitive, Op.22/18 – Con una dolce lentezza]
34. Речь идет о Дизе Арамовне Картышевой, долгое время проработавшей в административном аппарате Московской государственной филармонии.
41. Программа концерта 29/11/62 – Москва, БЗК (прим. Ю.Б.):
BACH
The Well–Tempered Clavier, Book 1
WTC 1, Prelude&Fuge No. 01, in C, BWV 846;
WTC 1, Prelude&Fuge No. 02, in c, BWV 847;
WTC 1, Prelude&Fuge No. 03, in C–sharp, BWV 848;
WTC 1, Prelude&Fuge No. 04, in c–sharp, BWV 849;
WTC 1, Prelude&Fuge No. 05, in D, BWV 850;
WTC 1, Prelude&Fuge No. 06, in d, BWV 851;
WTC 1, Prelude&Fuge No. 07, in E–flat, BWV 852;
WTC 1, Prelude&Fuge No. 08, in e–flat, BWV 853;
-------––––––
BEETHOVEN
Piano Sonata No.9 in E, Op.14/1
Piano Sonata No.10 in G, Op.14/2
SCHUBERT
Fantasia in C "Wanderer", D.760, Op.15
[Allegretto in c, D.915
CHOPIN
Etude No.10 in A–flat, Op.10
Etude No.12 in c, Op.10
DEBUSSY
Estampes No.2 – La Soiree dans Grenade
Estampes No.3 – Jardins sous la Pluie]
44. 24/12/64 – Москва, БЗК.
BEETHOVEN
Piano Sonata No.18 in E–flat, Op.31/3
BRAHMS
Rhapsody No.2 in g, Op.79
Piano Piece in b, Intermezzo, Op.119/1
Piano Piece in e, Intermezzo, Op.119/2
Piano Piece in C, Intermezzo, Op.119/3
Piano Piece in E–flat, Rhapsody, Op.119/4
-------–––
DEBUSSY
Suite Bergamasque
RAVEL
Miroirs – No.1 – Noctuelles
Miroirs – No.2 – Oiseaux tristes
PROKOFIEV
Piano Sonata No.2 in d, Op.14
[RACHMANINOFF
Etude Tableau in f–sharp, Op.39/3
Etude Tableau in D, Op.39/9
BRAHMS
Piano Piece in b–flat, Intermezzo, Op.117/2]
45. 30/12/64 – Москва. БЗК. Фестиваль “Русская зима”.
PROKOFIEV
Piano Sonata No.2 in d, Op.14
SCRIABIN
Piano Sonata No.7, Op.64
-------––––
RAVEL
Valses nobles et sentimentales
Miroirs – No.1 – Noctuelles
Miroirs – No.2 – Oiseaux tristes
Miroirs – No.3 – Une barque sur l'ocean
Miroirs – No.4 – Alborada del gracioso
Miroirs – No.5 – La vallee des cloches
[Jeux d'eau
RACHMANINOFF
Etude Tableau in f–sharp, Op.39/3
BRAHMS
Rhapsody No.2 in g, Op.79/2]
51. 19/03/66 – Москва. БЗК.
MOZART
Piano Sonata No.5 in G, K.283
Fantasia in c, K.475
Piano Sonata No.14 in c, K.457
–––––––––––––
BRAHMS
Ballade No.1 in d, Op.10
Ballade No.2 in D, Op.10
Piano Piece in C, Capriccio, Op.76/8
PROKOFIEV
Piano Sonata No.4 in c, Op.29
[DEBUSSY
Preludes, Book II – No.6 – General Lavine – eccentric
Preludes, Book I – No.1 – Danseuses de Delphes]
20/03/66 – Москва. БЗК (дневной концерт).
MOZART
Piano Sonata No.13 in B–flat, K.333
BRAHMS
Ballade No.1 in d, Op.10
Piano Piece in g, Ballade, Op.118/3
CHOPIN
Barcarolle in F–sharp, Op.60
––––––––––––
DEBUSSY
Preludes, Book I – No.6 – Des pas sur la neige
Preludes, Book I – No.7 – Ce qu'a vu le vent d'ouest
Preludes, Book I – No.9 – La serenade interrompue
Preludes, Book I – No.10 – La cathedrale engloutie
PROKOFIEV
Piano Sonata No.4 in c, Op.29
[RACHMANINOFF
Etude Tableau in e–flat, Op.33/6(5)
Etude Tableau in f–sharp, Op.39/3
DEBUSSY
Preludes, Book I – No.11 – La danse de Puck]
54. 04/05/67 – Москва. МЗК.
WEBER
Piano Sonata No.3 in d, Op.49
SCHUMANN
Novelette No.1 in F, Op.21
Novelette No.4 in D, Op.21
Novelette No.8 in f–sharp, Op.21
––––––––––––––––
LISZT
Piano Sonata in b
[Preludes, Book II – No.4 – Les fees sont d'exquises danseuses
Preludes, Book II – No.12 – Feux d'artifice]
55. 06/05/67 – Москва. БЗК.
BARTOK
Concerto No.2 for Piano and Orchestra
[Дирижер Евгений Светланов]
56. 23/09/67 – Москва. Концертный зал им.Чайковского.
BEETHOVEN
Piano Sonata No.7 in D, Op.10/3
Piano Sonata No.17 in d, Op.31/2
-------–
SCHUBERT
Impromptu No.3 in G, D.899, Op.90, Op.90
Impromptu No.4 in A–flat, D.899, Op.90
Fantasia in C "Wanderer", D.760, Op.15
[SCHUMANN
Novelette No.1 in F, Op.21
Novelette No.2 in D, Op.21]
59. 18/05/68 – Москва. МЗК (поздний вечерний концерт). Вечер памяти Генриха Густавовича Нейгауза.
SCHUMANN
Fantasia in C, Op.17
–––––––––––––
DEBUSSY
Preludes, Book II – No.1 – Brouillards
Preludes, Book II – No.2 – Feuilles mortes
Preludes, Book II – No.3 – La puerta del vino
Preludes, Book II – No.4 – Les fees sont d'exquises danseuses
Preludes, Book II – No.5 – Bruyeres
Preludes, Book II – No.6 – General Lavine – eccentric
Preludes, Book II – No.7 – La terrase des audiences
Preludes, Book II – No.8 – Ondine
Preludes, Book II – No.9 – Hommage a S. Pickwick
Preludes, Book II – No.10 – Canope
Preludes, Book II – No.11 – Les tierces alternees
Preludes, Book II – No.12 – Feux d'artifice
[Images – (SET II) – 1. Cloches a travers les feuilles]
74 (прим. Ю.Б.).
09/05/81 – Москва. БЗК. Международный музыкальный фестиваль в СССР. Предвечерний концерт.
PROKOFIEV
Piano Piece – Legende, Op.12/6
Vision Fugitive, Op.22/3 – Allegretto
Vision Fugitive, Op.22/4 – Animato
Vision Fugitive, Op.22/5 – Molto giocoso
Vision Fugitive, Op.22/6 – Con eleganza
Vision Fugitive, Op.22/8 – Commodo
Vision Fugitive, Op.22/9 – Allegretto tranquillo
Vision Fugitive, Op.22/11 – Con vivacita
Vision Fugitive, Op.22/14 – Feroce
Vision Fugitive, Op.22/15 – Inquieto
Vision Fugitive, Op.22/18 – Con una dolce lentezza
Piano Piece – Danza, Op.32/1
Piano Piece – Waltz, Op.32/4
Piano Piece – Pensees, Op.62/3
Piano Piece – Sonatine pastorale, Op.59/3
Piano Piece – Paysage, Op.59/2
Piano Piece – Rondo in b, Op.52/2
––––––––––––––
PROKOFIEV
Piano Sonata No.6 in A, Op.82
[Piano Piece – Gavotte, Op.95/2
Piano Piece – Waltz of Cinderella and the Prince, Op.102/1
Piano Piece – Suggestion diabolique, Op.4/4
Vision Fugitive, Op.22/20 – Lente irrealmente]
75. 23/09/81 – Москва. Всероссийское общество охраны пмятников истории и культуры. Знаменский собор в Зарядье. Концерт квартета им. Бородина.
76. 27/09/81 – Москва. МЗК. К 75–летию со дня рождения Д.Шостаковича. Концерт квартета им. Бородина.
SHOSTAKOVICH
Piano Quintet in g, Op.57
[bis: Piano Quintet in g, Op.57, mvts 3,4,5]

Д.К.Самин.
Из книги «100 великих музыкантов»
«Вече», М.: 2002
СВЯТОСЛАВ ТЕОФИЛОВИЧ
РИХТЕР
(1915-1997)
...Это был поистине великий день моей долгой музыкальной жизни, да и не только моей... – заявила после встречи с пианистом в Америке, в прославленном Карнеги-холл Розина Левина (учительница Вана Клиберна). – Слушая Рихтера, я все время ловила себя на мысли, что приветствую при исключительном явлении XX века».
Святослав Рихтер родился 20 марта 1915 года в Житомире. Вскоре семья переехала в Одессу, где прошли детские и отроческие годы будущего пианиста. Его отец – Теофил Данилович – преподавал в консерватории и был известным в городе музыкантом. В свое время он закончил Венскую Академию музыки, и именно он дал своему сыну первые уроки игры на фортепиано, когда мальчику было только пять лет. О матери Рихтера, Анне Павловне, известно, что она была эрудированной любительницей музыки.
Постоянно заниматься с сыном отец не мог, поскольку был вынужден все свое время отдавать занятиям с учениками. Это была обычная ситуация для семьи музыкантов-профессионалов. Потому уже с девяти-десяти лет Святослав был практически предоставлен самому себе. Лишь в течение недолгого времени он брал уроки у пианистки А.Атль, одной из учениц его отца. И эту свободу действий мальчик использовал весьма оригинально: он играть все ноты, которые были в доме. Особенно его заинтересовали оперные клавиры. Постепенно Рихтер научился играть любую музыку с листа и стал квалифицированным аккомпаниатором.
С пятнадцати лет он уже помогает отцу, а вскоре начинает работать самостоятельно: становится аккомпаниатором в музыкальном кружке при Доме моряка. После окончания школы он несколько лет работает концертмейстером в Одесской филармонии. В это время Святослав pазъезжал с концертными бригадами, аккомпанируя различным музыкантам, набирался опыта.
В 1932 году он переходит на работу в Одесский оперный театр и становится помощником дирижера С.Столермана. Рихтер помогает ему на репетициях и в работе с певцами, постепенно расширяя собственный репертуар. В мае 1934 года пианист дает первый клавирабенд – сольный концерт – в Одесском доме инженеров, исполняя произведения Ф.Шопена. Концерт прошел с большим успехом, но в то время юноша еще не задумывался о том, чтобы профессионально учиться музыке.
Только через пять лет, весной 1937 года, Рихтер наконец отправился в Москву поступать в консерваторию. Это был достаточно смелый шаг, поскольку молодой исполнитель не имел никакого музыкального образования. На приемном экзамене Рихтера услышал выдающийся пианист Г. Г. Нейгауз. С этого дня Рихтер стал его любимым учеником.
О первой встрече с двадцатидвухлетним музыкантом рассказал Генрих Густавович:
«Студенты попросили прослушать молодого человека из Одессы, который хотел бы поступить в консерваторию в мой класс. – Он уже окончил музыкальную школу? – спросил я. – Нет, он нигде не учился.
Признаюсь, ответ этот несколько озадачивал. Человек, не получивший музыкального образования, собирался в консерваторию!.. Интересно было посмотреть на смельчака.
И вот он пришел. Высокий, худощавый юноша, светловолосый, синеглазый, с живым, удивительно привлекательным лицом. Он сел за рояль, положил на клавиши большие, мягкие, нервные руки и заиграл.
Играл он очень сдержанно, я бы сказал, даже подчеркнуто просто и строго. Его исполнение сразу захватило меня каким-то удивительным проникновением в музыку. Я шепнул своей ученице: «По-моему, он гениальный музыкант». После Двадцать восьмой сонаты Бетховена юноша сыграл несколько своих сочинений, читал с листа. И всем присутствующим хотелось, чтобы он играл еще и еще... С этого дня Святослав Рихтер стаз моим учеником».
Нейгауз принял Рихтера в свой класс, но никогда не учил его в общепринятом смысле этого слова. Как позже писал сам Нейгауз, учить Рихтера было нечему – нужно было только развивать его талант. Рихтер на всю жизнь сохранил благоговейное отношение к своему первому учителю. Интересно, что, переиграв чуть ли не всю мировую фортепианную классику, он никогда не включал в программу Пятый концерт Бетховена, считая, что не сможет сыграть его лучше своего учителя.
26 ноября 1940 года в Малом зале Московской консерватории состоялся дебют Рихтера перед столичной аудиторией. В этом первом концерте он выступал вместе со своим учителем. А через несколько дней дал собственный сольный концерт в Большом зале консерватории, и с этого времени началась его долгая жизнь музыканта-исполнителя.
«...Он сумел «наверстать» упущенное в смысле достижения всеобщего признания, условно говоря, за один вечер... – комментировала критика знаменательный ноябрьский клавирабенд 1940 года, – в свои... двадцать пять лет был сразу воспринят как законченный пианист мирового класса...»
Во время войны Рихтер находился в Москве. При малейшей возможности выступал с концертами. И ни на день не прекращал занятий. С июня 1942 года Рихтер возобновляет концертную деятельность и буквально начинает «осыпать» публику новыми программами. Одновременно начинаются его гастроли по различным городам. За два последних военных года он объехал почти всю страну. Даже государственный экзамен в консерватории он сдавал в форме концерта в Большом зале консерватории. После этого выступления комиссия постановила выгравировать имя Рихтера золотыми буквами на мраморной доске в фойе Малого зала консерватории.
Один из концертов в Москве в Большом зале консерватории в 1944 году стал для него, еще студента нейгаузовского класса – государственным экзаменом. Тогда и было официально засвидетельствовано окончание им высшего музыкального учебного заведения.
В 1945 году Святослав Рихтер стал победителем всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. Он долго не хотел заявлять о своем участии в нем, так как считал несовместимыми понятия музыки и соревнования. Но участвовать в конкурсе он стал для того, чтобы укрепить преподавательскую репутацию своего учителя Нейгауза.
Один из очевидцев тех событий К.Х.Аджемов рассказывал: «Помню особую настороженность публики перед выступлением Рихтера. Он заметно волновался. Неожиданно погас свет. На эстраду вынесли свечи. Рихтер весь отдался музицированию. Он играл две прелюдии и фуги из первого тома «Хорошо темперированного клавира» Баха... Неторопливо раскрывалась гениальная музыка, в служителе которой каждый присутствовавший чувствовал человека высокой души и сердца... Исполнение запомнилось навсегда».
Рихтеру была присуждена на конкурсе первая премия – ему и В.К.Мержанову, ученику С.Е.Фейнберга. В дальнейшем Рихтер не участвовал ни в каких конкурсах. Кроме того, он отказывался и от председательствования в жюри многих международных конкурсов.
Последующие годы он провел в беспрерывных гастролях. При этом постоянно расширялась география концертных поездок. «Жизнь артиста превращается в сплошной поток выступлений без отдыха и передышки, – пишет В.Ю.Дельсон. – Концерт за концертом. Города, поезда, самолеты, люди... Новые оркестры и новые дирижеры. И опять репетиции. Концерты. Полные залы. Блистательный успех...»
В 1950 году Рихтер выезжает на первые зарубежные гастроли в Чехословакию. Потом следуют поездки в другие страны. Только после этого руководство «выпускает» Рихтера в Финляндию. Его концерты проходят, как всегда, с триумфом, и в том же году пианист совершает большую поездку по США и Канаде. И везде ему рукоплещут переполненные концертные залы, именуют «гигантом», «самым значительным из всех ныне здравствующих пианистов» и т.д. Критика все чаще заговаривает о «феномене Рихтера»...
Секрет стремительного взлета Рихтера заключался не только в том, что он обладал уникальной широтой репертуара. С одинаковым успехом он играл Баха и Дебюсси, Прокофьева и Шопена. Главное же его качество как исполнителя – это умение из любого музыкального произведения создать неповторимый и цельный образ. Любая музыка звучала в его исполнении так, как будто именно он сочинил ее на глазах у зрителя. Это отметила одна из газет, скорбя о смерти великого маэстро: «Он был посредником между людьми и Богом».
В отличие от других пианистов, Рихтер умел раствориться в исполняемой им музыке. В ней в полной мере раскрывалась его гениальность. Сам же маэстро говорил, когда журналисты обращались к нему с просьбой об интервью (а на контакт с прессой он шел весьма и весьма неохотно): «Мои интервью – мои концерты». А выступать перед публикой музыкант считал святой обязанностью.
«Рихтер – пианист удивительной внутренней концентрации, – писал о советском музыканте один из зарубежных рецензентов. – Порой кажется, что весь процесс музыкального исполнения происходит в нем самом...»
Как считает Г.М. Цыпин: «Понять самое сокровенное в творчестве Рихтера-пианиста можно лишь в том случае, если ощутить вибрацию тончайших нитей, связывающих это творчество с индивидуально-личностным миром Рихтера-человека. Только так, зная и помня об этих нитях, вслушиваясь в их таинственное, но всегда различимое «звучание», можно прийти к объяснению хрустальной чистоты и возвышенности искусства замечательного пианиста, рассмотреть первоистоки подлинно эллинской гармонии и строгого душевного целомудрия его исполнительских трактовок, их гордой артистичности и одухотворенного интеллектуализма. Всего того, что в конечном счете находит выражение в бескорыстном, поистине альтруистическом отношении Рихтера к Музыке. Того, что сообщает высокую морально-этическую ценность его исполнительству».
На протяжении многих лет рядом с Рихтером находилась его жена – певица Нина Львовна Дорлиак. Когда-то она выступала с собственными концертами, но оставила сцену и стала известным музыкальным педагогом. Сам Рихтер никогда не имел учеников. Вероятно, у него просто не было времени, а может быть, причина в том, что гениальности научить нельзя.
О разносторонности таланта, напоминающей гениев эпохи Возрождения, свидетельствует и увлечение Рихтера живописью. Всю жизнь он собирал картины и даже сам писал маслом. В Музее частных коллекций хранятся несколько авторских работ Рихтера. Что же касается основной коллекции, то большая ее часть также передана в музей. Надо сказать также, что в 1960-е–1970-е годы Рихтер устраивал в своем доме художественные выставки представителей неформальных течений. Особенно интересными оказались экспозиции Е.Ахвледиани и В.Шухаева.
«Одно слово необходимо, когда рассказываешь о нем: бескорыстие, – пишет соученица Рихтера по нейгаузовскому классу в консерватории В.В.Горностаева. – Во всем, что делает Рихтер, всегда поражает полное отсутствие утилитарных целей... В общении с ним немыслимы пошлость, вульгарность. Он умеет игнорировать, как нечто чуждое и неинтересное, все проявления суетности в человеке».
Рихтер был организатором и бессменным участником регулярных летних музыкальных фестивалей во Франции, а также знаменитых Декабрьских вечеров в московском Музее изобразительных искусств им. Пушкина, в Итальянском дворике которого в августе 1997 года Москва прощалась с величайшим пианистом XX века.

Валентина Чемберджи.
«О Рихтере его словами»
Москва : Издательство АСТ, 2017.

Д.Терехов.
Рихтер и его время. Записки художника.
Неоконченная биография
(факты, комментарии, новеллы, эссе)
М.: "Согласие", 2002.

Наумов Л. Под знаком Нейгауза. Беседы с Екатериной Замоториной. М.: РИФ «Антиква», 2002.
IV
С. Т. Рихтер
Я тебе прочту статью, написанную для книги о Рихтере, которая скоро должна выйти1. Название — «Остров радости».
«Каждая моя беседа с Рихтером оставляла сильнейшее впечатление, каждая встреча с ним для меня была подобна шоку. Гениальность его проявлялась во всем.
Рихтер как личность сыграл в моей жизни огромную роль. Я помню концерт в Малом зале Московской консерватории, где он играл «Остров радости» Дебюсси (Рихтер очень любил эту музыку). Это было удивительное ощущение открытия, радостного, свободного, гениального, — чудо, которое передать невозможно.
Впервые я услышал о нем еще до войны. Тогда все в консерватории говорили, что есть такой Рихтер, который гениально играет Шестую сонату Прокофьева, и что сам автор обожает его игру. А увидел я Рихтера впервые в классе Генриха Густавовича — он играл Английскую сюиту g-moll Баха. Рихтер перевернул все мое представление о Бахе. Вместо привычного детализированного и «разукрашенного» исполнения каждой части в отдельности он создал целое из разноплановых композиций - вторая часть контрастировала с первой, третья со второй, и получался цикл, в котором эти контрасты звучали как нельзя лучше.
Познакомились мы с Рихтером так. Время от времени на дверях класса Нейгауза в консерватории появлялась записка: «Генрих Густавович болен, занимается дома». И ученики отправлялись к нему домой, и там играли на двух ужасных роялях.
Однажды во время такого занятия я застал Рихтера, и Генрих Густавович, уходя, попросил его со мной позаниматься. И я Рихтеру играл. Он поразил меня своей добротой и какой-то застенчивостью. Потом мы часто встречались у Нейгауза дома. Это были чудесные вечера. Помню, как замечательно Рихтер и Ведерников вдвоем импровизировали на этих роялях.
У Рихтера были удивительные руки — не «пианистические», а руки, похожие на руки скульптора — огромные; они вызывали представление не о нежном, тонком искусстве музыки, а о глыбах мрамора или глины. Станислав Генрихович Нейгауз рассказывал, что, когда он был маленьким, то очень любил смотреть на руки Рихтера во время его занятий с Генрихом Густавовичем. Эти руки были такими удобными для исполнения, что казалось, только так и можно играть, и что это очень просто.
«Просто играть!» Когда я бывал на концертах Рихтера, у меня всегда, вместе с восторгом, возникало странное ощущение: все казалось таким простым и ясным, как будто срывался занавес или какой-то покров, и оставалась истина, которая должна быть перед лицом каждого исполнителя. И после концерта я бежал к роялю и думал: «Вот теперь-то мне все понятно, вот сейчас сыграю так же!» Ничего подобного! Рихтеровское исполнение пробуждало вдохновение и в то же время затрудняло работу, поднимая исполнительскую планку на небывалую высоту. Чтобы играть так «просто», надо быть Рихтером.
Хотя Святослав Теофилович не хотел преподавать - он в большой степени был педагогом на сцене. Его исполнение открывало такие горизонты, такие новые области, что каждый задумывался. Рихтер никогда не играл привычно. Любую вещь, даже самую заигранную, он исполнял не так, как все. Он как будто переворачивал все вверх дном, а на самом деле сочинение становилось чище, более увлекательным и как будто новым, точно оно и не заигрывалось вовсе.
Рихтер играл, как мне казалось, и не очень удачные произведения, хотя сам говорил: «Я играю только то, что люблю, и всегда хорошее». Слушая его игру, я часто думал о том, что исполнитель является одновременно и соавтором композитора, как бы дорисовывающим то, что в нотной записи, вероятно, и нельзя передать. Сам же Рихтер считал, что самое главное — «ничего не делать» помимо автора, а играть только то, что написано в нотах. Так же говорил и Нейгауз, и, быть может, Рихтер от него и унаследовал такое отношение к исполнительству. Они были очень похожи — по масштабу, по устремлениям, по честности, по отношению к музыке как к чему-то святому, по уважению к автору. Выполнить все указания, которые стоят в нотах, для Рихтера было обязательным. На первый взгляд, он как бы сковывал себя этим. Но при этом его игра разительно отличалась от всех других исполнений. Исполнение Рихтера было настолько индивидуальным и в то же время настолько «классическим», что, казалось, после него уже невозможно играть по-иному. Он очень сдержанно относился к музыкантам, которые играли субъективно, - к такого рода исполнителям он относил, например, Глена Гульда, хотя и считал его гениальным музыкантом.
Святослав Теофилович часто мне говорил, что ненавидит, когда во время кино- или телесъемки исполнения показывают его лицо: заметив это, он мог, например, показать язык прямо в камеру. «На лице отражена моя мучительная работа, — говорил он, — а это не то, важен лишь результат». Он считал, что на концерте нужно только слушать. Мне же как раз было интересно не только слушать, но и смотреть, наблюдать за ним, потому что лицо отражает такие таинственные переживания, которые руками и пальцами нельзя передать даже на самом хорошем рояле. Мне важна мимика. Она может иногда даже противоречить тому, что играют, или соответствовать, или дополнять, но равнодушного, отрешенного лица во время исполнения я не признаю. Лицо Рихтера было поразительным. Помню одно исполнение финала «Аппассионаты» — никакая аудиозапись не может этого передать, это надо было видеть! Мимика Рихтера напоминала сцену из «Короля Лира», где Лир идет по степи, его предали, а на его голову обрушиваются буря, молнии, гром, град, и он рвет на себе волосы. Само же исполнение казалось столь простым...
У Рихтера в исполнении участвовало все тело, от кончиков пальцев на ногах до макушки головы - он играл всем существом и за роялем всегда напоминал мне пантеру или льва. Он был могуч, организм у него был превосходный, и я считаю, что умер он необычайно рано - казалось, мог бы прожить еще лет пятьдесят. Выносливость его поражала. Когда Слава просил меня аккомпанировать ему концерты, над которыми он работал, я всегда с радостью соглашался. Иногда он спрашивал совета. Я осторожно что-то предлагал, он милостиво соглашался: «Да, пожалуй». Потом: «А теперь давайте пересядем, поменяемся роялями... А теперь пригласим послушать Ниночку». И продолжалось это часов пять-шесть. Я изнемогал. Тогда он говорил: «Лева, я вижу, что Вы устали. Идите домой, а я позову аккомпанировать Яшу Мильштейна». И продолжал репетировать.
Я любил следить за движениями Рихтера во время игры. Это было увлекательно, как детектив. Например, он мучился с какой-то трелью в моцартовском концерте, она ему не удавалась. При его-то возможностях - не удавалась трель! И вдруг он сказал: «А Вы знаете - я понял, как это сделать. Надо в этот момент взмахнуть левой рукой, и тогда освобождается энергия и все получается!» Это было так мудро и в то же время просто!
Рихтер замечательно, нестандартно, оригинально умел говорить обо всем. Например, любил с гостями обсуждать, кто из композиторов гениальный, а кто просто хороший.
— Кого мы назовем гениальным? — спрашивал он.
— Баха, — отвечаю я.
— Ну нет, Бах - вообще вне всякой классификации, он выше всех. А гениальные — это Моцарт, Бетховен...
—
А потом оказывалось, что он Гайдна любит играть больше, чем Моцарта. Из русских композиторов он выделял, прежде всего, Мусоргского и нежно любил Римского-Корсакова, особенно первую картину «Сказания о невидимом граде Китеже» — она его пленяла чистотой. Еще Рихтер любил спрашивать:
— А кто из композиторов был хорошим человеком?
Я говорю:
— Наверное, Бородин был хороший человек.
— Да, да, он был добрый. А вот Вагнер был гениальный композитор, но человек паршивый. А Лист был хороший, он помогал друзьям, делал аранжировки, чтобы пропагандировать работы тех музыкантов, которых он ценил. Бетховен был, наверное, трудный человек.
—
Он изучал биографии, интересовался обстоятельствами жизни композиторов. Однажды у него в гостях мы слушали «Молоток без мастера» Булеза, поэму для голоса с оркестром. Это трудная музыка, но Рихтер уверял: «Это не шарлатанство, я точно знаю, что Булез — не авантюрист, а замечательный музыкант, поэтому нам надо еще раз послушать и постараться понять».
Я люблю возиться с различной техникой, был кинолюбителем, много фотографировал. И меня поражало, как Святослав Теофилович ненавидит все, связанное с техническим прогрессом. Он вздыхал о свечах и каретах; самолет для него не существовал вообще. Когда понадобилось ехать на гастроли в Америку, он плыл на пароходе, а когда добирался в Японию, то ехал через всю страну с гастролями, пересаживаясь на самолет лишь на Дальнем Востоке; а на обратном пути — вновь турне с востока на запад, которое он специально планировал, чтобы не лететь. Во время путешествия играл в музыкальных школах, рабочих клубах. И в этом вновь проявлялись его простота и величие.
Я счастлив, что однажды в мою жизнь, как вихрь, ворвался Святослав Рихтер, этот грандиозный «Остров радости»».
Давай я дополню.
Как проходил урок? Генрих Густавович куда-то уходил и попросил Рихтера:
— Славочка, позанимайся с моим учеником.
И мы остались вдвоем. Я играл прелюдии Баха, только быстрые (Нейгауз мне сказал: «Ну, тебе ведь скучно изучать гаммы. Возьми быстрые прелюдии Баха. Это будет тебе интересно как композитору, и на них ты еще можешь развивать пальчики») и прелюдии Кабалевского, которым я тогда увлекся; мне нравились только что написанные им двадцать четыре прелюдии на народные мелодии, и я выбрал несколько.
Помню, по поводу с-moll’ной прелюдии Баха из первого тома Рихтер мне сказал:
— Представьте, что здесь как будто два рычага — пятые пальцы обеих рук. Их надо выбрасывать очень энергично, что придает прелюдии устойчивость и моторность.
Но слушал благосклонно, в детали не вдавался. Потом очень мило со мной побеседовал. Кончилось занятие тем, что он стал мерить мои пальцы со своими... В общем, я был в восторге. К моему удивлению он вел себя так просто, так естественно!
Вчера, кстати, на московском канале в передаче «Ночной полет», которую вел Андрей Максимов, выступал Юстус Франтц (он приехал в Москву), говорил на ломаном русском языке. И ведущий спросил его о наших самых лучших музыкантах. Франтц ответил:
— Вот Рихтера, я дружил с ним, считаю замечательным.
— А что бы вы сказали о нем?
— Он был немного «scheu», застенчивый.
Максимов так удивился! А вот смотри, я ведь пишу то же самое: застенчивый. Рихтеру были присущи интеллигентность, тонкость. Эти качества отмечал и Генрих Густавович, он всегда говорил, что это, прежде всего, замечательный человек, чистый и добрый.
Потом я встречался с Рихтером уже у Нейгауза на занятиях, там-то он и исполнял сюиту Баха. А с Толей Ведерниковым играл не у Нейгауза. Это был период, когда Генрих Густавович плохо себя чувствовал, и Рихтер настоял на том, чтобы учитель переехал пожить к нему, и предоставил ему уютную комнату. Мы с Ирой навещали его. Помню, застали Нейгауза заспанным:
— Ох, извините, я всю ночь читал прозу Цветаевой. Это так замечательно!
Тогда Рихтер и Ведерников дружили. Их дружба началась еще до войны, во время учебы в консерватории. Еще один друг Славы — Владимир Александрович Чайковский, отец Саши — уговаривал его принять участие в конкурсах на исполнение концертов с оркестром, и Рихтер играл, побеждал, это даже премировалось... Кстати, Второй концерт Рахманинова Саша Чайковский проходил по клавиру, который хранил следы рихтеровских примечаний.
Легендарным был творческий кружок, собиравшийся раз в неделю, в нем участвовали Святослав Рихтер, Анатолий Ведерников, Григорий Фрид, Владимир Чайковский, Вадим Гусаков, Олег Агарков, Виктор Мержанов, Кира Алемасова. Там звучало множество малоизвестной или абсолютно неизвестной музыки: «Художник Матис» Хиндемита, «Саломея» Рихарда Штрауса, произведения Кшенека, Берга и другие, и в том числе — тетралогия Вагнера (кажется, исполнение последней оперы «Гибель богов» не состоялось). Основными исполнителями были, конечно, прежде всего, Рихтер, Ведерников, Гусаков — очень талантливый музыкант, погиб на фронте. Следует ли говорить, что успех кружка был колоссальный, народу собиралось множество...
А вот с «Кратким курсом ВКП(б)» у Рихтера было совсем плохо: из-за этой проклятой истории он долго не мог получить диплом. И все же сдал экзамен — правда, по-рихтеровски своеобразно: нарисовав картинки самых главных событий, свободно ответил на вопросы экзаменатора и получил «четыре». Так он закончил консерваторию.
В 1945 году состоялся Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей. На первом туре выступление Рихтера в Малом зале консерватории было необычным. По каким-то обстоятельствам Слава опоздал более чем на час (все мы толпились на «пятачке» перед закрытой дверью). Наконец, Рихтер в темпе presto влетел на сцену, публика расселась, и он заиграл. После Баха — прелюдии и фуги cis-moll из первого тома, если я не ошибаюсь, — он грандиозно начал «Дикую охоту» Листа. Вдруг погас свет. Слава продолжал играть, как ни в чем не бывало. Кто-то поставил на рояль зажженную свечу, а она, не выдержав накала страстей, рухнула. Тем не менее, Рихтер блистательно завершил выступление. Помню еще его исполнение Восьмой сонаты Прокофьева — кажется, на втором туре. Как известно, конкурс закончился победой Рихтера и Мержанова, поделивших первую премию.
Наше творческое общение началось с того, что Святослав Теофилович пригласил меня подыграть партию оркестра в концерте для левой руки Равеля. Ничего себе! Этот концерт тогда был совсем неизвестен. Аккомпанировать с листа мне было очень трудно (сейчас даже стыдно вспоминать, как же плохо я играл!). Несколько раз мы встречались по поводу этого концерта; мне он ужасно понравился, но я так и не нашел времени подучить, чтобы не играть с листа. Помню, как Слава жаловался на каденцию, которая долго ему не давалась. Наконец, исполнение состоялось — Рихтер играл изумительно!
Также помню «Джинны» Франка, тоже «свежее» произведение. Дирижировать должен был Кирилл Петрович Кондрашин, и мы со Святославом Теофиловичем показывали ему концерт. Кондрашин следил по партитуре, а потом, к моему удивлению, сам сел за второй рояль и довольно ловко сыграл все сочинение от начала и до конца.
Затем мы переиграли несколько концертов Моцарта. Интересно, что сначала репетировали первую часть, потом финал, а вторую часть Слава выучивал буквально дня за два до концерта. Он всегда был исключительно добросовестным, трудолюбивым на репетициях.
Что касается записей Рихтера, я предпочитаю пиратские. Студийные записи нередко не совпадают с моими впечатлениями от его выступлений. Это объясняется, наверное, тем, что он все записывал очень честно, был против монтажа — играл только с начала до конца. Например, как он сам рассказывал, «Wanderer» («Скитальца») Шуберта он записывал так - мягко говоря, довольно странно: сыграв это сочинение, состоящее из четырех громадных частей, в первый раз случайно задел несколько фальшивых нот и, не согласившись их исправить, стал играть все произведение заново.
— И вот, когда на седьмой раз я ничего не задел, — говорил Рихтер, — почему-то было уже не так свежо...
В той статье я пишу, что Рихтер открывает горизонты. А какие горизонты? Например, я понял, что он видит перед собой нечто, у него явно есть картина, образ, может быть, даже программа. Он играл настолько ярко, что я все время себе что-то представлял (ну, может быть, свое, а у него — другое)... И действительно: оказывалось, что каждой прелюдии Рахманинова он давал любопытное название. Говорил, например, что gis-moll’ная прелюдия — это «Вдова доктора Живаго стоит перед гробом и рассказывает ему», прелюдия g-moll — «Битва амазонок», прелюдия A-dur — «Ах, эти душные июльские ночи», прелюдия C-dur — «Персидские пышные ковры»... Странные образы. Но как же они интересны!
И еще я обнаружил, что необязательно играть выразительно (кстати, Стасик Нейгауз тоже так считал). Иногда вообще можно играть антивыразительно, и в этом заключается секрет — как краска: если она сочетается с романтическими, взволнованными эпизодами, то дает нечто абсолютно новое.
Для меня осознание этого было открытием, потому что я все играл музыкально. И Бах, которого таким образом, «бесстрастно», исполнял Рихтер, меня поразил именно сознательным уклонением от музыкальности во имя целого. Вот как Нейгауз говорил, что Рихтер видит все сверху, как большая хищная птица, и ему видны и цель (жертва), и все вокруг, при этом не теряются ни форма, ни отдельные детали.
Слава великолепно играл музыку Прокофьева. Я это могу сказать и о Шестой, и о Восьмой сонатах — там открываются такие чудеса, о которых и не подозреваешь. Прокофьев оказался необыкновенно интересным, в нем наметилось множество разных дорожек, в том числе — романтическая. Она, быть может, самая сильная, трепетная; широкие, своеобразные прокофьевские мелодии — не рубатные, как у романтиков, но явно романтического свойства — уникальны, Прокофьева просто разливало (в отличие от Шостаковича, у которого мало длинных мелодий, чаще он писал более лапидарно, используя тематические эмбрионы). И все это Слава играл гениально. Я жадно следил за ним, постигал многие принципы, манеру его игры: у него действительно были очень ловкие руки, естественные, а на самом деле — все было рассчитано.
Рихтер — потрясающий ансамблист. Я считаю, что все, кто с ним работал, играли по-другому, при всей своей талантливости — он, исполняя музыку всем существом, действовал так заразительно, что его партнеры начинали играть выше своих возможностей.
Был период нашего активного общения. Светик очень любил прошлое, вспоминал детство, ему было скучно без авантюрных событий. В своей статье, которая также войдет в этот сборник2, Ира замечательно пишет, как они устраивали шабаш ведьм на горе... Он изнывал здесь без таких шуток, поэтому придумывал разные вещи: собирал гостей, к каждому вечеру тщательно готовился. Ненавидел технику, но, тем не менее, у него имелся проигрыватель. Он его жутко боялся, не мог даже подойти к нему, всем должна была заниматься Ниночка. А Нина Львовна что-то не то сделала, и звук «поехал». Рихтер зарычал:
— Нина! Что это такое!
Сразу приходил в бешенство, если что-то не клеилось.
Звучали разные сочинения. Мы слушали оперы. Как же Слава все обставлял! Если опера шла на другом языке, то просил Наташу Журавлеву рассказать сюжет, краткое содержание. Еще у него был мольберт, на который он ставил заранее заготовленные листы ватмана, где фломастером, крупным «рихтеровским» (ни с чьим не спутаешь!) почерком написаны нужные ремарки.
На этих вечерах обычно бывали интересные люди: Дмитрий Николаевич Журавлев, Сергей Петрович Капица, разные артисты... Да, часто приходила его любимая старушка Анна Ивановна Трояновская, у которой Рихтер занимался живописью. Она к нему тоже очень нежно относилась. Слава вообще любил старых людей. Скажем, в Житомире обожал одну семью — восемь старушек, сестер Семеновых, он вспоминает о них в своем интервью с Бруно Монсенжоном3. Так вот, Анне Ивановне ничего не стоило при гостях вдруг запустить какой-нибудь мат. А Рихтер, видимо, наслаждался этим, при всей своей застенчивости, потому что очень ее любил.
Иногда Святослав Теофилович устраивал детские утренники. Приходили наша дочь Наташа, сын Я.И.Мильштейна, еще несколько детей. Рихтер набирал пряники и ходил с тряпичной сумкой как письмоносец, угощал всех... Там мы слушали, например, оперу Хумпердинка «Гензель и Гретель». Сначала он играл лейтмотивы оперы, объясняя их значение, потом Наташа Журавлева читала содержание, затем начиналось прослушивание. И все это происходило весело. Дети были в восторге, потому что Рихтер доставал пряники, активно реагировал: «Там так страшно!»; когда спускались ангелы, зажигал свечи на елке... Было все волшебно! Ему хотелось погрузиться в детскую сказку. И у него было сильное стремление к режиссуре.
Еще его влекла духовная музыка. Слава обожал праздники и всегда приглашал гостей. Самыми святыми для него были Рождество, Пасха. На Рождество мы слушали «Рождественскую ораторию», на Пасху — «Страсти» («по Иоанну» и «по Матфею»). Рихтер нас встречал и предлагал: «Сначала послушаем первую часть оратории, потом повторим, чтобы ее прочувствовать, затем послушаем вторую». Был перерыв, чай, угощения, и продолжалось дальше. И когда наступали собственно Рождество или Пасха, тогда уже все произведение звучало целиком.
Рихтер просил гостей пройти из зала в соседнюю комнату, а там висели гирлянды яичных скорлупок, наполненных водой, и в каждую скорлупку был положен маленький букетик цветов. Это было невероятно, сказочно прекрасно! Нина Львовна говорила:
— Я с ума схожу от этих яиц, я больше не могу!
А Святослав Теофилович использовал их тысячами (они же бьются), разделял пополам, бережно соединял...
После тех вечеров были ужины, мы пробовали всякие настойки, вина. Слава привозил из-за границы странные продукты. Например, на блюде лежали какие-то красные куски мяса (тогда на вечере присутствовал и Генрих Густавович). И вдруг Сильвия Федоровна, последняя жена Нейгауза, сказала:
— Это асол, это асол.
— Осел? Не может быть! — дико взволновался Рихтер. — Я у такой хорошей женщины в Мантуе это покупал!
— Так это деликатесом считается, Славочка!
—
Другой случай. Он притащил сырые шампиньоны и сказал: «Сначала мне было трудно, но потом я привык. Попробуйте, попробуйте!» Ира, конечно, съела этот гриб, я не стал, естественно. Но Рихтер был очень счастлив, что предлагает что-то новенькое. Однажды ему подарили стеклянные яйца, наполненные ликерами разных цветов, и он угощал нас.
Рассказывал всякие истории. Однажды пришла к нему дочь Скрябина, ее дети собирались эмигрировать. И она советовалась с Рихтером:
— Куда ехать? В Америку?
— Нет, ни в коем случае! Там, если я иду пешком, меня останавливает полицейский и спрашивает: «Вы гангстер?» Это же страшная страна! Или, например, мы пошли в театр. Если в фойе нет автомата, показывающего, куда двигаться, то публика будет просто топтаться, как бараны. Еще: Нине Львовне захотелось съесть крутое яйцо. Но это невозможно, потому что агрегат для варки яиц сломался... Ужасная страна!
—
— Но тогда куда же? В Вену?
— Это же город бездельников! Когда я туда приезжаю, то ничего не делаю. А в Голландии всегда открыты окна, чтобы никто не подумал, что там что-то творится...
— Ну, может быть, поехать в Новую Зеландию?
— Что Вы! Там утром просыпаешься, а солнце восходит с другой стороны! Это же кошмар!
— А если в Шотландию?
— Ну да, там такие холмы, а за ними — как будто уже конец света.
—
В общем, так ничего и не выбрали.
Потом Рихтер загорелся устраивать балы. Он попросил дочку Оли Жуковой Леночку — она до сих пор работает в Большом театре — порепетировать с участниками: как нужно правильно входить в начале, как двигаться парами, как танцевать... Слава создал программу, расписал весь порядок. Мы приходили, нас встречали перед квартирой под звуки фанфар, выдавали номерок в гардеробе, и мы проходили в зал. Там начинался бал: звучал полонез... А дальше все шло по сценарию. Славочка, например, играл свое танго, которое он написал в двадцать один год. Гидон Кремер и Лена Башкирова исполняли какой-то юмористический номер... Теперь представь, что Слава задумал поставить «живые картины»: тушится свет, потом зажигается, и внезапно возникает композиция! Или вдруг Слава просит взяться за руки и бежать. «Бешеный галоп» кончается тем, что все падают. То-то Рихтер счастлив! Интересно, что все продумано: для отдыха гостей специально оборудованы буфеты — европейский, восточный (с курением благовоний), «соловьиный сад с фонтанчиком» — фонтанчик настоящий, пение соловьев записано на пленку...
У Рихтера был огромный эпидиаскоп: вот не любил-не любил технику, а тут вдруг привез из Японии прибор, который проецирует на экран фотографии. Но их нужно обязательно окантовывать, иначе они сгорят. Фотографии клали на картон, покрывали толстым стеклом. В эпидиаскопе очень сильный источник света, там концентрировалась колоссальная энергия (Слава даже хвастался: «Атомная энергия»), поэтому долго пользоваться аппаратом было нельзя. Рихтер вкладывал разные фотографии, когда это необходимо, и сопровождал их специально подготовленным текстом — например, вспоминал о родителях или о Генрихе Густавовиче...
Это была такая бурная деятельность! И когда мы допускались к Рихтеру, нам было тяжеловато (в смысле — сочетать с жизнью), но страшно интересно. Конечно, мы жили этим. И он наслаждался, и мы.
Затем Славочка увлекся режиссурой на «Декабрьских вечерах». Это ты знаешь — ставилась опера Бриттена «Поворот винта». Об этом пишет Юра Борисов в своей книге4. И Рихтер там чувствовал себя счастливым. Но однажды случилось несчастье: на одном из спектаклей случайно направили свет не в ту сторону, и люди, которые должны были оставаться в темноте (там кто-то выглядывал сверху), оказались видимые. Святослав Теофилович пришел в ужас, бросился наутек и пропадал несколько дней.
А скрывался он у Владимира Виардо, я их познакомил. Кстати, сначала Слава принял его холодно, потому что Виардо вздумал щеголять перед ним эрудицией. Но потом Рихтер пришел на его концерт, и они все-таки подружились. Он часто ходил к Виардо в гости (особенно когда у него случались неприятности), они выпивали... Виардо, конечно, очень хлебосольно его встречал.
Случилось так, что я ввел к Рихтеру Андрея Гаврилова, и он Славе очень понравился. «Гаврик» был не способен долго слушать музыку — сидел где-нибудь около Ириного кресла, прямо на полу, и, как только все начиналось, тихо засыпал. А Славочка не любил находиться среди нас и уходил в другую комнату. Потом я заметил, что там висело зеркало, и видел, как он наблюдает за реакцией слушателей, то есть шпионил за нами. Конечно, для Гаврилова это представляло большую опасность, но проходило для него без последствий. Как только все заканчивалось, Гаврилов бешено восторгался: «Гениально!», и тому подобное.
И вот с ним получилось так странно... Рихтер предложил ему сыграть с ним все сюиты Генделя. Ну, Гаврилов уже немного изменился: перестал ходить ко мне на уроки, хотя был еще моим студентом (какой там Наумов, ведь он у нас с Рихтером!). Однажды Нина Львовна звонит и говорит:
— Слава в ужасе! Лева, он просит — не могли бы Вы позаниматься с Гавриловым?
Я отвечаю:
— Конечно, но для этого он должен ко мне прийти!
Через несколько минут «Гаврик» мне позвонил и пришел заниматься. Слава потом сказал:
— Теперь все в порядке.
И они играли. В своем последнем интервью, в фильме Монсенжона, Рихтер об этом вспомнил, даже сказал, что иногда путали, кто играет, — невероятной скромности человек!
Он был очень щепетильным. И, наверное, ему стало неприятно — вдруг я подумаю, что он занимается с Гавриловым? Он вообще не занимался с учениками, хотя к нему кого-то приводили. В фильме Рихтер говорит, как кто-то играл ему а-moll’ный этюд Шопена:
— Я, конечно, слушаю, но не могу сказать то, что думаю, поэтому говорю: «Спасибо», а про себя — «Иди к черту».
Но любил молодежь из консерватории, инструменталистов. Они чуть ли не жили у него. Творилось там что-то невероятное: готовили новые сочинения, каждый день занимались, потом выступали... А с Гавриловым Слава, естественно, много репетировал, для выступлений придумал условные знаки — на случаи, когда «Гаврик» слишком распалялся или ускорял, увлекался громким звуком и так далее. Однажды после концерта Рихтер в артистической пытался мне объяснить, что не занимается с ним. Я воскликнул:
— Что Вы! Я счастлив, что около Вас пасется такой человек.
—
Вообще, Рихтер был музыкантом уникальным не только по артистизму, но и по поведению на сцене. Часто он выбегал из артистической, с разбегу садился за рояль и сразу же впивался в клавиатуру — почти осуществляя мечту Софроницкого, который говорил : «Я хотел бы упасть прямо на Des-dur’ный аккорд в концерте Чайковского». И наоборот, Слава считал, что сонату h-moll Листа нужно играть так:
— Надо выйти, сесть и считать тридцать секунд. Публика волнуется, шевелится. И когда я начинаю играть, то уже чувствую в зале необходимую тишину. — (Цитата, конечно, неточная, я передаю смысл рихтеровского высказывания.)
Софроницкий, например, называл букеты цветов трупами. Святослав Теофилович же терпеть не мог, когда ему преподносили цветы в упаковке, с бантиками; тут же резко срывал обертку, чем вызывал недовольство своих недоброжелателей.
Меня интересовали внешние проявления его гения. Скажем, пугало внезапное изменение цвета лица: оно вдруг становилось пунцовым, челюсть выдвигалась вперед, когда он играл мощно, страстно, раскованно, и мне становилось страшно за него.
Рихтер был стоик в своем поведении, вел себя, как хотел, и ему ни до чего и ни до кого не было дела. Ненавидел фальшь. Не будучи баловнем публики, всегда оставался несколько в стороне от мира и являлся в музыке Посланцем, Лоэнгрином: гордым, независимым, знающим, что он хочет, что может.
Беседа состоялась 21 сентября 2000 года
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Статья опубликована в сборнике «Вспоминая Святослава Рихтера. Святослав Рихтер глазами коллег, друзей и почитателей» (под общей ред. И.А. Антоновой). - М., ГМИИ им. Пушкина, Константа, 2000. С. 273-277. (Книга о Рихтере вышла через несколько месяцев после данной беседы с Л.Н. Наумовым. — Прим. ред).
2 Там же. — Статья «Дружба началась в Житомире». С. 15-27.
3 Фильм «Рихтер непокоренный», режиссер Б. Монсенжон (1998).
4 Ю. Борисов. «По направлению к Рихтеру». М., Рутена, 2000.

Григорий Самуилович Фрид. Дорогами раненой памяти. Воспоминания. - М., 1994.
Фрагменты из книги.
"Московская консерватория: 1932-1939". Общежитие.
Почему людям кажется, что, когда они были молоды ("В мое время"), все было лучше? Быть может, потому, что в молодости мы живем в настоящем, а с каждым ушедшим годом на нас надвигается будущее, в котором мы чувствуем себя неуютно?
И все же, когда я думаю о Московской консерватории тридцатых годов, мне тоже кажется, что "в мое время" было лучше. То были золотые годы Консерватории. Ее профессора, педагоги представляли собой блестящее созвездие выдающихся личностей.
Общежитие. Худший вид коммуналки. В нем нечто противоестественное: взрослых людей с разными характерами, привычками, вкусами заставляют жить вместе, подчиняясь единому, Бог весть кем устанавливаемому распорядку. По такой схеме живет тюрьма, лагерь, казарма. Так жили и все мы - "советское общество". И другой страны, "где так вольно дышит человек", мы не знали.
Что ж удивительного в том, что я, до того бездомный, в общежитии чувствовал себя хорошо? В начале войны, на Дальнем Востоке, пришлось мне жить в помещении на 98 человек. Но когда в большой квартире живешь совсем один - тоже плохо. Где же золотая середина? И есть ли она?
Семь лет, с 1932 по 1939 год, прожил я в общежитии. И вспоминаю его с теплом, ибо эти годы я провел в окружении музыкантов, среди которых нашел замечательных друзей. В трудное время, а оно всегда было трудным, их тепло оказывалось особенно ценным...
Небольшой, выкрашенный светлой клеевой краской дом имел с фасада три этажа. Когда я поселился в нем, он был набит музыкантами. Жили по-царски: по 4-5, редко 6 человек в комнате, а кое-где даже по трое. В каждой комнате находился рояль или пианино...
Дом номер 6 по Дмитровскому переулку был объят звуками. Они обрушивались на прохожих. Врывались в соседние дома. Эхом отдавались на Большой Дмитровке и аристократической Петровке. Дом был огромным универсальным инструментом - суперорганом, в звучании которого сочетались клавишные, смычковые, ударные, деревянные, медные духовые инструменты. На этом дьявольском инструменте одновременно звучали произведения различных эпох, стилей, направлений...
В общежитии, находясь постоянно среди музыкантов, я понял, какой упорный, невероятный труд является основой их жизни - тяжелой, богемной, похожей и на драму, и на фарс. Помноженный на талант, он рождал выдающихся, порой великих музыкантов, ставших гордостью нашего искусства...
В 1935-36 учебном году в Консерватории появились два студента. Пианисты, поступившие в класс Генриха Густавовича Нейгауза, они приехали в Москву почти с разных концов планеты. Один из них - высокий, худенький, с рыжеватой шевелюрой 20-летний Слава Рихтер, прибыл из Одессы, едва ли не самого музыкального города мира. Другой - 16-летний Толя Ведерников - из Харбина, одного из культурнейших русскоязычных городов Китая... Вскоре родителей Ведерникова репрессировали. Отца Рихтера эта участь постигла в начале войны. Я познакомился с ним в Одесском оперном театре, где он работал пианистом и, кажется, органистом. Я уже находился на срочной службе в армии. В 1940 году, попав в Одессу, я посетил знаменитый оперный театр. В антракте я подошел к оркестру и попросил музыкантов вызвать Теофила (не помню его отчества) Рихтера. Ко мне вышел приветливый, скромный человек, как мне показалось, небольшого роста (может быть, потому, что он стоял внизу, в оркестровой яме у дирижерского пульта, а я - наверху, перегнувшись через барьер). Узнав, что я близкий друг Славы, он протянул ко мне руки, пожав мои. Мы проговорили весь антракт. Его гибель я воспринял как смерть человека, которого знал и о котором сохранил мимолетные, но теплые личные воспоминания.
С Рихтером и Ведерниковым меня связывала тесная дружба. Она привела к замечательному начинанию, оставившему след в нашей студенческой жизни.
В 38-ом году в Консерватории начал работать Творческий кружок. Инициаторами его создания были пятеро студентов: пианисты Вадим Гусаков, Толя Ведерников, Слава Рихтер, Кира Алемасова и я.
В Творческом кружке каждый из нас отдавал предпочтение музыке тех композиторов, под влиянием которых находился в то время. Для Гусакова это были Шопен и Скрябин. Для Ведерникова - импрессионисты: Дебюсси, Равель, а также Хиндемит. Кира Алемасова вела журнал кружка и, по-моему, не имела ярко выраженных пристрастий. Я считался апологетом Стравинского. Слава Рихтер был всеяден. Моцарт и Р.Штраус, Шуберт и Кшенек, Пуччини, Брамс, Чайковский, Берлиоз - все были предметом его увлечения.
Задачу кружка мы видели в исполнении неизвестных или редко звучавших сочинений, а также в прослушивании и обсуждении произведений наших коллег - молодых композиторов. Кружок посещали студенты разных факультетов и кое-кто из педагогов; чаще других Генрих Густавович Нейгауз. Долгоиграющих пластинок, магнитофонов еще не было. Поэтому симфоническая, оперная, хоровая музыка звучала на фортепиано в две или четыре руки. Иногда привлекались певцы. На одном из вечеров Рихтер исполнил "Турандот" Пуччини. Звучали мало известные в то время произведения: "Весна Священная" Стравинского, "Художник Матисс" Пауля Хиндемита, Симфонические вальсы Равеля и многое другое.
Сейчас в творческом объединении тех лет я вижу прообраз Московского молодежного музыкального клуба, организованного в 1965 году...
С Рихтером и Ведерниковым мы постоянно встречались в Консерватории, посещали концерты, устраивали вечеринки, совершали совместные прогулки. Иногда я с ними приходил домой к Нейгаузу. Но если меня спросить, что же было главным в нашей дружбе, я бы ответил: музыка!..
Рихтер иногда приходил ко мне в общежитие. Когда я готовился к экзамену по музлитературе, он знакомил меня со многими неизвестными мне произведениями. Среди них были и те, знание которых не было предусмотрено экзаменационными требованиями. Именно они представляли для меня особый интерес; например, оперы Кшенека "Джонни наигрывает", "Прыжок через тень", Хиндемита "Новости дня" и другие. Однажды Слава для нашего обоюдного удовольствия сыграл полностью драматическую легенду Берлиоза "Осуждение Фауста". При этом он пел на немецком языке все вокальные партии.
За годы нашей студенческой дружбы не помню, чтобы я был свидетелем занятий Рихтера рисунком или живописью. Об этом я узнал уже после войны. Проявилось, конечно, его общее художественное дарование. Но мне кажется, его живопись носит экспромтный, случайный характер, обнаруживая способности, не получившие должного развития.
Как-то в 1948 году, когда я был у него, во время нашей беседы он взял со стола листок промокашки и цветными - красным и синим - карандашами набросал городской пейзаж, как бы сверху - из окна. Рисунок получился очень живой. Я забрал его, окантовал и до сих пор храню у себя.
Странно, со многими близкими друзьями я на протяжении десятков лет оставался "на вы". В то же время (что менее странно) был "на ты" с людьми мне чуждыми. С Рихтером полвека мы говорили друг другу "вы". И перешли "на ты" лишь в конце восьмидесятых, когда он устроил "мальчишник", пригласив под Новый год нескольких давних друзей: Толю Ведерникова, Володю Чайковского, Виктора Мержанова и меня. Мы пришли в просторную квартиру Рихтера на Большой Бронной. Огромный кабинет с двумя роялями украшали рождественские игрушки. Гирлянды разноцветных лампочек свисали с потолка. Несколько тонко подобранных картин оттеняли пространство стены. Тихо звучала музыка. Потом, в другой комнате, сидели за столом, уставленным вкусными яствами. Зашла Нина Львовна Дорлиак (она занимала смежную квартиру), неся рождественского гуся с яблоками, распластавшего на красивом блюде крылья, точно призывающего: ешьте меня, вкушайте, наслаждайтесь!
С Ниной мы не успели даже поздороваться. Замахав руками, Слава закричал:
- Нина, Нина, уходите! Сегодня "мальчишник", они не должны вас видеть! (С женой Рихтер был тоже "на вы").
Бедная Нина Львовна, передав гуся охотно взявшему его Вите Мержанову, спешно скрылась в свои апартаменты.
Мы принялись за еду. Гусь и яблоки были замечательные. Вглядываясь в лица моих постаревших друзей, я уносился мыслями в голодное прошлое.
После ареста родителей Ведерникова я нередко перебирался из общежития к нему на Ленинградское шоссе. Там, в небольшой комнате на втором этаже замысловатого дома, с ним и Славой мы проводили поздние вечера и ночи в разговорах, музицируя, читая вслух Метерлинка, Гамсуна, Пастернака. На единственной кушетке могли уместиться лишь двое. Поэтому все трое мы спали на полу, прикрываясь ветхим пуховым одеялом. "Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом и его едят вдвоем?" (из письма Надежды Мандельштам Осипу). Мы ели его втроем. И он был вкусен. Он давал нам возможность заниматься искусством, которое лишь одно казалось смыслом жизни.
"Наша счастливая нищета"
К этому времени относится странный, увиденный мною сон. Мне снилось, что мы с Рихтером находимся в каком-то дворе - глубоком каменном колодце. В дальнем углу - арка. Пройдя под ней, оказываемся в другом таком же дворе, лишь чуть поменьше. В проеме стены видим сводчатые ворота. И опять выходим во двор - пустой, сумрачный. Находим проход и... снова попадаем в каменную ловушку. В нас закрадывается страх. Кажется, мы в западне. Еще и еще один двор. Каждый меньше, теснее: тюремный плац, камера, склеп.
В смятении бредем вдоль каменной стены, устремляемся в проемы, проходы, щели... И снова двор. Будто весь мир превратился в гигантский лабиринт дворов. И в одном из них окончится наш путь.
Чем более сжимаются каменные стены, тем отчаянней, яростней стремимся мы найти выход. Согнувшись, пробираемся по тесному переходу. Сужаясь, он заставляет нас карабкаться на четвереньках. Наши плечи касаются холодного камня. Лежа, задыхаясь, ползем, зажатые со всех сторон. И в момент, когда надежда выбраться покидает нас, видим клочок голубого неба. Обдирая о камни плечи, руки, делаем последнее усилие и выбираемся. Ослепительный фиолетовый свет заливает песчаный океанский берег. С наслаждением вдыхаем свежий, пропитанный водяной пылью воздух.
- Видите, - говорю я Рихтеру, - не зря столько усилий: мы выбрались!
Его лицо озаряет мальчишеская улыбка.
Проснувшись, я долго лежал на своей койке в комнате общежития, раздумывая о странном сне. Мои глаза смотрели на стену, где рядом с портретом Бетховена висела карта Европы. Нежным фиолетовым цветом была покрыта территория Франции. Теперь, когда на карте я вижу фиолетовую Францию, перед моим взором возникает не Эйфелева башня, не Монмартр, не улочки Парижа, увековеченные ностальгической кистью Утрилло, а прекрасный фиолетовый океанский берег.
После войны, следя за феноменальными успехами Рихтера, слушая его игру, видя, как реализовалось его несравненное дарование, я вспоминаю тот сон. Для Славы он оказался пророческим.


Алла Рябцова.
Землякам про Святослава Ріхтера.
Житомир, "ПОЛІССЯ" - 2010, 92 с.
Здесь публикуются избранные фотографии из книги.
I. Родители и родственники Рихтера:
1) Теофил Даниилович Рихтер, отец,
2) Анна Павловна Москалева, мать,
2) Тамара Павловна Москалева, "тетя Мэри",
3) Николай Павлович Москалев, дядя и крестный отец.
II. Встреча со студентами и преподавателями Житомирского музыкального училища, октябрь 1965 г.
III. Минуты покоя и тишины.
IV. Музыкальная школа №2, носящая имя Святослава Рихтера.
Книга о Рихтере Джорджио Чеккарелли Пакстона, моего друга из Рима, одного из создателей сайта, посвященного Г.Г.Нейгаузу и его великому ученику,.

СЛуизой Машневой, страстной почитательницей искусства Рихтера, я познакомился в Тарусе в 2016-ом году. К 100-летию Музыканта она написала поэму-приношение.
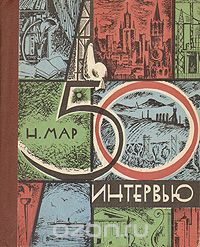
Наум Мар (Наум Иосифович Мармерштейн)
ПОСЛЕ ГАСТРОЛЕЙ
Из книги «50 интервью».
Изд-во «Советская Росиия», 1964.
https://yadi.sk/d/lYIgsdl_3FHK8B
Ниже текст интервью.
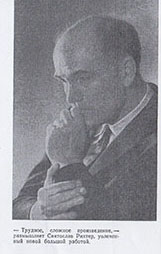
Наум Мар (Наум Иосифович Мармерштейн)
Из книги «50 интервью».
Изд-во «Советская Росиия», 1964.
https://yadi.sk/d/lYIgsdl_3FHK8B
ПОСЛЕ ГАСТРОЛЕЙ
Наш уютный, чуть пахнущий русской сосной прямой вагон Париж – Москва глубокой ночью прибыл с Запада на советскую границу – в Брест. Накинув легкое пальто, Святослав Рихтер вместе со своим спутником директором Московской государственной филармонии вышел прогуляться на перрон. Рихтер двигался мягкими, неторопливыми шагами, размышляя, видимо, о том, что, наконец, он после большого и долгого путешествия снова дома, на родной земле.
Три с лишним месяца назад, в начале осени Рихтер выехал из Москвы в свое первое концертное турне по городам США и Канады. Правда, и до этого он не раз расставался с родиной, концертируя в Чехословакии и Китае, Венгрии и Финляндии... Но никогда еще разлука с домом не длилась так долго.
– Вы спрашиваете о моих американских впечатлениях? Они различны, пестры, но интересны. В целом это хорошие впечатления. Вы, вероятно, знаете, я впервые гастролировал в США и Канаде, и, признаться, меня поначалу несколько вывело из равновесия то естественное, казалось бы, обстоятельство, что я очутился в другом полушарии. Правда, путешествия – моя страсть... Но к таким дальним переездам и плаваниям я еще не успел привыкнуть.
– Из Москвы мы прибыли в Париж, оттуда – в Шербург,– вспоминает попутчик Рихтера.– Только было поднялись на борт «Куин-Мэри», только вышли в открытый океан, а наш милый собеседник – в музыкальный салон и за рояль. Играет час, два, три, четыре... Говорю ему: «Довольно играть».
Не слушает. «Хватит, Святослав Теофилович, успеете еще». Не слушает. Что станешь делать? Потом, когда мы прибыли в Нью-Йорк, у Рихтера целую неделю в глазах стены и потолки качались.
– Это, конечно, некоторое преувеличение,– улыбаясь, парирует Рихтер – Не такой уж я безумный труженик, как об этом порой говорят и пишут. Нет, я люблю и полениться. Но вот соблазнит какое-нибудь сочинение, начинаешь работать, и тогда это хочется делать с удовольствием...
Любопытно, как же при этом складывался его американский день?
– Довольно напряженно, потому что напряженной была сама программа выступлений. Тридцать концертов за два с половиной месяца – двадцать семь в США и три в Канаде. К тому же много времени у нас занимала езда в поездах. По американской земле мы наездили двадцать две тысячи километров. Да, значительность этой цифры я всегда чувствовал, едва успевая после концерта на поезд, с поезда – на репетицию... Концерты состоялись в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Бостоне, Лос-Анжелосе, Сан-Франциско, Фениксе, Детройте, Вашингтоне, Балтиморе и в других городах США, а также в Канаде – в Торонто и Монреале. Вот почему нам пришлось много ездить в поездах. К слову сказать, некоторые тамошние поезда мне очень понравились. Так, например, поезд, идущий из Санта-Фе в Лос-Анжелос. Он имеет двухэтажный вагон со стеклянным, очень удобным для обозрения местности куполом. Поднимешься наверх, и все вокруг видно как на ладони. Отдыхаешь!.. Хорошо!
Но таких часов на нашу долю выпало, увы, немного, учитывая, что программа турне была напряженной и вместе с тем отлично и даже блестяще организованной,– продолжал Рихтер.– И в этом прежде всего заслуга нашего друга, известного американского антрепренера мистера Сола Юрока, сделавшего для этого все возможное и необходимое. Мы полны благодарности ему и его сотрудникам.
– Интересно, что входило в программу американских гастролей?
– Главным образом я играл Бетховена и Прокофьева. Американцы хорошо знают творчество нашего Сергея Сергеевича. Должен заметить, что американский слушатель – внимательный, доброжелательный, строгий ценитель, впрочем, такой же, каких я привык встречать в концертных залах Москвы, Ленинграда, Бухареста, Варшавы и других городов... Американцы отнеслись к моим выступлениям тепло, сердечно, а порой даже слишком восторженно. Должен признаться, что в поездке у меня была большая помеха – незнание английского языка. Но, к счастью, музыке не нужны переводчики... После концерта обычно час или два продолжались встречи и беседы со слушателями. Были здесь поклонники Бетховена, Прокофьева, Скрябина, Дворжака, экспансивные охотники за автографами и просто люди, которые хотели пожать нам руки.
– Вы говорите, поклонники Скрябина и Дворжака? Их сочинения тоже входили в вашу программу?
– Да, разумеется, и пользовались большим успехом. Между прочим, в Монреале после концерта ко мне подошла дама. У нее в руках была рукопись пятой сонаты Скрябина, только что исполненной мною. Это было почти что чудо: в далеком Монреале собственными глазами увидеть почерк Скрябина... Концерт Дворжака стал событием в Филадельфии. Это была премьера для города, в котором концерт еще никогда не исполнялся, для замечательного оркестра во главе с прекрасным дирижером Орманди и, наконец, для меня. Мне говорили, что Филадельфия полюбила фортепьянный концерт Дворжака. *
Рихтер вспоминает различные оркестры и различных дирижеров, с которыми ему приходилось выступать.
– В Чикаго за пультом стоял Эрих Лейнсдорф. Прекрасный бостонский оркестр возглавил Мюних. В Нью-Йорке дирижировал. Бернстайн. Все это, конечно, различные оркестры. Различны их истории, репертуар, творческие особенности. Но все они объединяют отличных музыкантов. Это первоклассные коллективы, и работать с ними просто удовольствие. Говорю я это совершенно искренне, несмотря на субъективную оценку ряда своих концертов. Должен вам признаться, что были ' выступления, которые доставили исполнителю радость, но были и такие, за которые, увы, не могу поставить себе высокий балл...
Здесь придется нам сделать некоторое отступление и на минуту прервать Рихтера. Американская пресса, единодушно характеризуя Рихтера, как гениального пианиста, крупнейшего исполнителя современности, весьма пространно, с профессиональной основательностью анализировала его мастерство. Во множестве статей американские критики, искусствоведы вели речь о глубочайшем проникновении советского пианиста в замысел каждого произведения, о непостижимой, поистине виртуозной технике, подчиненной тонкому философскому анализу, о гигантском репертуаре и земной простоте исполнителя... И вдруг сейчас, после гастролей, Рихтер совершенно откровенно говорит, что не всеми своими выступлениями в Америке он был доволен. И в этом нет никакого противоречия. У большого художника всегда в чем-то остается ощущение несовершенства. Это чувство естественно, ибо художник всегда ощущает свои, еще во многом нереализованные творческие резервы.
Да, американские слушатели восторженно встретили и приняли замечательного советского музыканта. Многие из американцев отмечали, что Рихтеру без какого-либо труда сразу удалось установить самый непосредственный, живой и теплый контакт с аудиторией. Дело это, как известно, сложное. Любопытно, как этого достигает Рихтер?
– Должен сознаться, что ни в одном из концертов в США мне в голову даже не приходила подобная мысль,– признается он.– Равно, впрочем, как она никогда не приходила мне и в Большом зале московской консерватории.- Стихия музыки, подчинившая тебя, не оставляет места праздным мыслям. В эти минуты забываешь все – не только слушателей, зал, но и самого себя. Тогда важна одна мысль, сформированная композитором, как ценность, которой предстоит жить в веках. Музыка требует честного, я бы даже сказал, поэтического отношения. Это, быть может, элементарное, но, с моей точки зрения, одно из самых важных отличий искусства. И строгое отношение к нему, к музыке, конечно, сразу тебя связывает с концертным залом, да и не только с ним. Эти связи обычно уходят далеко за его пределы...
Я вспоминаю сейчас прогулку по улице экзотического одноэтажного города Феникс в штате Аризона. Солнце, пальмы, а вокруг города – пустыня. Вдруг меня догоняет машина. Из нее выходят две дамы. Они что-то бурно говорят и пожимают мне руку. Потом я получил письмо. Наши новые знакомые, оказывается, музыкантши. Старшая из них ученица знаменитого Энеску... И тогда, на улице, они говорили, конечно, о музыке. Мы были в Сан-Франциско. Прелестный город. Чудная, изумительная бухта. Современные улицы и милые старые трамвайчики, опекаемые особой любовью населения. И снова на улице нас останавливают незнакомые люди и о чем-то сердечно говорят. Переводчик не нужен – все понятно...
Я получил множество писем от американцев. На некоторые из них ответил сразу, на остальные отвечу из Москвы. Были в этой почте поздравления, отзывы, пожелания. Не обошлось и без сувениров. Однажды мне доставили маленькую коробку. Открываю: часы! Интересно – кого я должен благодарить? Увы, нет ни письма, ни адреса... Впрочем, потом продолжим нашу беседу, а сейчас, кажется, пора завтрака.
Мы отправились в вагон-ресторан, и официантки, приметив Рихтера, начали о чем-то шушукаться.
– Наверное, устали в Америке, товарищ Рихтер? – спросила участливо одна из них,– Ну, теперь можно и отдохнуть. Чем угощать вас? Небось соскучились по нашей еде... Есть икра, огурцы, даже квашеная капуста...
– Вот это хорошо! Давайте-давайте. И солянку, и жаркое, и огурцы... А то мы в США креветки, мидии, даже ежей пробовали, а вот огурцов соленых не было...
После завтрака мы вернулись в свой вагон. Рихтер снова устроился на диване у окна, продолжая рассказ о законченном турне.
– У нас было много волнительных встреч с американцами, и прежде всего, конечно, с музыкантами, композиторами, дирижерами, артистами. Мы виделись с Ефремом Цимбалистом, Артуром Рубинштейном, Натаном Мильштейном, Исааком Стерном, Александром Боровским, Рудольфом Серкиным, Ваном Клиберном, английским актером Джоном Гилгуд и даже с красавицей мадам Гиршман, да-да, той самой, которую некогда запечатлел в знаменитом портрете Серов. Это были приятные, сердечные встречи. И, конечно, мы говорили о музыке, концертах, записях (кстати, в США я успел записаться на три пластинки). Все мы думали об одном – об искусстве, которое развивается в наших странах, и о мире, без которого не может быть ни искусства, ни жизни. И если за три месяца пребывания в США и Канаде я повидал в общем-то очень мало и даже не был у плотины знаменитой Ниагары, то чувство сожаления об этом смягчается воспоминаниями о встречах с американскими друзьями.
...Курьерский поезд мчится в Москву. Зимний день клонится к вечеру. Мы миновали уже Оршу, Смоленск, приближаемся к Вязьме. Снега за окном становятся все синее и глубже.
Любуясь ими, Рихтер почему-то вспоминает Лос-Анжелос, в котором вся ширина улицы занята бездушным потоком машин («я не люблю улицу без людей и не понимаю в этом красоты»), горестно сокрушался, что в Америке так и не смог побывать почти ни в одном концерте («поверите, почти ни в одном. Это, конечно, обидно, но что поделаешь, если все вечера были заняты, все до единого!»). Рассказывая, шутя, вспоминая, Рихтер пытливо смотрит в окно, словно собираясь зарисовать этот чистый, привычно близкий пейзаж.
А рисовать вам в турне удавалось? Я давно слышал, что кисть и краски нередко путешествуют с вами в чемодане...
Рисовать? Что вы! Это слишком громко сказано... Я люблю живопись. Меня, например, потрясает Куинджи. Помните его «Ночь на Днепре»?! Это же чудо! Я действительно увлекался живописью, но скорее это был отдых среди занятий музыкой – разрядка. Сейчас я не могу к этому так относиться. Искусство – очень серьезная часть жизни. Как и всякое иное, живопись требует труда и полной отдачи. Нужно время. А его у меня нет: музыка берет все. Мне хочется писать, но не так, чтобы повторять свои прежние опыты. А как – это могла бы решить только работа... Прежде я писал пейзажи, которые остались в моей памяти, понравившись своим цветовым составом и настроением. Проходило много времени, прежде чем мне хотелось выразить впечатления. Меня подталкивало запомнившееся настроение. Оно увлекало меня... Вот так, собственно, я пробовал писать.
– И музыку вы так же сочиняете?
– Музыку? Сочинял в двадцать два года и бросил. Я подчинил себя верному в отношении самого себя правилу. Смысл его прост: хорошей музыки создано так много, что и трех жизней не хватит, чтобы переиграть ее всю. Плохой музыки, увы, тоже немало. А мне определенно доставляет большое удовольствие иметь дело с хорошей музыкой... Так лучше разучивать и исполнять большую музыку, чем увеличивать горы посредственных сочинений. Так я решил и пока не передумал...
Я слушаю Рихтера и все время думаю о том, что мне довелось прочитать в американской прессе о его замечательном турне, о нем самом, о его природной скромности, которая всегда отличает великого художника. Многое о Рихтере было сказано и написано за три месяца его гастролей в США. Это целый том газетных и журнальных вырезок. Здесь были эмоции и статистика, исторические экскурсы и анализ, попытка найти параллели и признание того, что Рихтер лишает слушателя этой возможности... Джек Харисон из «Нью-Йорк геральд трибюн» даже открыто воскликнул, что Рихтер – это неправдоподобно. Надо самому послушать, чтобы в это поверить»... Другой журналист заметил, что только Рихтеру, единственному из ныне здравствующих в мире музыкантов, при жестоких аншлагах удалось дать в Нью-Йорке восемь концертов, пять из которых шли один за другим подряд. Один из американских политических обозревателей заметил в порыве увлечения, что Рихтер заменяет целый взвод опытнейших дипломатов и что концерты «советского мага и чародея» даже заметно прибавили голосов демократической партии и самому Кеннеди во время проходившей избирательной кампании. Много забавных открытий я сделал для себя, листая этот ворох запечатленного на бумаге поклонения и восторга перед гением советского искусства.
Истина заключается в том, что могучий советский художник Святослав Рихтер действительно покорил сердце американского народа. В этом нет преувеличения. Правда, уставший музыкант об этом, разумеется, не думал во время своего многотрудного турне, не думает и сейчас, по дороге домой.
...Когда я в Бресте вошел в этот вагон, Рихтер повторил, что никаких интервью он давать не будет, а лучше попробовать вот эти заморские плоды и рассказать ему о московских новостях... Интервью действительно не было. Мы просто беседовали, и он не без интереса' вспоминал, как после концерта в США надо было мчаться на вокзал и немедленно ехать в другой город.
– Скоро будем дома,– говорит он.
И в самом деле, вот уже из январской туманной просини заискрились сияющие огни Москвы.
– Белорусский вокзал! Приехали!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Подпись под фотографией:
Трудное, сложное произведение, – размышляет Святослав Рихтер, увлеченный новой большой работой.
Л.Гаккель.
Из книги «Девяностые: Конец века глазами петербургского музыканта»,
«КультИнформПресс»,1999 г.
Энтропия военного времени словно бы сама способствовала необыкновенным творческим судьбам. В июле 1942 года свой первый сольный концерт в Москве дал двадцатисемилетний Святослав Рихтер. С 1937 года Рихтер обучался в консерваторском классе Г.Г.Нейгауза, выступал на консерваторской эстраде, и некоторые из его выступлений были событиями как исполнительского, так и музыкально-исторического значения (разумею концертную премьеру Шестой сонаты Прокофьева 26 ноября 1940 года). Но первый сольный концерт пришелся на тягчайшее военное лето, на решающие дни нашей национальной страды. Случайность? Не думаю; личность Рихтера всегда искала и находила соответствие своим масштабам в масштабах самой жизни. Случайностью, конечно, не была и программа сольного московского дебюта: Бетховен, Шуберт, Прокофьев, Рахманинов. Наш артист не столько напророчил свой основной репертуар, сколько заявил о его наличии, об обретении «своей» музыки, «своих» авторов. Прежде всего это касается Прокофьева. Вслед за Шестой сонатой Рихтер впервые исполнил Седьмую (18 января 1943 года), а затем стал одним из первых интерпретаторов Восьмой сонаты (на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в декабре 1945 года); сюда же добавлю выступления с Пятым прокофьевским концертом под управлением автора (март 1941 года), с Пятью стихотворениями Ахматовой в ансамбле с Н.Л. Дорлиак (март 1945 года) – если отмечать только вехи на предначертанном пути. Прокофьевская музыка способствовала актуализации Рихтера как исполнителя, как художника; в ней явились его воля, его темперамент, его чувство времени; благодаря ей современный музыкальный мир впервые увидел Рихтера-виртуоза, что как раз и означает мощную художественную волю, предельность всех артистических состояний в момент публичного творчества, гипнотизирующий блеск исполнительской техники (в свою очередь понимаемой как воплощение личности в исполнительском искусстве). Можно и нужно говорить о существенной роли Рихтера в истории прокофьевской музыки, в сотворении прокофьевской символики*. Но главное в том, что вместе с Прокофьевым в нашу художественную историю вошел Рихтер.
И это было не только натиском, не только разрядом виртуозной воли. Почувствовались необычайная чистота души, «артистическое бескорыстие» (как написали в одной из рецензий), некая безгрешность, которая выражает себя в мерности исполнительского ритма, в абстрактном характере фортепианного звучания. Вспоминаешь Т.Манна: «...существует инструмент, ... который хоть и делает музыку слышимой, но уже наполовину нечувственной, почти абстрактной и потому наиболее соответствующей своей духовной природе, – это рояль ... рояль – непосредственный и суверенный представитель музыки как таковой, музыки в ее чистой духовности». Такой именно рояль и был роялем Рихтера начиная с 40-х годов, то есть с первых появлений артиста на публике. «Чистая духовность» пленяла в Шуберте, который сразу стал заветной частью рихтеровского репертуара; мерный ход времени увлекал во всем, что исполнялось – в Бахе, в Бетховене, в Дебюсси (музыка его прелюдий словно бы лишалась временной протяженности, становилась неразымаемой импрессией!). А рядом – самозабвенный Лист, не чуждый темповых крайностей; рядом – почти недвижный в своей широте поток Второго рахманиновского концерта, и все это – Рихтер 40-х годов. Пожалуй, никогда раньше наш пианизм не знал мастера, столь приверженного абсолютным состояниям, власти мерного времени и звучаний, одухотворенных до абстракции. И мировая культура, вероятно, не чаяла получить это торжество духовности в облике советского пианиста, она не чаяла также получить из России творца, в деяниях которого национальная специфика умерялась бы сравнительно с общечеловеческими духовными проявлениями. Не чаяла получить, но получила, и именно тогда, когда Советская Россия отгородилась от мира железным занавесом. Понадобилось почти десятилетие для того, чтобы Рихтер занял свое место в кругу международной музыкальной элиты и, что важнее, вошел бы в художественное сознание современного мира.
---------------------------------------------
* За рубеж социалистического лагеря не выезжал даже С.Т.Рихтер, парадоксальным образом вознесенный у себя в стране на вершину артистической известности (Сталинская премия I степени в 1949 году).
Не могу не проинформировать о существовании этой книги, но выкладывать не собираюсь. Вопросы авторских прав - не самая главная причина.

В.Чинаев.
«Музыка России». Альманах, вып.9.
М.: «Советский композитор», 1991, с.107-120.
С.Рихтер
Андрей Вознесенский.
«И холодно было младенцу в вертепе…»
Цитата:
Кто они, гости поэта?
Сухим сиянием ума щурится крохотный, тишайший Генрих Густавович Нейгауз, Гаррик, с неотесанной гранитной шевелюрой. Рассеянный Рихтер, Слава, самый молодой за столом, чуть смежал веки, дегустируя цвета и звуки. «У меня вопрос к Славе! Слава! Скажите, существует ли искусство?» — навзрыд вопрошал Пастернак.

Юрий Нагибин
Из книги «Вечная музыка».
Московские гнезда
В Нащокинском переулке
«Ночной Марсель в притоне “Трех бродяг”»
Встречи с Генрихом Нейгаузом
Изд-во ВЗОИ. М.: 2004.

Вера Прохорова
Четыре друга на фоне столетия.
Рихтер, Пастернак, Булгаков, Нагибин и их жены.
Мемуары в письмах и воспоминаниях.

Игорь Оболенский
Пастернак, Нагибин, их друг Рихтер и другие.
Издатель АСТ, 317 с.
Фрагмент из книги.
В Одессе я познакомился и сдружился с семьей педагога консерватории Теофила Рихтера.
Теофил Данилович Рихтер — милый, скромный, обаятельный человек и великолепный музыкант — пианист, органист, преподавал в Одесской консерватории и работал органистом в Одесской опере. После пожара и восстановления театра был приобретен великолепный театральный орган, в котором кроме обычных регистров было множество эффектов, как, например, шум ветра, прибой волн, воспроизведение грома, пения птиц, колокола, колокольчики, шум леса (он был привезен из Вены).
Первый концерт на нем дал органист Альфред Ситтард. Это было событием в музыкальной жизни Одессы. Его концерты слушала вся музыкальная Одесса. Играл он классику и собственные импровизации, демонстрируя все эффекты нового театрального органа. На меня эти концерты произвели большое впечатление, звучание этого царя инструментов в опере было особенно эффектно. Теперь оперы, в которых был орган в составе партитуры оркестра, наполняли стены своим могучим звучанием. Органы кроме театра были еще установлены в синагоге Бродского и в кирхе на Новосельской улице напротив здания консерватории.
На должность органиста был приглашен Теофил Рихтер, который знал хорошо этот инструмент и в совершенстве владел им. Учился он в Вене у А.Брукнера и Ф.Шрекера, закончил Венскую консерваторию. Жена его русская, Анна Павловна, очень милая, веселая, общительная женщина, всегда была в хорошем настроении. Семья — патриархальная, дома всегда было тихо, уютно, в углу перед иконами постоянно горела лампадка. От этой обстановки всегда веяло тишиной и покоем. В соседней комнате стоял большой рояль и много много нот и книг. Маленький, рыженький, худенький мальчик часами не отходил от рояля. Звучат оперы Моцарта, Римского-Корсакова, Вагнера, Чайковского, сонаты Бетховена, Гайдна, пьесы Рахманинова, Скрябина, этюды и ноктюрны Шопена, романсы Шумана, песни Шуберта и так до бесконечности. Когда только ни проходишь мимо семьи Рихтер, всегда звучит музыка: будь-то утренний час, когда я шел в свою профтехническую школу №20, находившуюся в здании бывшего реального училища Святого Павла, или когда возвращался после уроков и практики в слесарных мастерских домой. Вечером, когда я случайно проходил мимо этих окон или возвращался от моего друга, композитора Сергея Орлова-Сафатова, студента Одесской консерватории по классу композиции К.Молчанова и В.Золотарева, где мы музицировали или обсуждали оркестровку его произведений, я всегда слышал музыку. Неутомимым музыкантом был Светик Рихтер — единственный сын семьи Рихтер, с которым впоследствии меня познакомил наш классный наставник и впоследствии директор училища Бахман. Таким образом я узнал о семье Рихтер и узнал, кто же этот неистовый музыкант, который буквально по целым дням не отходил от рояля.
Познакомившись с родителями Светика, я стал бывать у них довольно часто. Отец его, очень скромный молчаливый человек, всегда был занят на работе в консерватории, на репетициях или спектаклях в оперном театре. Мать почти всегда была дома, она вела хозяйство, рукодельничала, очень жизнерадостная женщина, горячо любила своего единственного сына Светика и всячески поощряла его любовь к музыке. Светик, худенький, довольно высокий мальчик, с копной рыжих волос на голове, был замкнутый, неразговорчивый, не имел друзей, всегда ходил один, погруженный в мир звуков, которые наполняли его жизнь полностью, не оставляя времени для развлечений и баловства, присущих этому возрасту. Я подружился со Светиком, мы часто с ним виделись, он мне играл клавиры опер Р.Вагнера и рассказывал смешную систему лейтмотивов и комбинаций, сочетаний и метаморфоз их в результате сценических перепетий сюжета. Очень любил он оперы Н. Римского-Корсакова, которыми увлекался в то время. Играл он «Сказку о царе Салтане» всю целиком, от «корки до корки», другие оперы. Со Светиком я начал играть в четыре руки, сначала это было домашнее музицирование, то у меня дома, то у него. Это были симфонии Листа «Данте» и «Фауст», симфонии Моцарта, Бетховена, Гайдна, Брамса, Брукнера, Малера, симфонические поэмы Рихарда Штрауса «Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель», «Альпийскую симфонию», симфонии Чайковского, Бородина, Глазунова, Скрябина; скандинавцев Гаде, Синдинга, Грига, Свендсена, Стравинского «Петрушку» и «Весну священную». Симфоническую музыку я очень любил и увлекался ею больше, чем фортепианной.
Особенно я стал увлекаться ею, когда познакомился с профессором истории музыки Борисом Дмитриевичем Тюнеевым. Личность Тюнеева очень примечательна в истории музыкальной культуры Одессы. Сам он в прошлом петербуржец, слышавший много замечательного в своей жизни, и течение долгих лет он имел возможность слушать первоклассных отечественных и иностранных исполнителей симфонического оркестра Императорского музыкального общества — А.Зилоти, С.Кусевицкого. К тому же, у него дома была огромная библиотека партитур, клавиров и переложений для двух роялей в четыре руки, симфоническая музыка, «Русская музыкальная газета» за все годы (почти двадцать пять лет), в течение которых она издавалась и в которой Борис Дмитриевич писал свои рецензии, статьи, обзоры, разбор новых произведений. В Одессе Тюнеев жил очень скромно, с женой и сыном. Огромного роста, широкоплечий, с вечно торчавшей в зубах огромной трубкой, с накинутой на плечи старинной накидкой, которую носили и царские времена судейские чиновники, окутанный клубами густого табачного дыма, Борис Дмитриевич производил очень импозантное впечатление, несмотря на более чем скромное свое одеяние. Этот человек был удивительной эрудиции, таланта, знаний и обаяния, несмотря на всю кажущуюся сухость и строгость своего внешнего облика, густую бороду, брови и отшельническую, аскетическую внешность настоятеля монастыря. О чем бы вы ни спросили Бориса Владимировича, всегда в ответ услышите целую лекцию с многими подробностями, с живыми звучащими цитатами на фортепиано, которым он владел в совершенстве, причем его огромные руки с длинными аристократическими пальцами извлекали из рояля музыку божественной красоты.
Его библиотека стала для меня и Светика основным источником, из которого мы черпали литературу для нашего совместного музицирования. Он охотно предоставлял нам ее, но зато мы были обязаны раза два в неделю исполнять ему то, над чем тогда работали. Это был своеобразный отчет. Играли мы на квартире профессора Сергея Дмитриевича Кондратьева, ученика В.Сафонова и С.Танеева, окончившего Московскую консерваторию. Кондратьев был прикован к постели туберкулезом позвоночника. У него стоял великолепный рояль, на котором мы музицировали. Собиралась у него компания люобивших симфоническую музыку, были там и старики, и молодежь. Слушали нас очень внимательно. Перед нашей игрой Борис Дмитриевич Тюнеев обязательно делал краткую аннотацию об исполняемой музыке и комментировал ее, рассказывая, где, когда была написана и исполнена и что послужило толчком к созданию этого произведения. Знал он буквально все, не было того произведения из классики и новой музыки, которое он не слышал или не знал, о его существовании из журналов или радио. Это был кладезь музыкальной литературы. Мы собирались у него дома. Он брал с собой котомки, куда укладывались аккуратно завернутые в газеты ноты, книги и журналы, газету «Русская музыка», и мы вместе со Светиком и Сережей Орловым (С.Орлов — талантливый Одесский композитор, в период сталинских репрессий был осужден как «враг народа» и сослан в лагерь, где погиб — прим. сост.) и другими любителями музыки отправлялись на Куликово поле возле вокзала, где звучала наша музыка. За несколько лет мы со Светиком Рихтером переиграли всю симфоническую литературу. Это были симфонии, симфонические картины, сюиты, увертюры, фантазии, кантаты, оратории, театральная музыка, балеты — Чайковского, Глазунова, Черепнина, Стравинского, Прокофьева, Делиба, Массне.
Часто после нашей игры Борис Дмитриевич Тюнеев предлагал прослушать solo на рояле — в исполнении поочередно меня и Светика. Я играл М.Мусоргского «Картинки с выставки», пьесы М.Балакирева, С.Ляпунова, Светик играл Р.Шумана, Ф.Шопена, Ф.Листа.
В числе наших слушателей был несколько раз Эмиль Гилельс или, как мы его называли, Миля, очень скромный, тихий, небольшого роста, тоже рыженький мальчик, тогда еще никому не известный, но уже подававший огромные надежды юный пианист. Несколько раз я играл там же в четыре руки с Яшей Заком, который дружил со мной и был моим соседом (мы с ним жили на одной улице). Яша был очень культурный, начитанный и очень веселый пухленький, румяный мальчик, который очень заразительно смеялся, всегда был в хорошем настроении и мог рассмешить кого угодно. Сразу вспоминалась поговорка: «В здоровом теле здоровый дух». Яша Зак отличался от всех окружающих его молодых музыкантов необыкновенным кругозором и осведомленностью. Он очень много читал, знал блестяще иностранную и русскую классическую литературу, поэзию, современную советскую литературу, с ним можно было беседовать на любую тему. Он разбирался в живописи, в точных науках, видимо много-много читал, был в курсе политических событий, в то время это было удивительно. Мы с ним играли некоторое время в четыре руки, но не в таком объеме и не так долго, как со Светиком. Я бывал у него дома, его комната напоминала книгохранилище — сверху донизу вся завалена книгами и нотами. Яша был в полном смысле слова «книгоед». На улице всегда, когда я его встречал, у него под мышкой была кипа книг и нот, тогда еще не носили сумки и портфели. Меня поразил его рояль: это были буквально «развалины Помпеи» — он так работал, что рояль не успевал отдохнуть от этой нагрузки и, казалось, стонал под его руками. Тогда его игра была очень энергичной и бравурной в отличие от его теперешней манеры «кошачьих лапок» его чарующего туше. Такого туше, как у Якова Зака, из всех пианистов, которых мне приходилось слышать за всю свою жизнь, не было ни у кого, только у него одного такой «бархат» в пиано. Большего очарования в произведениях Шопена он достигал за счет своего необыкновенного туше. Недаром он так блестяще защитил честь советского пианиста на Шопеновском конкурсе в Варшаве. Этот наш шопенист - один из сильнейших в мире.
Во время наших репетиций со Светиком Рихтером я обратил внимание на его феноменальные технические возможности. Он мог, например, играть вместе партии примо и секондо, т.е. правую и левые страницы нашего совместного четырехручия, совмещая обе партии и так комбинируя, что звучала вся музыка, не пропадала ни одна партия, вся фактура была налицо. Невероятные трудности в смысле "пальцеломкости» преодолевались им с легкостью поистине сказочной. Я не говорю о трудностях чисто пианистических или же не пианистических, а оркестровых. Он преодолевал их с поистине волшебной легкостью. Никогда не забуду фигурации при прохождении главной темы в «Прелюдиях» Листа, которые он играл так, что просто диву даешься, как можно их так сыграть. От них, от этих фигураций аккордами в бешеном, ураганном темпе, руки отваливаются, а он их играл, причем не легко, а форте и даже фортиссимо, в темпе, и нигде при этом не было ни одной грязной ноты, все это было сыграно идеально точно, ритмично и в темпе. Позже, когда он стал великим пианистом современности, я слушал в его исполнении концерт для левой руки М.Равеля и вспомнил наши «Прелюды» — тогда я понял, как он достиг такого совершенства, ведь это бешеная работа сделала его недосягаемым. Это — гений труда! Он и сейчас способен после большого напряженного концерта остаться в зале, в полном одиночестве и работать до утра над тем, что ему не понравилось, или над тем, что он считает недостаточно совершенным. Это человек железной воли и исполнительского труда. Это истинный музыкант.
В юности он еще не был таким вулканом по темпераменту, как сейчас. Я помню, что мне приходилось его «раскачивать» на больших нарастаниях и подъемах, но зато, когда его «раскачаешь», то он становился неистовым, и его невозможно было остановить. У нас буквально рояль ходил, как живой, под руками и звучал, как огромный оркестр. Те, кто слышал наши «Прелюды» Листа, «Данте-симфонию», говорили, что мы достигали такой звучности, как в большом оркестре. Во всяком случае, наши слушатели получали полное представление об этой музыке, и мы были счастливы познакомиться с лучшими образцами мировой симфонической музыки. Это послужи» хорошей школой для юного Святослава, и он часто при наши встречах теперь тепло вспоминает о днях нашей молодости и совместных выступлениях. У меня сохранилась фотография наших музыкальных встреч. На ней запечатлен молодой Рихтер — мой друг и партнер по музицированию и наши слушатели. Это для меня дорогая реликвия и память о тех незабываемых днях молодости и увлечения музыкой.
Позже, в тяжелые годы, я часто сопровождал Бориса Дмитриевича Тюнеева в кинотеатр, где он играл музыку Вагнера, Листа и так далее, иллюстрируя кинофильмы на Молдаванке. Странно было видеть эти любовные сцены фильма, сопровождаемые музыкой «Тристана». Это было мучительно, и Борис Дмитриевич не знал другой музыки, кроме этих шедевров, и он старался приспособить их к действию фильма. Это были годы нужды и лишений. Вскоре он умер в очень тяжелых условиях. Светик уехал из Одессы, он тоже много пережил, пока стал Святославом Рихтером. Но об этом я еще расскажу. (Святослав Рихтер любил приезжать в Киев, здесь у него было много друзей, знакомых — бывших одесситов. Его концерты в Киеве всегда проходили триумфально. Я вспоминаю один концерт 70-х годов, на который мы вместе с отцом не смогли попасть в связи с тем, что публика блокировала вход и брала штурмом здание Киевской филармонии. Особенно активными были безбилетники — студенты консерватории и музыкального училища. Тогда администрации филармонии пришлось вызывать милицейское оцепление.
Но Рихтер переживал в Киеве и тяжелые послевоенные дни, когда он был без работы, без денег и еды. Его друзья одесситы, как говорится, «передавали его из рук в руки» - кормили, поили, одевали, давали ночлег и всячески старались морально поддержать. Ему было очень трудно, он постоянно находился в угнетенном состоянии. Он не раз приходил к нам на обед в солдатской шинели, сумрачный и удрученный. Мой отец всячески старался его поддержать в это голодное и холодное время, когда все переживали трудности послевоенного периода. Он делился с ним всем, чем мог, даже отдал ему пару теплого белья, выданного ему на фронте, ведь Светик был, как говорил отец, «гол как сокол». Все старались найти ему работу, но это было очень трудно.
Все изменилось с того дня, когда Мария Бем, солистка киевской оперы, бывшая одесситка, как ласково ее называло близкие — Мура, упросила свою хорошую знакомую, певицу Нину Дорлиак взять талантливого молодого человека аккомпаниатором. Это знаковое событие изменило весь дальнейший жизненный и творческий путь Святослава Рихтера. — Прим, сост.)
Наши музыкальные вечера распались.

Екатерина Поспелова
Про Святослава Рихтера
20 мая (восможно, "марта" - прим. мое) каждый год думаю о Рихтере.
Поздравляю всех, кто его знал, слушал, любил и восхищался.
Я помню первое, что я когда-либо написала для печати, – была маленькая заметка в стенгазету Мерзляковского училища – про него.
Мне было 19, и я собиралась замуж за прелестного юношу, начинающего писателя, и очень стеснялась ему показывать свою писанину. Но он оказался снисходителен, одобрил выражения «насыщенный шум аплодисментов» и «крупная грация», которые я употребила, описывая то, как Святослав Теофилович выходит на сцену в БЗК.))) ,
Потом мы вместе, у него в комнате, приклеивали казеиновым клеем фотографии из семейного архива, перепечатывали набело, и, кажется, в ту ночь я впервые не приехала домой ночевать...
У юноши тоже была немецкая фамилия. И грация была... И просто....
А до этого Рихтер появлялся, как снег на голову, у нас в училище. Никаких не было анонсов и прочей ерунды. Он спонтанно вдруг решал, как он часто делал, – а поиграю-ка я для студентов-пианистов!
И.А.Антонова не раз рассказывала, как он так же неожиданно решал впервые и в музее изобразительных искусств поиграть, и в каком она была ужасе от мысли: как собрать зал, как все организовать?
Но оказывалось все несложно: какие-то хорошие люди накануне ночью по телефону сообщали всем эти непроверенные слухи. И все случалось!
И у нас в училище, к его всамделишному приезду, все коридоры и лестницы были уже заполнены, причем не только студентами, но и так называемыми "постоянными СЫРАМИ" Рихтера, которые, каким-то летучим образом, узнавали про все его концерты и приходили.
Позже я сама стала такой "сырихой" – ездила в самые разные места: в Тарусу, в хоровую школу – забыла на какой отдаленной станции метро, в Звенигород (знакомые подхватывали на машине). Один раз оказалась сидящей просто напротив, в метре от него! – потому что импровизированный зал был забит, и впереди первого ряда кто-то еще сидел просто на полу.
Помню, он играл сонату К.М.Вебера до-мажор со знаменитым "Перпетуум-мобиле" в финале. Это было так быстро, что выпрыгивало сердце.
Нам, пианистам, когда мы учились, советовали: "Играя виртуозную музыку, мысленно делите ее на более крупные ритмические части, не на 4, а на 2 – и т.д". – Тогда и играть легче, и суеты не возникает.
А Рихтер играл не на 4, не на 8, а словно как будто "на 122" – и то, что, может быть, и не было так жутко быстро на самом деле, – благодаря артикуляции каждой шестнадцатой и общему напору, казалось просто невозможным, непереносимым сперва и заставляющим пульс биться в каком-то сумасшедшем ритме.
Я совершенно не адепт игры "громко и быстро". И мне не очень нравятся, например, его ранние записи, экстра-темпераментные и скоростные, – но в зрелом возрасте (а я его именно в таком и застала) он уже оперировал темпами – не как темпами, – а как временем, которое может то невыносимо сжиматься (как в этой части сонаты Вебера), так и разряжаться немыслимо, до каких-то уже вакуумных пределов (как в первой части его любимой сонаты Шуберта G-dur). Это был не виртуозный или меланхолический эффект, а работа именно со временем...
Говорят, когда учитель Рихтера, Г.Г.Нейгауз, попенял ему на то, что он слишком медленно играет первую часть соль-мажорной сонаты, Рихтер шел некоторое время рядом с учителем по бульвару, задумавшись, а потом сказал: "Я понял, надо играть еще немного медленней”)))
...Чтоб эти наши привычные ожидания тоники после доминанты или доминанты после субдоминанты отвалились бы, а вместо этого, возникло бы какое-то опережающее само время, в глобальном смысле, нерационально-замедленное пространство,– с совершенно другими связями между звучащими элементами.
Он был как физик в музыке иногда.
Он словно бы вкладывал то, над чем работали экстра-современные композиторы, уже отказавшиеся от лада и гармонических тяготений, – в традиционную музыку с устойчивыми ладо-тональными связями. Его Шуберт был Шубертом, но уже помноженным на Веберна.
(Да простят меня знатоки).
Игра узнаваемого в неузнаваемом временном пространстве.
Пожалуй, это главное, что меня так завораживало в его игре.
Время.
То же самое со звуком.
Многие мои сокурсники кривили губы и презирали, в некоторых случаях, звук Рихтера. Он был такой "прямой и туповатый" иногда. А рояли уже давно выпускались роскошные, выплескивающие через злато-лакированный край роскошь звучания и бархатистость оркестровки, – и блаблабла.
А Рихтер мог играть какой-нибудь третий этюд Шопена так, что от благородства и бархатности просто под ложечкой млело и замирало, – а потом концерт Гайдна – таким прямым, нарочитым и "лысым" каким-то звуком, – и, боже мой, сколько было в этом смысла, и как отворачивались в конфузе поклонники Гилельса, у которого все было стилистически-удобоваримо. (Не надо меня записывать сразу в тупые "антигилельсовки", – я обожаю Гилельсовские сонаты Скарлатти, 27-й концерт Моцарта и многое другое, что довелось послушать). Но то, что делал на современном рояле с Гайдном Рихтер, – было в сто раз круче, чем некоторые делают на молоточковых фортепиано и на прочей ветоши.
В нашей антирелигиозной семье Рихтер был чем-то вроде экзистенциального божества. Мы ходили просто на все его концерты, до которых могли дотянуться, в силу территории и возраста. Бабушка, Баб-Василь, была знакома с ним лично, и у нас в архиве хранятся несколько совместных фотографий (сканер не работает!), а также счастливых открыток, написанных С.Т.Р., как он подписывался. Но бабушка ездила только на заранее согласованные, с приглашением жены Рихтера, Нины Львовны, концерты, на вызванном такси и после того, как ее около газовой плиты завьет ее личная парикмахерша, Анна Яковлевна. (Вот же, вспомнила!)
Няня моя, деревенская и православная, относилась к этому культу, как "к блажи”. Бывало, отвечала на телефонные вопросы: "Да опять пошли на своего Рихмана”.
Мама и папа могли поехать и в неуставное место, в музей или в школу. (Рихтер как-то возвращался из Японии на машине, играя просто во всех возможных местах. Возил с собой настройщика, Артамонова, который делал чудеса из инструментов, на которых, по анекдоту, "сам Шопен отказался играть. Рихтер считал, что какой рояль ни достался, – такова судьба. Все его "отмены" и "переносы" не были связаны с роялями совершенно, – просто С.Т.Р. плохо вписывался в современную систему распределения залов и ангажементов на несколько лет вперед, о чем он говорит в фильме Монсенжона "Enigma" (Тайна), в нашем прокате: "Рихтер непокоренный".
Как-то раз, в 1981-м году, когда все мы очень боялись, что в Польшу войдут наши подлые танки, Рихтер давал концерт в БЗК, а на бис сыграл 12-й этюд Шопена, у которого есть неофициальное название «Революционный» или «На взятие Варшавы». Моя пламенная мамочка тогда, в шестом ряду партера, вскочила, призывая всех тоже встать и протестовать. Но никто больше не встал, только сочувственно поёрзали, и саму мамочку стали из задних рядов дергать за юбку, дескать, не превращайте прекрасное в демонстрацию... А жаль – Рихтер, я верю, точно именно это самое и имел в виду!
Хотя вот мне, вчера в телефильме, понравилось замечание Башмета, "Рихтер не был антисоветчиком: он был просто против всяких правительств вообще!"
Думаю, что так.
А я – так просто на все концерты ходила. Кажется, ни одного не пропустила. Как-то раз даже заболела его постоянная ассистентка, и меня, которая часто переворачивала ноты пианистам в концертах, попросили "перевернуть" Рихтеру. Слава Богу, потом ассистентка ожила, и не пришлось. Потому что это очень страшно могло бы быть: совместить мое идолопоклонство с трезвой необходимостью "перелистнуть" в нужный момент.
У меня бы просто лопнуло сердце.
Как-то раз, я уже писала про это, родители взяли меня с собой на выставку коллекции живописи, которую собирал С.Т Р. и которая была в его квартире. Я, надо сказать, совершенно не из любительниц "постоять рядом с предметом поклонения". Скорее, наоборот, – быть подальше и обожать заочно.
Поэтому, когда кто-то предложил мне спросить у самого С.Т. – «а зачем роялю третья педаль?» – я была в ужасе. (Мне было лет 11)
Но спросила.
Рихтер не только ответил, но и сыграл пример, сев за один из роялей.
Ничего не помню: что был за пример,., и педалью этой дурацкой никогда потом не пользовалась. (А кто-то пользуется из знакомых профессиональных пианистов?).
Потом, когда мне было лег 20, я брала уроки у его первой "дамы сердца", изумительной учительницы английского. Помню, только войдешь к ней – начинаются монологи на английском из "Макбета". Кошку отправляли сразу "ин экзайл", потому что у меня была аллергия на котов, и В.И. вела изумительные и потрясающие уроки-лекции, перебиваемые ее воспоминаниями о том, какой Рихтер был в юности. А он был совершено прекрасным, неподражаемым, обаятельным, способным на чудачества и бесконечно жизнелюбивым. И поэтому В.И., которой так и осталось навсегда 19 лет, восприняла фильм Монсенжона, (мною очень любимый) где С.Т.Р.– старый, депрессивный, истощенный, очень грустный и недовольный собой, – очень непримиримо. Она помнила, как они его проводили после войны на гастроли, где он узнал, что его обожаемая мать изменила отцу, как в Гамлете, а отец был расстрелян русскими чекистами. В Рихтере, как она говорила, тогда что-то навеки сломалось, и у него, в момент встречи на вокзале, было уже совершенно другое лицо, это был другой человек – и все пропало.
То есть – их любовь и прочее счастье. . .
И потом он покинул В.И. и женился на Н.Л, чего, конечно милая, талантливая и добрая, хоть и "куку", Вера Ивановна, не простила...
Но я-то знала и Н.Л., его жену! И знала – какой совершенно уникальный и абсолютно изумительный ансамбль «певец-пианист» они составили вдвоем. Пожалуй, до их ансамбля просто такого не было: такого паритетного, равного слияния вокалиста и инструменталиста, таких смыслов, таких передач, взаимопонимания музыкального, таких прекрасных интерпретаций...
Больше всего люблю "Как сладко с тобою мне быть" и "Не называй ее небесной"...
И Веккерлена тоже.
И "Вертоград" Даргомыжского!
Это вся моя юность, боюсь что-то забыть, затереть – в глупых и поспешных, но искренних словах.
Никого я так не обожала, как его.
Помню, как хоронили. Он лежал в Итальянском дворике, и мы все прощались.
Не могу смотреть на людей в гробу.
Потом, у входа в музей, его погрузили в элегантный тёмный катафалк, захлопнули – и увезли. Я, помню, про себя горестно сказала: "увозят от нас нашего Рихтера". И рыдала.
И никогда – ни до этого, ни после – не было в толпе такого количества любимых и близких, замечательных, крупных, значительных, умных и чудесных людей.
Екатерина Поспелова
"Что видно с балкона"
Сборник рассказов.
Издательство za-za.
Наум Бродский
Нюансы музыкальной Москвы
(цитаты из книги)
(Наум Маркович Бродский - пианист-солист, окончил Московскую консерваторию у профессоров А. Гольденвейзера и Г. Гинзбурга. )
Стр.31:
Стали выпускать на зарубежные гастроли ведущих исполнителей, но с сопровождением. Рихтера сопровождал директор Московской филармонии Белоцерковский…
--------------------------------
Стр.122-123
Г.М.Коган написал 6-7 книг. По всеобщему признанию, это лучшие книги о музыке. Одна из них – «У врат мастерства» - привлекает внимание людей разных профессий как глубокое психологическое исследование настойчивого, целеустремленного творческого поиска. Из предисловий к его книгам узнаем, что многие из лучших исполнителей, не будучи его учениками, считают себя таковыми. Среди них – Гилельс и Рихтер.
--------------------------------
Стр.152
Вспоминаю, как Рихтера, уже прославленного музыканта, заставили играть на всесоюзном конкурсе.
В Малом зале полно людей. Стать негде. А Рихтер не пришел. Железный закон бюрократизма: не явился – значит выбыл, - здесь не сработал. Его вынудили прийти на другой день. Говорили, что он согласился под давлением Нейгауза, не желая его подводить.
--------------------------------
Стр.224
К слову, Рихтер стал выступать после войны. Играл много и при аншлагах. Но властями не замечался. Только в дни гастролей в США, то есть через 20, на него посыпались милости. Это факт.
--------------------------------
Стр.228
…О Рихтере, с которым, начиная с его приезда в Москву в 1937 году, мы были на одном курсе. В годы нашей учебы иллюстрации по истории музыки и анализу форм обычно играл Слава Рихтер. Все это читалось с листа и звучало просто захватывающе. Часто раздавались аплодисменты. Возникала атмосфера концерта. Я заметил, что впервые исполняемое он играл более увлеченно, чем произведения, над которыми работал. Партитуры он играл так же феноменально, как изложения для фортепиано. Был он прост, обаятелен. В нем была детская застенчивость и поразительная скромность. О себе он никогда не говорил и вообще нисколько не отличался от остальных студентов.
Курс наш оказался на редкость дружным. Мы вместе проводили время, отмечали праздники. В своем кругу и только среди однокашников.
Пришла война. Курс рассыпался. Мы получили дипломы в разное время. Но осталась дружба. Остались встречи. Они стали обязательны и святы. Собираясь вместе, мы были счастливы: как бы молодели и смеялись взахлеб, как дети.
Для меня наша встреча за месяц до выезда стала прощанием. Собрались мы тогда на новой квартире Рихтера. Он стоял у двери в цилиндре и каждого встречал пистолетным выстрелом. Это был салют. Ко мне подошел Леня Живов. Сказал: «Как ты можешь уехать, оставив то дорогое, что мы имеем?» Стало тяжело до слез. Я не мог ответить.
Продолжаются встречи… Почта приносит письма и фото… Идет время. Уходят люди. Стареют лица. Грустно… Недавно пришло приветствие от Славы Рихтера: «Старого одноклавишника нашего удивительного курса…»

Фишер-Дискау Д. Отзвуки былого: Размышления и воспоминания.
М.: Музыка, 1991.
Я уже рассказывал о том, какую особенную радость испытываю, вникая в концепции Святослава Рихтера. У этого пышущего энергией, иногда по-львиному завораживающего публику русского мать живет в южной части Германии - поэтому его контакты с Западом теснее, чем у других советских музыкантов. С тех пор как французы организовали для него его "собственный" фестиваль, он стал чаще всего выступать во Франции. Рихтер ценит эту страну еще и за то, что там "молодые люди так красиво кричат", - должен сказать, что я тоже люблю это акустически усиленное и потому более ощутимое выражение успеха.
После длительных переговоров с советскими должностными лицами, бесконечных уточнений, которые по своей сложности напоминали покупку коровы, мы наконец получили возможность выступить с совместными концертами в Советском Союзе. Тогда я и узнал Рихтера как легко ранимого, чувствительного человека, которому, как и его жене Нине Дорлиак, в прошлом знаменитой камерной певице, труднее, чем многим, продираться через все превратности судьбы. В невзрачной жилой башне ему удалось получить две смежные квартиры, сломать стены - так, что это производит теперь впечатление известного размаха и благополучия. Рихтер регулярно устраивал там небольшие выставки живописи и рисунка. Я попал как раз на одну из них, где были выставлены изображения его, ближайших друзей и членов семьи, среди которых мне запомнились ценнейшие рисунки Репина и Кокошки. Там я встретил вдову незадолго до того умершего композитора Дмитрия Шостаковича и скрипача Гидона Кремера, с которым мы говорили о бедах замкнутой музыкальной жизни в Советском Союзе, стоя перед огромными окнами с великолепным видом на Москву. Когда во время следующей репетиции на фоне той же самой панорамы я спросил Рихтера об истории некоторых домов, которые видны из окна, он с глубокой грустью в голосе ответил:
- Это мало кого у нас интересует...
Чередование уныния и собранности, это специфическое проявление русской души, отличает и Рихтера. Когда мы с ним и с Ниной ехали в одной машине к концертному залу и поровнялись с массами людей, которые, не имея билетов, запрудили всю улицу и не давали проехать автомобилю, Рихтер от ужаса сжался. Как раз в это время великолепный Большой зал Консерватории ремонтировали, и нам пришлось давать концерт в акустически мало приспособленном помещении, построенном в сталинские времена. Однако это не могло выбить Славу из седла, он играл, как всегда, безупречно. Подчеркну: как всегда, потому что я никогда не слышал у него ни одной фальшивой, ни одной пропущенной ноты. Игра его обладает какой-то несотворенной, строго очерченной красотой, всякий раз меня ошеломляет, как Рихтеру удается расположить в абсолютном единстве отдельные плоскости звучностей. Добавлю, что это происходит и в труднейших условиях акустики огромного средневекового амбара в Туре, в котором песчаный пол убивает в зародыше любой отзвук. Радость Славы, если концерт удался, приобретает буйные формы, его уныние по поводу чуть менее удачного концерта граничит с трагедией. Его поразило в самое сердце, что более консервативная ленинградская публика признала концерт с песнями Хуго Вольфа слишком трудным, слишком "современным".
Фишер-Дискау Д. Отзвуки былого: Размышления и воспоминания.- М.: Музыка, 1991.
Валентин Семенович Максименко
«Семья С.Т.Рихтера и Одесса» (Одесса, "Астропринт", 2001, 59 с.):
https://drive.google.com/file/d/1JtRz0b5Pxojvsyq-aimbNs6j3u7sJYrc/view?usp=sharing
«Святослав Рихтер. Страницы одесские и не только» (Одесса, "Астропринт", 2003, 207 с):
https://drive.google.com/file/d/1wSs_2KgqTXp3S4JmjDgxHV2kk2AtjdVk/view?usp=sharing

Карл Расмуссен. "Святослав Рихтер".
Автор и его окружение претендуют на право считаться наиболее правдивой книгой о жизни и деятельности Святослава Рихтера. "Правдивость" заключается в попытке подсматривания за личной жизнью. Не всем Рихтер делился с друзьями, поэтому незачем посторонним вторгаться в его личную жизнь. Такова ментальность культурного воспитанного человека.
Даю информацию об этом издании на своем сайте, не разделяя подхода автора.
Музыкант Рихтер и художник Дронников / [текст И. Потоцкий, Н. Дронников ; рис. Н. Дронников]. - Одесса : Друк, 2008. - 67, [2] с. : ил., ноты, портр.; 20 см.; ISBN 978-966-2907-96-4.
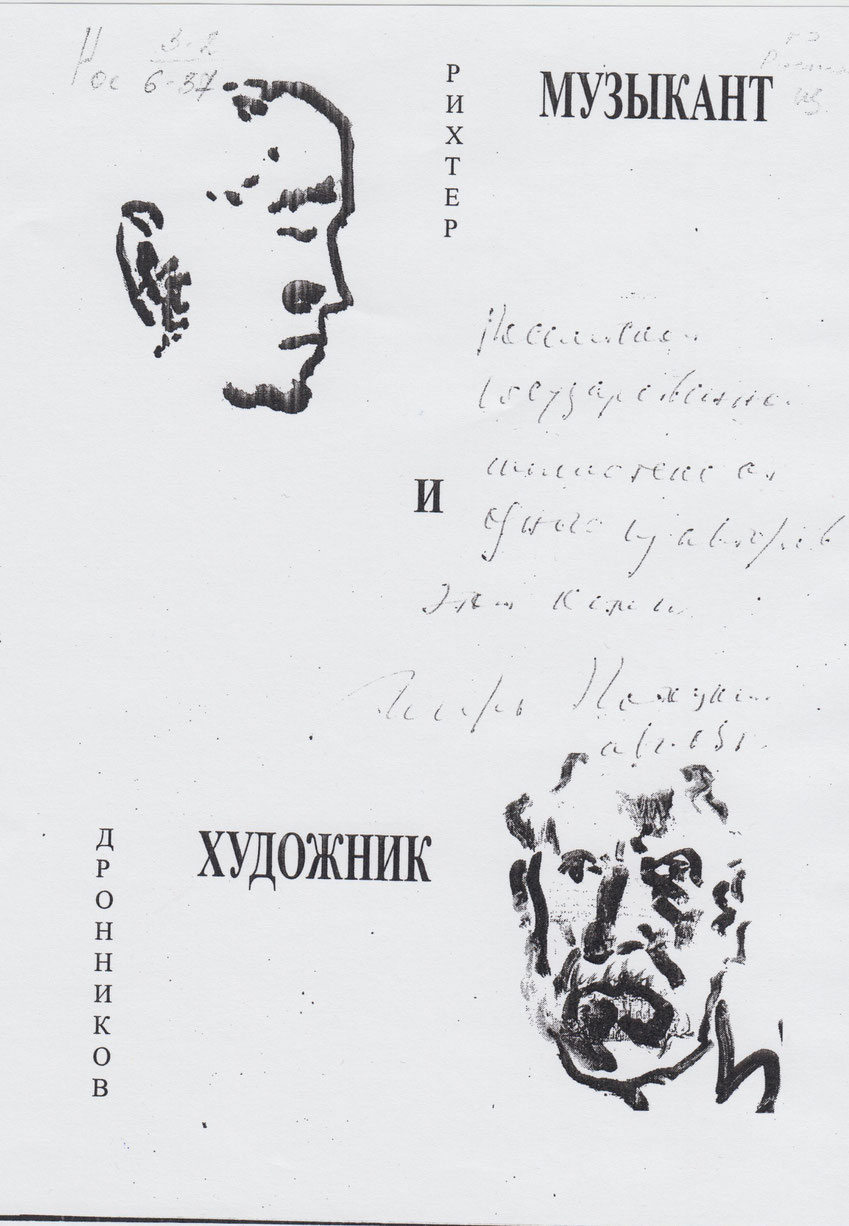
С. С. ПРОКОФЬЕВ И Н. Я. МЯСКОВСКИЙ
Переписка
ВСЕСОЮЗНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ КОМПОЗИТОР»
Москва 1977
432. H. Я. МЯСКОВСКИЙ — С. С. ПРОКОФЬЕВУ 23 марта 1943 г. , Москва
Дорогой Сергей Сергеевич.
Посылаю телеграмму Гаука.
Еще раз поздравляю адски горячо. Самое главное — пробита брешь в заговоре молчания и незамечания. В остальном есть небольшая наша вина: мы упустили Рихтера (он где-то в далекой поездке) и для высокого начальства Вашу сонату играл Вальтер! Это, наверно, было типичное «не то». Обнимаю Вас. Скоро напишу письмо в ответ на Ваше с разными сообщениями о московской музыкальной жизни, которая пока, впрочем, довольно жалка. 21-го бетховенцы немного наспех сыграли 8-й квартет, который произвел некоторое впечатление. Та часть, которая не нравилась Вам (Adagio), несмотря на «крайнюю выразительность», не понравилась и мне самому; оказывается, я в ней не узнал самого себя. Это довольно красиво, но «не мое».
Сердечный привет Мире Александровне. Зачем Вы выбросили в Московской картине «В[ойны] и мира» песенки французов? Это для «оперы» очень было необходимое пятно. Я ругаюсь с Шлифштейном по этому поводу.
Ваш Н. Мясковский
Обнимаю Вас.
23/1II 1943
К письму 432
1 19 марта 1943 г. С. С. Прокофьев был удостоен Государственной премии второй степени за Седьмую сонату для фортепиано. Эта соната, задуманная еще в 1939 г., была завершена весной 1942 г. и издана Музгизом в 1943 г. Седьмая соната исполнялась С. Т. Рихтером в Москве 14 января 1943 г. в закрытом концерте Совинформбюро. Публично впервые была исполнена в Москве С. Т. Рихтером 18 января 1943 г. и повторена 23 января в первом концерте цикла «Выставки советской музыки». Н. Я. Мясковский был членом комитета по Государственным премиям СССР (в 1939—1961 годах назывался Комитетом по Сталинским премиям, поэтому Н. Я. Мясковский и называет его Сталинским комитетом) и потому сообщал, что для показа Седьмой сонаты Комитету был приглашен Н. Г. Вальтер.
439. Н. Я. МЯСКОВСКИЙ — С. С. ПРОКОФЬЕВУ 29 июня 1943 г. , Москва
Недавно Рихтер в своем концерте в Большом зале сыграл 4-ю и 7-ю сонаты Ваши2. 4-ю так себе, а 7-ю отлично, особенно Adagio. На 4-ю ему не хватило зрелости, потому она вышла клочковато.
К письму 439
2 Четвертую и Седьмую сонаты С. С. Прокофьева С. Т. Рихтер играл в концерте 23 июня 1943 г.