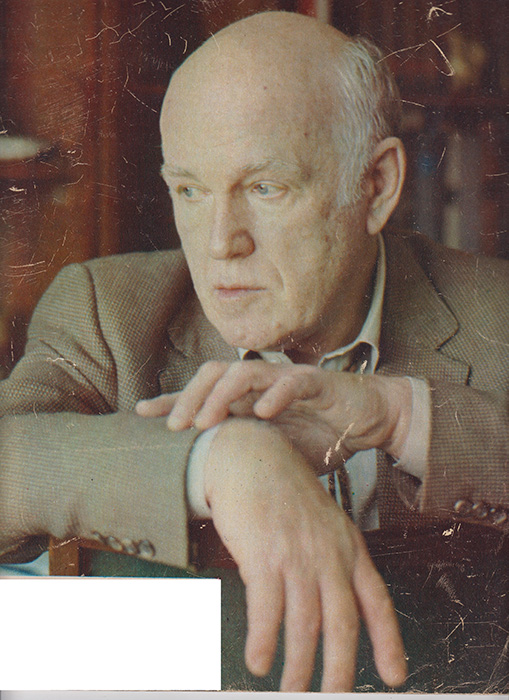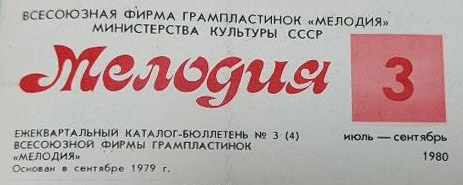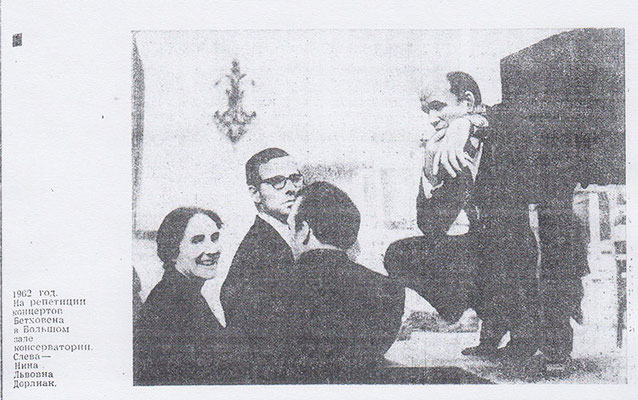1980-е
А. Скавронский. "Ценности, принадлежащие миллионам. "«Советская музыка», 1980, №4.
Рихтер на Всесоюзной студии с представителями "Ямаха". "Мелодия", 1980, № 3, июль-сентябрь.
Мысли о Рихтере. А.Золотов. «Культура и жизнь», 1980, №10.
Александр Корнеев. Интервью (фрагмент). Музыкальная жизнь, 1980, № 16, август.
Фото В.Киврина. "Советский союз", 1981, №7.
Н.Л.Дорлиак. "В дуэте с Рихтером". Журнал "Юность", 1984, №1.
М.Г.Нейгауз. "Святослав Рихтер в семье Генриха Густавовича Нейгауза" + аудио запись. В книге "Вспоминая Святослава Рихтера". М.: "Константа", 2000 г.
Г.М.Цыпин. Отрывки из беседы с О.Каганом и Н.Гутман. (80-е г.г.)
Ю.А.Башмет. "Вокзал мечты". Фрагмент книги.
Б.А.Покровский. "Только ли пианист?" Нет, не только!
Евг. Эпштейн. МУЗЫКА – МОЕ ВДОХНОВЕНИЕ. «Музыкальная жизнь», 1980, №24 (интервью Д.Н.Журавлева).
Квинтет Шостаковича. Музыкальная жизнь, 1981, № 22, ноябрь.
Медаль Белы Бартока. Музыкальная жизнь, 1982, № 4, февраль.
Р.. Шато. Совершенный пианист. Беседа со Святославом Рихтером. Musica, 1982.
Арк.Петров. "Феномен Рихтера". «Клуб и художественная самодеятельность», 1983, №7.
П. Белый, Л. Бежин. "Диалог о Рихтере", «Советская музыка», 1983, №11
О РИХТЕРЕ. «Юность», 1984, №1. Н.Зимянина, Н.Дорлиак, И.Антонова, Н.Гутман, О.Каган, Г.Писаренко, В.Лобанов, Ю.Башмет, И.Бобровская.
Нина Львовна Дорлиак. "В дуэте с Рихтером".
Иннокентий Попов. "Пианист века". "Культура и жизнь", 1985, №3.
Святослав Рихтер. Альфред Гарриевич Шнитке. Музыка в СССР. - 1985. - Июль-сентябрь. - С. 11-12.
Le Monde de la Musique - 1985
Юрий Нагибин; «Воспитай в себе чувство прекрасного» (фрагмент). Музыкальная жизнь, 1985, № 20, октябрь.
Хитрук А. Проблемы «новой» личности или нового творчества. «Советская музыка», 1986, №3. Фрагмент.
Л.Е.Гаккель. «Уроки». «Советская музыка» (фрагмент), 1986, №6
Музыка от «А» до «Я». Музыкальная энциклопедия для детей. Музыкальная жизнь, 1987, № 4, февраль.
«Русская зима». Музыкальная жизнь, 1987, № 5, март.
Д.Кабалевский. Из воспоминаний разных лет. Четырехручие. «Музыка и ты», Выпуск 7. Альманах для школьников,
Москва, «Советский композитор», 1988.
Марина Влади. Фрагмент из воспоминаний «Владимир, или прерванный полет». «Ровесник», 1988, №11.
С.Хентова. Неудача никогда меня не обескураживала. «Аврора», 1989, №2.
Л. КАНЕВСКИЙ. СВЯТОСЛАВ СТАНОВИТСЯ СВЕТИКОМ. «Музыкальная жизнь», 1989, №16.
Софья Михайловна Хентова. Святослав Рихтер. Из книги “Любимая музыка”. Изд. “Музична Украина”, Киев, 1989.
Г.М.Цыпин. Отрывки из беседы с О.Каганом и Н.Гутман. (80-е г.г.)
Д.Н.Журавлев. "Успевал слушать, смотреть, запоминать".
А. Скавронский.
«Советская музыка», 1980, №4.
ЦЕННОСТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ МИЛЛИОНАМ
«...благодарность, восхищение, радость – вот чувства, которые испытываешь всякий раз, встречаясь с искусством этого великого артиста!..»
«...мастерство Рихтера не знает равных...» «...искусство великого Рихтера выше всяких похвал. Сегодняшний концерт – музыка Дебюсси и Равеля – это драгоценный подарок...»
«...я высказываюсь за популяризацию творчества Святослава Рихтера в любых доступных радио и ТВ формах...»
«...это праздник, о котором только можно было мечтать...»
«...первое исполнение Рихтером становится действительно первым, музыку слышишь как будто впервые...»
«...сегодняшняя передача меня потрясла. Не однажды я слушала 17-ую сонату Бетховена, а оказалось, что не знала ее. Мне в ней, да и в себе самой так много сегодня открылось. Я думаю, это произошло благодаря тому, что Вы ее исполняли, вернее, не исполняли, а жили ею...»
«...и нам, педагогам, и нашим ученикам очень важно послушать 8-ую сонату Прокофьева хотя бы еще раз...»
«...речь идет о духовных ценностях, принадлежащих всему миру, а мир будет намного беднее, если не будет в нем последних сонат Бетховена в записи Святослава Рихтера...»
«...как грустно, что уже окончились передачи. Нельзя допустить, чтобы они не были повторены в будущем...»
«...я счастлива, что у нас есть Рихтер, и я могу его слушать...»
Передо мной – толстая пачка писем, откуда взяты все приведенные выше слова. Цитировать подобные фразы можно было бы до бесконечности. Это – общее, что объединяет все письма, непохожие одно на другое: восторженные, горячие слова благодарности Святославу Теофиловичу Рихтеру, восхищенные, глубоко заинтересованные отклики людей, для которых его искусство – всегда праздник.
Снова слова благодарности – на этот раз уже в адрес Всесоюзного радио, организовавшего поистине беспрецедентную серию передач: десять музыкальных вечеров, посвященных искусству Рихтера. И в адрес автора передач – А.Золотова, нашедшего верный естественный доверительный тон для своих комментариев. Еще в этих письмах просьбы. Бесчисленные просьбы о том, чтобы цикл был повторен, чтобы работа над ним была продолжена. Каждый из пишущих обязательно перечисляет, что, самое близкое и дорогое для себя из рихтеровских программ, он хотел бы услышать в следующий раз. Подобных пожеланий столько, что даже часть из них в короткий срок удовлетворить невозможно. Тем более, что репертуара пианиста, как верно утверждает автор еще одного письма, действительно «хватит на несколько лет вперед».
Что же дают нам эти многочисленные письма, шедшие на радио то время, пока в эфире звучали передачи «Искусство Святослава Рихтера»?
Кроме еще одного, очень весомого подтверждения популярности и огромной любви самой широкой аудитории к искусству великого пианиста, письма радиослушателей дают ценный и в некотором смысле неожиданный материал для размышлений (вновь и вновь) об особенностях рихтеровского искусства, его общественной значимости, о роли и формах пропаганды музыки средствами ТВ и радио. Вот этими размышлениями мне и хотелось бы поделиться.
Среди авторов писем – представители технической и художественной интеллигенции, научные работники и педагоги, пенсионеры и домохозяйки, студенты самых разных вузов – словом, перед нами своего рода «социальный срез» значительной части нашего общества. Все мы знаем (не раз испытывали на себе) огромную, поистине гипнотическую силу воздействия Рихтера на аудиторию (недаром Гульд назвал его «одним из самых мощных коммуникаторов нашего времени»!). Но ведь подобное ощущение возникает у сидящих в зале, при живом исполнении, а радио, по идее, должно во многом нивелировать эффект непосредственного контакта, придавая ему скорее воображаемый, иллюзорный характер. Но, тем не менее, даже в радиозвучании сохраняется властная, необоримая сила воздействия игры Рихтера: огромный успех радиоцикла стал еще одним подтверждением этого.
Какие же качества исполнительства Рихтера определяют силу его воздействия? Что делает искусство гениального мастера понятным, любимым и столь необходимым для огромной и достаточно разнохарактерной аудитории? Ведь действительно, существует некий «феномен Рихтера», собирающий несметные толпы желающих любой ценой пробиться в переполненные концертные залы, заставляющий людей браться за перо и утверждать, что благодаря радиоциклу в их дом вошла радость. Секрет этого воздействия, мне кажется, в необычайной, редчайшей гармоничности искусства и самой художнической личности Рихтера. В одной из статей о своем замечательном ученике Нейгауз сказал: «... он обладает в высокой степени тем, что обычно называют чувством формы, владением временем... Соразмеренность гармонии, идущая из самых глубин классического мироощущения, гармония (да простится мне) чуть ли не эллинского происхождения – вот в чем главная его сила, главное качество...» 1.
Именно в гармоничности мироощущения, мне кажется, тайна поразительно целостного сочетания многих свойств и черт натуры пианиста, его дара, казалось бы несоединимых в одном художественном явлении, в личности одного человека.
Десять частей радиоцикла, при очень большом разнообразии программ, приводят слушателя именно к ощущению целостности и гармонии. Как мне кажется, именно такую цель преследовал Золотов, и в этом его большая удача. Серия передач построена таким образом, чтобы охватить и воплотить возможно большую сферу музыкальных интересов художника и его почитателей. Шуберт, Мусоргский и Скрябин, Дебюсси, Равель, Шуман и Брамс, Лист и Рахманинов, Глинка, Франк и Гуго Вольф, Мясковский, Шостакович и Прокофьев, Чайковский, Бах, Шопен и Моцарт, Бетховен – какое необычайное многообразие эпох, стилей, какое разнообразие жанров! И какое в то же время поразительное единство, какое удивительное сочетание в интерпретациях Рихтера глубинного познания и осмысления исторических традиций с остротой сегодняшнего, современного взгляда на музыкальное искусство. В цикле равно звучат и очень известные, всеми любимые произведения, и музыка менее популярная, из числа той, какую обычно относят к разряду «сложной для восприятия неподготовленным слушателем». И хотя это лишь «капля в море» репертуара мастера, в целом серия воспринимается как своеобразная энциклопедия его исполнительства (что еще больше подчеркивает ее подзаголовок – «Искусство Святослава Рихтера по концертам разных лет»).
Итак, цикл дает нам портрет громадной, многогранной и гармоничной, необычайно притягательной творческой фигуры. Вновь подчеркиваю, – притягательной для всех. Я думаю, любому человеку, будь он просто любитель музыки или профессионал, свойственно искать и лучше всего слышать и воспринимать в искусстве нечто родственное себе, своему темпераменту, своим душевным запросам. Если он находит это близкое – он счастлив, он понят и понимает. В искусстве Рихтера, мне кажется, любой человек, с любыми музыкальными «потребностями» найдет то, что необходимо ему. Интерпретации Рихтера ответят требованиям глубокого интеллекта и страстной эмоциональности. В них элегичность, созерцательность и неистовая энергия, тончайшая звукопись и агрессивный динамизм, философская глубина и грандиозный размах... В них неимоверное богатство и разнообразие эмоциональных проявлений, образных воплощений, состояний духа: от тишайших размышлений, самоуглубленного музицирования до колоссального напора яростной энергии, вулканической страстности. Но все это у Рихтера – «разные проявления одной сущности», они «связаны общей для них... активностью порождающего их человеческого духа. В диалектическом единстве противоположных внутренних сил заключена... «доминанта» рихтеровского исполнительства. Именно отсюда проистекают свойственные искусству Рихтера объемность, широкоохватность, шекспировского толка многоплановость» 2.
Пастернаковские строки:
Во всем мне хочется дойти
До самой сути...
……………………………..
До оснований, до корней,
До сердцевины –
могли бы служить эпиграфом к его творчеству. Позволю себе небольшую «автоцитату» (в связи с шубертовскими концертами 1978 года я попытался поразмышлять о том, что есть для Рихтера сам процесс музицирования): «Рихтер выходит на сцену не для того, чтобы доставить удовольствие слушателям, поразить их или потрясти. Не только для того, чтобы выразить свое отношение к исполняемому (ибо здесь не ощущаешь дистанции между своим и не своим), и еще менее для самовыражения (во всяком случае – явного) – такой процесс, как мне кажется, совсем чужд ему.
Музицирование Рихтера – титанический акт постижения глубинных основ жизни, выраженной в музыкальной материи. Процесс постоянных поисков истины... Именно поэтому Рихтер всегда разный, и именно в этом он един, он всегда – Рихтер»3.
Все беспредельное богатство его внутреннего мира, все то «диалектическое единство противоположных внутренних сил», которое так характерно для его исполнительства, – все это зиждется на глубочайшем и мощнейшем фундаменте гармоничного классического мироощущения, о чем так прекрасно говорил мудрый провидец Г.Нейгауз. В этом мироощущении, мне кажется, равное место принадлежит разуму и инстинкту, уму и сердцу. И это единение дает художнику-творцу высшую всеохватную мудрость, которая позволяет ему как бы взглядом сверху охватить и принять Жизнь во всей ее полноте и многосложности, драматических противоречиях, в прекрасном и трагическом. Но принимая, он не уходит от противоречий, не сглаживает их. Наоборот, с предельной силой и страстностью художник вскрывает жизненные коллизии в их музыкальном отражении, а затем возводит их к высшему синтезу в совершенных формах исполняемых произведений.
Но, разумеется, нельзя забывать о гигантском, поистине космическом мастерстве Рихтера. Ведь не только любые художественные задачи, поставленные композитором, но любые всплески рихтеровской фантазии, его необъятного воображения, потрясающего образного, ассоциативного (видения» музыки, его мышления, наконец, – все это мгновенно, как по волшебству, находит самые нужные для своего воплощения средства.
Опять единство, абсолютная гармония художественных целей и средств воплощения!
Рихтеровская фразировка лишена черт индивидуалистического своеволия, выражающегося, в конечном счете, в постоянных нарушениях «ритмической арифметики» (по таким нарушениям мы привыкли отличать индивидуальную интонацию исполнителя, так называемое речевое интонирование). Его же речь проста и строга. Рихтер произносит фразу очень ровно, ритмически чрезвычайно точно. Но прислушайтесь, и вы обнаружите богатейший ритмический и динамический микрорельеф текста. Так, при взгляде через увеличительное стекло на гладкой и, казалось бы, однородной поверхности вдруг проступают многочисленные детали.
Здесь уместно сказать несколько слов о piano в искусстве Рихтера. В комментариях к шубертовской программе А.Золотов специально обращает внимание радиослушателей на эту – столь важную – особенность его исполнительского стиля. Рихтер «не побоялся быть монотонным в оттенках piano и pianissimo» – говорит комментатор. Добавим: художник добивается в piano такого богатства и разнообразия, таких тончайших нюансов, которые воспринимаются как существующие на пределе возможного. При всем совершенстве аппарата, позволяющего достигать в piano поразительных эффектов звучности, основное заключено здесь в необыкновенной изощренности слуха, в тончайшей психологической проработке музыкальной ткани. Каждый звук «нагружен» до предела! Перевод одного звука фразы в другой – задача первостепенной важности! Художник словно обнажает музыкальную мысль, убирая на поверхности лежащую эмоциональность. Он ничего не утрирует, ничего не выделяет специально (ведь ни краски, ни детали сами по себе еще ничего не решают – абсолютное подчинение всех элементов воплощению идеи, концепции целого, высшему духовному синтезу), строго придерживаясь авторского текста, не «проясняет» авторского замысла и не «поясняет» музыку, стремясь стать более понятным. Простота мастера так далека от упрощенности, когда интерпретатор опускается до уровня среднего слушателя, облегчая ему восприятие. Эта высшая простота мудрости, безусловно, той же природы, как та, о которой говорил Шопен применительно к игре Листа: «Итак, мое мнение, по-видимому, справедливо. Последней приходит простота (разрядка моя. – А. С.). После того, как исчерпаны все трудности и сыграно великое множество нот и еще нот, является простота во всем ее очаровании, как последняя вершина искусства. Тот, кто хочет прийти к ней сразу, никогда не добьется этого, – нельзя начинать с конца. Надо много трудиться, проделать огромную работу, чтобы достичь этой цели...»4. Рихтеровская простота – это совершенно особая эстетическая категория, достойная специального рассмотрения.
Несколько слов в адрес инициатора, автора и комментатора цикла А. Золотова. Несомненно, его работа заслуживает горячего одобрения и поддержки. Золотов уже многие годы занимается творчеством выдающегося мастера (вспомним хотя бы серию телефильмов «Играет Святослав Рихтер» или фильм «Хроники Святослава Рихтера» – особую удачу автора). Причем, как правило, делает он это нестандартно, творчески интересно. Нельзя забывать и о том, что кое в чем музыковед идет «нехоженными путями», если не ошибаюсь, наше вещание крайне редко ставит перед собой задачи подобного «широкоформатного», многосерийного «портретирования» великих советских исполнителей (некоторые недостатки названных телефильмов – спорные съемочные решения, возможные недоделки в сценарном плане, о которых могут дискутировать профессионалы, на мой взгляд, надо воспринимать как издержки новизны жанра).
Радиоцикл несомненно составлен с учетом особенностей восприятия музыки по радио: комментарий здесь, как мне представляется, должен занимать несколько большее место, нежели в телевизионной передаче, чтобы компенсировать отсутствие зрительного ряда, зрительских впечатлений. Впрочем, соотношение музыки и слова – дело, в первую очередь, авторской интуиции. В целом Золотова она не подводит. Отклики слушателей – неоспоримое свидетельство верности найденных решений. Хочется отметить и мягкую, естественную манеру обращения к радиослушателям, также отмеченную ими в письмах.
Содержание комментариев соответствует задачам, которые поставил перед собой автор. Текст напрочь лишен специфических «музыковедческих» штампов, красивостей и казенных оборотов, а редкие шероховатости (быть может, не всегда отточенные формулировки), время от времени встречающаяся «разговорная» речь только придают всему еще большую достоверность сиюминутного общения.
Нет возможности (да и необходимости) подробно разбирать комментарии к каждой из десяти передач цикла. Они квалифицированны; даже в тех случаях, когда Золотов говорит о чем-то общеизвестном, ему удается окрасить это индивидуальной интонацией. К примеру, автор неоднократно подчеркивает идею объективной сущности рихтеровских интерпретаций (наиболее «откровенно» она заявлена в тексте передачи о Мусоргском). «Рихтер, – говорит Золотов, – является ярчайшим представителем того, что можно было бы, конечно, условно, назвать «объективным искусством». Когда слушаешь Рихтера, не думаешь о нем самом, и очень быстро забываешь о нем самом, и является тебе Мусоргский, как объективная реальность, как мир. Вы входите в этот мир. А дальше все очень просто, дальше все очень естественно...». Разумеется, идея «отождествления» применима не только к сочинениям Мусоргского. Мне представляется, например, что и в шубертовской программе путеводной нитью стал для Рихтера образ творца. Быть может, это самый дух музыки, муза Шуберта в ее идеальном воплощении.
Отсюда – известная «надличность» высказывания, обобщенность страсти, космичность контрастов. Мне приходилось слышать от некоторых ценителей музыки, что в исполнении Шуберта им хотелось бы большей сердечности, задушевности, словом, движения «от сердца к сердцу». Но образ идеальный не может ведь быть слишком индивидуален...
Вполне допускаю, что какой-нибудь другой музыкант мог бы составить цикл иначе и иначе его прокомментировать. Наверняка найдутся люди, желающие услышать (или сказать) о Рихтере что-то другое и по-другому. Но главное, и это ощущает любой радиослушатель, ощущает и в комментариях, и во всем построении цикла, как сквозной его подтекст, – неподдельная, искренняя любовь к Рихтеру, его большому искусству, к музыке.
Мне хочется присоединиться к содержащимся в письмах многочисленным просьбам, даже требованиям в адрес радио, чтобы передачи о Рихтере продолжались. Но, может быть, стоит подумать о каких-либо иных формах показа его творчества? Уверен, что и сам А.Золотов, и сотрудники музыкальной редакции радио уже думают об этом. Именно потому позволю высказать и несколько своих соображений. Прошедший цикл позволил широко охватить искусство Рихтера. В будущем можно было бы разрабатывать циклы передач по стилям, жанрам, формам, историческим эпохам, национальным школам. Творчество крупнейших композиторов мира может быть представлено по периодам, тогда оно прозвучит гораздо полнее. Судя по письмам радиослушателей, они будут только благодарны музыкальному вещанию за доверие к их способности воспринимать музыку все более углубленно. Вполне естественно, что подобное объемное «портретирование» впервые было связано с именем Рихтера. Но ведь у нас есть Гилельс! У нас был Софроницкий, были Оборин и Гинзбург, Нейгауз и Гринберг, Юдина и Зак и другие выдающиеся пианисты, пользовавшиеся огромной популярностью и любимые по сей день, оставившие большое число записей в радиофондах и несомненно также достойные внимания. Убежден, что циклы передач о каждом из этих музыкантов были бы встречены радио- аудиторией с восторгом. Ведь все названные имена – наша слава, гордость и величие советского фортепианного искусства, о чем забывать нельзя.
И вообще, хорошо, если бы в программах радио появилась постоянная рубрика, посвященная советским пианистам! Рубрика, которая будет выходить в эфир в определенный день, определенный час и, не сомневаюсь, быстро завоюет армию поклонников-слушателей. Вот была бы настоящая школа – радиошкола фортепианного мастерства.
Искусство Святослава Теофиловича Рихтера – наше национальное достояние. Всякое появление его в концертном зале – большое, волнующее событие музыкальной жизни страны. Десятикратные же встречи Рихтера с многомиллионной радиоаудиторией – событие большого общественного значения, важное явление в духовной жизни многих и многих людей. Искусство Рихтера, при колоссальной эстетической ценности его, несет в себе и огромную этическую силу, ибо это искусство глубоко гуманистическое, воплощающее прекрасные общечеловеческие идеалы. Его популяризация – дело государственной значимости, особенно сейчас, когда в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» вновь прозвучал призыв к обновлению форм пропаганды. Только умная, талантливая популяризация настоящего высокого искусства, отвечающая требованиям времени, может противостоять чрезмерному увлечению модными эстрадными жанрами, которое дает о себе знать и в программах теле- и радиовещания.
Цикл «Искусство Святослава Рихтера» именно такая работа. Радиослушатели с нетерпением ждут ее продолжения.
1 Г. Нейгауз. Избранные статьи. М„ 1975, с. 241.
2 Д.Рабинович. Портреты пианистов. М.,1962, с.251
3 А.Скавронский. Рихтеровские шубертиады. «Советская музыка», 1978, №9, с.70.
3 Шопен. Письма, т. 1. М., 1976, с. 456.
А.Золотов.
«Культура и жизнь», 1980, №10
Мысли о Рихтере
Наверное, каждый, кто слышал игру Святослава - Рихтера по радио или в грамзаписи, пытался представить себе этого гипнотически воздействующего человека и артиста. Те же, кто бывал в его концертах или прикоснулся к его искусству благодаря телевидению, ощущают его «реальное» присутствие в своей внутренней жизни постоянно.
Пианист Святослав Рихтер – уникальный художник нашего времени, один из тех немногих музыкантов, чье искусство олицетворяет лучшие достижения человеческого гения.
В силу своей творческой уникальности Рихтер удивительно просто и естественно передает нам живое ощущение музыки. Композиторы XX века (достаточно назвать имена Прокофьева, Шостаковича, Белы Бартока, Бенджамина Бриттена, Пауля Хиндемита) нашли в искусстве Рихтера такое же правдивое и возвышенное воплощение, как Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен, Шуман, Брамс, Шуберт. Или Мусоргский, Чайковский, Рахманинов, Скрябин. Репертуар Рихтера огромен, практически бесконечен. Но при этом, по его собственным словам, он не играет ту музыку, которая ему не нравится.
Каждый концерт Святослава Рихтера, которому в марте 1980 года исполнилось шестьдесят пять лет, – не только артистическое откровение. Это нечто большее, чем артистизм, нечто большее, чем исполнительский процесс, и даже нечто большее, чем музыка. Это – сама правда, сама истина, сама жизнь. Через Рихтера проходит и приходит к нам та правда о ней, которую чудом выразили в музыкальных произведениях великие мастера прошлого и крупнейшие мастера сегодняшнего времени.
Одна из самых больших радостей, отпущенных нам в жизни,– слушать музыку Святослава Рихтера, думать о нем, сознавая необычайность и необходимость «его музыки» для нашей жизни, нашей культуры.
Он родился на Украине, в Житомире, в 1915 году. Вскоре семья переехала в Одессу. Отец, музыкант глубокой эрудиции, пианист и органист, преподавал в консерватории. Но сын, занимаясь музыкой под его началом, занять место в консерватории не спешил. Его становление как художника и человека шло самостоятельным и, как теперь ясно, единственно правильным для нето путем. Он любил сидеть за клавирами опер, мечтал о дирижировании, работал концертмейстером в Одесском оперном театре. В двадцать два года он решил стать пианистом и приехал в Москву, к профессору Генриху Нейгаузу.
В 1945.году Святослав Рихтер с золотой медалью окончил Московскую консерваторию и удостоился первой премии на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. Сегодня народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда Святослав Рихтер – гордость отечественной музыкальной культуры, легендарная личность в исполнительском искусстве XX столетия. Только ли степенью совершенства исполнения, только ли удивительной природной организацией, редчайшей «приспособленностью» к фортепьянному творчеству определяется столь уникальное место рихтеровского искусства? Или невероятной обширностью репертуара, который все пополняется? Или неудержимой внутренней работой – ведь Рихтер каждым своим концертом ставит перед нами все новые задачи, не позволяет стоять на месте? Достаточно пропустить несколько его выступлений и уже чувствуешь, что ты «отстал», «отключился», не соответствуешь тому уровню общения, который тебе предложен.
Когда пытаешься объяснить (хотя бы самому себе) самое главное в искусстве Рихтера, приходишь к видимому парадоксу: Святослав Рихтер – это не пианист, совсем не пианист! Но кто же?
Художник? Поэт? Артист во всеобъемлющем смысла этого слова? Мыслитель в искусстве? Да. Всесторонне и мощно одаренный музыкант, потенциальный композитор, дирижер, творец музыки? Да.
Художник в изначальном значении, живописец? Тоже да.
И все это счастливо высказалось одним – гением Рихтера-пианиста.
Учитель Святослава Рихтера Генрих Нейгауз – музыкант, соединивший в себе исключительную культуру и необычайно живой ум, – любил повторять, что после концертов Рихтера «чувствуешь себя очищенным...». И это правда. Такое чувство испытывают едва ли ни все, кому довелось слушать Рихтера.
Он погружается в музыку и погружает в нее своих слушателей. Я не стану утверждать, что Рихтер растворяется в музыке и исчезает как личность. Но он настолько соединяется с нею, настолько проникает в ее существо, что рождается нераздельное органическое целое, вбирающее в себя дух и энергию творца и исполнителя.
Рихтер выходит на сцену из своей большой жизни. Минуты концерта – своеобразное окно, через которое мы можем приблизиться к этому необыкновенному человеку, который весь обращен к людям и к музыке.
Ощущает ли Рихтер зал, когда он играет? Наверное, да. Безусловно да.
Играет ли он специально для людей, которые сидят в зале?
И на этот вопрос можно ответить утвердительно.
Но в то же время Рихтер играет для самого себя. Он играет для Музыки. И его контакт с залом осуществляется несколько необычно. Мне кажется, что он воспринимает зал обобщенно, как нечто единое, как некоего слушателя, которого предполагает сама музыка, самый процесс музыкального исполнения.
Рождается музыка... И первым человеком, который, вызвав к жизни, слышит ее, является сам артист. Может быть, поэтому в рихтеровских концертах особое приглушенное освещение. Ему надо вслушаться в трепетность музыки, и никто и ничто не должно мешать ему. Зал должен слушать не его, а Музыку вместе с ним. И поэтому мягкая световая завеса отделяет сцену от зала.
Чудо, которое творит пианист, пронизывает собой все пространство вокруг. Оно объединяет человека на сцене и людей в зале. Более того, оно выплескивается в мир, сливаясь с космосом окружающего музыкального пространства.
«Святослав Рихтер является посредником между композитором и слушателем,– говорит один из крупнейших современных музыкантов, выдающийся канадский пианист Глен Гульд. – Когда он исполняет произведение, мы вновь открываем его для себя и при этом всегда с другой, непривычной для себя точки зрения. Рихтер – один из самых мощных коммуникаторов нашего времени...».
...Он избегает встреч с людьми, избегает отвлекающих разговоров. За этим стоит отнюдь не пренебрежение к человеку, напротив, истинное уважение к нему, и достойно выразить его он может, как ему кажется, лишь одним способом: играя в полную меру отпущенных ему сил. Этим он выражает свою любовь к людям.
Но для того, чтобы играть так, как играет Рихтер, отдавая музыке все жизненные силы, нужно всегда быть в крайне собранном состоянии, постоянно впитывая новые впечатления жизни и переплавляя их в высокое искусство. Это – одна из сильнейших сторон рихтеровского дарования, не утрачиваемая с годами: поразительная способность воспринимать мир как чудо. Одна из чарующих тайн Рихтера – это тайна восприятия. Всякий новый миг жизни он принимает как откровение.
Святослав Рихтер делает безграничными те сочинения, за которые берется, он вкладывает в них трепетную, космическую душу, боль, мысль. Он несет великую моральную силу, с ним приходят вера и обновление. Огромный человек, мужественный, сильный, мудрый, протянул нам свою руку. И ведет.
Рихтер не сверхчеловек, но это Истинный Человек в его истинном напряжении. Он одержим стремлением совершенствования. Чему учит нас Рихтер? Не только любить и понимать музыку. Он учит быть требовательным к себе и другим, быть душевным и чутким, быть искренним и всегда стремиться к правде.
«Для меня, – писал Генрих Нейгауз, – Рихтер – человек, а «быть человеком – значит быть борцом» (Гёте). Он и борется своим неощутимым, но смертоносным оружием искусства со своими врагами: пошлостью, ложью, надувательством, пустозвонством, низостью души... Сколько раз, бывало, зайдешь к нему после концерта – публика в восторге, – скажешь ему слова благодарности за испытанную радость и услышишь в ответ: «Да, у меня хорошо вышло это место (какие-нибудь шестнадцать тактов), а остальное» – и скорчит кислую гримасу. Наивные люди иногда думают, что «Рихтер кривляется», им кажется, что он не может не видеть и не сознавать впечатления, производимого им на публику. Менее наивные считают, что он себя недооценивает; совсем ненаивные, к ним и я себя (наивно) причисляю, знают, что он говорит чистейшую правду…
Кому выпала доля носить на своих плечах «легкое бремя» высокого искусства, тот не впадает в зазнайство (к сведению некоторых молодых музыкантов)...».
Искусство Рихтера обращено ко всем и к каждому отдельно. Благодаря этому что бы он ни играл и где бы ни играл, всегда возникает особая атмосфера доверия.
Казалось бы, такой большой пианист, как Рихтер, должен затмить остальных – ниже «рангом», уровнем таланта и мысли. А выходит не так: познание Рихтера, его творчества, его художнического облика помогает познать других артистов, учит ценить их за то, что отличает от других, за индивидуальность. Он помогает оценить самобытность другого артиста, учит точности и тонкости наблюдения, воспитывает вкус и обогащает мысль.
...Мы как-то уже привыкли, что есть Святослав Рихтер. Он стал для нас категорией прекрасного. Есть красота, гармония, природа. Есть музыка.
И есть Рихтер.
Андрей Золотов
Концерт Святослава Рихтера в Государственном музее изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина.
Фото
Юрия Садовникова
На цветной
вкладке:Святослав Рихтер,
Фото Валерия Плотникова

Евг. ЭПШТЕЙН
«Музыкальная жизнь», 1980, №24.
МУЗЫКА – МОЕ ВДОХНОВЕНИЕ
Когда произносят имя Дмитрия Николаевича Журавлева, в памяти сразу возникает голос редкого тембрового богатства. «Симфонический голос», – говорят поклонники таланта замечательного чтеца. Действительно, в голосе его слышится то камерная кантилена пушкинской лирики, то гремит в нем торжествующая медь поэзии Маяковского. Дмитрия Николаевича можно часто видеть на симфонических и камерных концертах, на оперных и балетных премьерах
Музыка вошла в мою жизнь с того дня, когда я, молодой актер Симферопольского драматического театра, впервые очутился на галерке Большого театра – меня привел туда мой брат Михаил, химик по профессии, страстный меломан. Представьте себе Москву 1922 года с ее кипучей театральной и концертной жизнью. Я недавно приехал в столицу из провинции, преисполненный честолюбивых стремлений, которым, впрочем, сразу же был нанесен чувствительный удар. На приемном экзамене в Третью студию МХТ я блистательно провалился – мой южный акцент (я родился под Харьковом) произвел удручающее впечатление. Поперек моей анкеты было жирно выведено – «НЕТ». Сейчас я храню эту анкету как реликвию – спустя много лет мне подарил ее Музей театра имени Вахтангова. Впрочем, огорчаться мне было некогда: в Москве столько театральных соблазнов! Каждый вечер какой-нибудь спектакль, или литературный диспут, или просто чтение стихов – я старался успеть повсюду. И вот однажды – Большой театр...
– Дмитрий Николаевич, однако повторный экзамен в студию Вы сдали успешно и стали актером театра имени Вахтангова. Не отвлекло ли это Вас от увлечения музыкой?
– Ни в малейшей степени. Музыка – мое вдохновение! Как часто после спектакля, едва успев разгримироваться, я мчался на трамвае в Большой, чтобы застать хоть кусочек «Снегурочки» или «Кармен». Я слышал «Лоэнгрина» с Собиновым и «Снегурочку» с Неждановой, «Саломею» с Политковским и «Сказание о граде Китеже» с Держинской. На галерке собиралось разношерстное горластое общество: молодые инженеры, химики, врачи, актеры. В антрактах они до хрипоты спорили, отстаивая свои привязанности, и аплодировали с неистовством. порождавшим у пожарных тревогу за целостность балконных перил. В этой «академии» были свои знатоки, определявшие, что «певица Н. сегодня не звучит, а у тенора М., напротив, верхнее си превосходно». Я с интересом прислушивался к этим эрудитам, и у меня тоже появлялись свои оперные кумиры.
– Дмитрий Николаевич, Вам посчастливилось не раз видеть на сцене Антонину Васильевну Нежданову...
– Старался не пропускать ни одного ее спектакля!
На всю жизнь запомнился мне образ Снегурочки – «чистейшей прелести чистейший образец». Я слышал Антонину Васильевну в этой роли не один раз и неизменно бывал взволнован до спез каждым спектаклем. Какой волшебной зачарованностью была проникнута прелестная ариетта: «Слыхала я, слыхала...». Дальше, словно острая стрела, звенели пронзительной душевной мукой слова: «Как больно здесь, как сердцу тяжко стало...» А после окончания арии в последнем акте, казалось, еще долго переливались в воздухе нежно-серебристые прощальные звуки. Этот образ был чудом исполнительского совершенства.
Судьбе было угодно познакомить меня, молодого актера, с великой певицей. Когда я начал выступать в концертах как чтец, мне часто доводилось встречаться с Неждановой. Всякий раз я почтительно опускался перед ней на колени. Антонина Васильевна посмеивалась, а однажды лукаво сказала: «Ну что же вы, голубчик, за кулисами на коленки бухаетесь, вот извольте-ка на сцене, чтобы все видели!»
Каждый год шестого мая на квартире у Неждановой собирались ее многочисленные друзья и почитатели – это был день ее дебюта в Большом театре. Звенели бокалы, произносились тосты, и звучал дивный неждановский голос. Аккомпанировал певице Николай Семенович Голованов.
...Одно из самых дорогих и светлых моих оперных воспоминаний – «Кармен» с Обуховой. По своим внешним данным величественная Надежда Андреевна, может быть, не очень соответствовала образу гибкой испанки, но я забывал об этом, слушая ее неповторимый, проникающий в самую душу голос. Пение Обуховой рождало иногда удивительные ассоциации: казалось порой, что она держит полные пригоршни драгоценностей, которыми небрежно поигрывает, а они переливаются всеми красками радуги.
– Большой театр славится не только оперной труппой, но и своим балетом.
– Балет был моей второй страстью. Он открылся мне в творчестве блистательной Марины Семеновой. Я и раньше бывал на балетных спектаклях, но они оставляли меня равнодушным. Появление же Семеновой внесло в танец одухотворенность, душевное тепло. На ее спектаклях я старался попасть в первый ряд и вопил от восторга так, что она кланялась мне персонально. Нередко моими партнерами-«семеновцами» были замечательные артисты МХАТа В.Н.Попова и А.П.Кторов.
– На стенах Вашего кабинета много фотографий Галины Сергеевны Улановой...
Искусство Улановой заставляло сердце сжиматься от сострадания и трепетать от восторга. Одну из телепередач о людях искусства, которую мне выпала честь вести, я начал так: «Я не видел Ермолову, я не видел Элеонору Дузе, но я видел Галину Уланову – великую трагическую актрису. Вы помните ее сцену безумия Жизели? Как просто и как гениально!»
– Дмитрий Николаевич, но музыкальный театр не единственное Ваше увлечение. Вы завсегдатай и концертных залов, известна Ваша дружба со многими музыкантами.
Профессия чтеца подарила мне радость общения со многими выдающимися исполнителями: мне нередко случалось выступать вместе с ними в концертах. Я часто слышал Константина Николаевича Игумнова, тончайшего пианиста, его игра производила впечатление удивительной просветленности. Как жаль, что несовершенные записи тех лет не сохранили этот проникновенный игумновский звук. А с Александром Борисовичем Гольденвейзером я совершил в 1935 году поездку в Ясную Поляну – отмечалась 25-я годовщина со дня смерти Толстого. Александр Борисович очень волновался: почти четверть века он не был в Ясной Поляне. Он был молчалив, грустен, сосредоточен. Первым его встретил старый лакей Толстого: «Александра Борисыч, какой же ты стал беленький!» – всхлипнул старик, и они обнялись. В парке мы все почтительно отстали от Гольденвейзера. Он медленно приблизился к могиле Толстого, опустился на колени и долго оставался неподвижным. Мы боялись нарушить молчание. В тот день мне было невероятно трудно читать недавно сделанного «Петю Ростова» из «Войны и мира»: слезы набегали на глаза, нос распух и сел голос. Зато Гольденвейзер вдохновенно играл все то, что так любил слушать Лев Николаевич…
– Одним из самых ярких представителей советской фортепианной школы был Генрих Густавович Нейгауз, искусство которого покоряло романтической одухотворенностью. Школа Нейгауза дала целую плеяду замечательных пианистов во главе со Святославом Рихтером и Эмилем Гилельсом...
– Генрих Густавович Нейгауз – человек из ряда вон выходящий! Любовь и радость всей моей жизни! Все знал, все читал, все слышал! Обожал поэзию, тонко чувствовал живопись. А какой музыкант! Мы часто бывали на концертах друг у друга. В его доме я познакомился с Борисом Пастернаком, и там же началась наша дружба со Святославом Рихтером.
Мы с женой, Валентиной Павловной, уже второй год работаем по просьбе Всероссийского театрального общества над книгой мемуаров. В этой книге большая глава посвящена Рихтеру. Удивительное дело, всю жизнь я связан со словом, но никогда не думал, что это такой каторжный труд – облекать в слова свои мысли. В живой речи они текут так естественно, а на бумаге странным образом деревенеют, становятся неподатливыми. Я слышал многих замечательных музыкантов, но Рихтер расширил мое музыкальное восприятие мира, научил меня постигать волевую страстность Бетховена, мудрую простоту Баха, певучую искренность Шуберта. Я говорю только о себе, но полагаю, что то же самое может сказать любой побывавший на концертах Рихтера.
Одно из первых впечатлений от Рихтера – ошеломление. На Всесоюзном конкурсе во время его исполнения в зале погас свет. В этот момент он играл «Дикую охоту» Листа – труднейший этюд, который и при ярком-то освещении играть безумно сложно, а Рихтер продолжал его блистательно играть впотьмах! Из последних впечатлений – «Форелленквинтет» Шуберта: Рихтер с «бородинцами» в Музее изобразительных искусств. Как они играли! Какая ясность мысли, глубина чувства, абсолютная творческая свобода! Часто сожалеют, что Рихтер не преподает. А разве его работа с ансамблем молодых консерваторцев – это не педагогика? Вы бы видели их во время репетиций: с каким благоговением они работают, как жадно впитывают каждое слово Рихтера! И как великолепно играют! Рихтер никогда не позволит себе подавлять молодых своим авторитетом. Он ни за что не скажет: «Здесь вы играете не так», а непременно: «Может быть в этом месте лучше будет вот так?» – и покажет, как именно. А они, молодые, застывают возле рояля и зачарованно слушают Мастера...
– Итак, какое же место занимает музыка в Вашей жизни?
– Огромное! Она, как и живопись, помогала формированию моего образного постижения мира, воспитывала вкус, приобщая к творениям великих мастеров. А искусство замечательных артистов и музыкантов, если и не впрямую, то опосредованно оказывало воздействие на мое творчество. К примеру, оперные певцы, и в первую очередь Нежданова, помогли мне вслушаться в музыку слова, искусство Улановой – постигать образную глубину, а пианизм Рихтера – явление настолько всеохватное, что каждая встреча с ним – это импульс для творческой фантазии.
Голос Дмитрия Николаевича, повествующего о музыке и музыкантах, звучит то восторженным фортиссимо, то снижается до таинственного шепота. Голос, которому с наслаждением внимают и аплодируют на концертах сотни людей, почитателей замечательного артиста.
Автор: Р. Шато
СОВЕРШЕННЫЙ ПИАНИСТ
БЕСЕДА СО СВЯТОСЛАВОМ РИХТЕРОМ
Впервые беседа Р. Шато с Рихтером была напечатана в итальянском журнале Musica в 1982 году. На сайте публикуется в переводе Е. Куловой (Музыкальное исполнительство и современность: Вып. 2. – Научные труды Московской государственной консерватории. – Сб. 19. – М., 1997). Некоторые ошибки в тексте исправлены без примечаний.
«Действительно, я никогда не даю интервью. Мне было бы трудно это сделать, я бы на это никогда не решился», – я повторял про себя эти слова Святослава Рихтера, в то время как мой поезд мчался к нему всё быстрее и быстрее. Сколько раз мне приходилось переживать волнение перед интервью, прежде всего потому, что те, у кого я их брал, были мне людьми незнакомыми и, соответственно, непредсказуемыми. На этот же раз я волновался именно потому, что знал Рихтера. Его постоянные отказы давать какие-либо интервью, его страх перед любопытством публики были мне хорошо известны. Обычное интервью – серия вопросов и ответов, которые должны были быть напечатаны, – представляло для него непреодолимое препятствие.
Из окна вагона я видел пути, станции, пейзажи, которые стирались и появлялись вновь, когда поезд тормозил. Я думал об изумительном художественном взлёте Рихтера, о его успехах, пластинках, мировой славе, которая сделала из него легенду. Я просматривал свои листы, на которых написал все вопросы, и чем больше я смотрел на них, тем чаще говорил про себя: невозможно. Для того, чтобы утешить себя, я повторял мысленно высказывание Гераклита – далёкое воспоминание ещё лицейских времён: «Кто не ждёт невозможного, тот ничего не добьётся», которое наш профессор по литературе повторял нам, студентам, накануне нашего выпуска. Слабое утешение, но выбор был уже сделан.
Конечный пункт моего путешествия – Флоренция. Странное совпадение: Флоренция была тем городом, который впервые аплодировал Рихтеру – двадцать лет назад, в мае 1962 года. Именно тогда состоялось то «историческое» выступление Рихтера, когда он играл Второй концерт Брамса с оркестром под управлением дирижёра театра «Ла Скала» Челибидаке. Затем было ещё много, много успехов, более того – триумфов, которые снискали Рихтеру славу любимца итальянской публики. Теперь во Флоренции Рихтера ждали два концерта камерной музыки с квартетом Бородина и альтистом Юрием Башметом.
Я продолжал думать о своём почти утопическом проекте. Рихтер никогда никому не давал интервью. Он никогда не хотел публично говорить о себе, о своих программах, о своём прошлом, о своих отношениях с музыкой. Даже в личной беседе трудно было поставить перед ним «специфические» вопросы. С ним нужно было говорить «вдруг» – вдруг о кино (он был поклонником искусства кинематографии), вдруг о живописи, о путешествиях, о чём угодно. И всегда можно было найти в нём внимательного собеседника, готового к открытому диалогу, дававшего иногда очень острые ответы, полные юмора.
Но когда вы касались музыки, всё изменялось, всё очень усложнялось, и я бы сказал, что становилось ужасно трудно. На его лице мгновенно появлялась целая серия выражений, которые давали понять собеседнику, что нужно изменить тему разговора. Однако Рихтер хорошо знает наш журнал. Он был свидетелем его появления и подписался на него в первый же год издания. Один раз он мне написал, подтверждая, что с удовольствием ответит на вопросы нашего журнала «Музыка». Но теперь я очень далёк от уверенности, что он сдержит своё слово. В то время, когда я думаю обо всём этом, мой поезд медленно подходит к вокзалу Санта-Мария-Новелла. Первое, что я замечаю, это длинный хвост такси и большое количество плакатов, написанных чёрной и белой краской. Их вывесила фирма «Ямаха», и они посвящены Рихтеру. Посередине большое фото, которое как бы «усаживает» его за рояль фирмы «Ямаха», и внизу подпись: «Добро пожаловать во Флоренцию!» Мне показалось, что это доброе предзнаменование. Мы очень надеялись на его концерты: Рихтера не было в Италии уже шесть лет.
День невероятно жаркий – середина июня. Кажется, что ужасная жара как бы «сковала» город. Только туристы, живописно одетые, шумные, снуют повсюду, нарушая тишину города. Я встречаюсь с Рихтером почти сразу же в холле его гостиницы, что позади театра «Комунале». Он в хорошем настроении, улыбается. Он, кажется, доволен, что снова приехал в Италию, в «свою» Флоренцию. Я обращаю его внимание на плакат, и он смеётся, говоря, что на этой фотографии он не очень хорошо получился. Подъехала машина. Рихтер показывает мне огромный «Мерседес» с австрийским номером, который он взял напрокат накануне. Пока мы разговариваем, подходит его жена, Нина. Я прошу её убедить Рихтера уделить мне немного времени для интервью. Рихтер тоже слушает довольно внимательно мою просьбу, обращённую к его жене, и я замечаю, что он не слишком обрадован таким поворотом дела. Он пытается извиниться и по-французски говорит: «Ну, это же прямо-таки опасно…» Но всё же мы решаем встретиться после ужина. Вот как всё это происходит.
Мы ужинаем в тот вечер в переполненном ресторане в центре города. Рихтер доволен. Я бы сказал, даже чрезвычайно доволен. Целый день он репетировал в театре «Комунале» квинтеты Дворжака для концерта, который назначен на завтра, но он совсем не кажется усталым. Он с удовольствием рассматривает всё и шутит с официантами, которые стараются изо всех сил и бегают вверх и вниз по лестнице ресторана. И завсегдатаи ресторана тоже обращают внимание на человека, который сидит в углу и с большим юмором, хотя и чуть громковато отвечает на вопросы собеседников.
Он произносит несколько благодарственных слов в адрес нашего журнала, заметив, что читает его всегда с удовольствием. Нина Дорлиак с другой стороны стола соглашается с ним мягкой улыбкой. Наш разговор продолжает вращаться вокруг журнала «Музыка». Рихтер говорит о статьях, которые он читал, о фотографиях, которые его заинтересовали, особенно о последней странице. Он с удовольствием вспоминает фотографии Клаудио Аббадо как футболиста, Корто в виде ковбоя, фото Бернстайна, голого по пояс. Свежесть, которую доносит ветер с реки Арно, весёлость нашего разговора, шумливость публики в ресторане, великолепное вино «Кьянти», – кажется, всё это играет мне на руку. И действительно, после того, как было покончено с двумя видами закусок и с первыми блюдами, Рихтер, своими большими руками начиная разделывать флорентийский бифштекс, наконец-то предлагает мне приступить к интервью. После ужина мы пешком возвращаемся в гостиницу, садимся в небольшой гостиной и ведём беседу. Рихтер не хочет, чтобы я включал магнитофон, говорить он предпочитает на немецком языке, а не на французском, на котором мы говорили до сих пор весь вечер.
На нашей беседе присутствует уважаемая синьора Эми Мореско, которая занимается организацией концертов Рихтера в Италии. Я должен принести ей благодарность и за её содействие в организации этого интервью.
Не могли бы Вы описать музыкальную атмосферу в Вашей семье?
Мой отец, Теофил Рихтер, был пианистом и преподавателем фортепиано. Он долгие годы жил в Вене, где учился фортепианному искусству и искусству композиции у профессоров Фукса и Фишофа.
Он играл на органе, правда?
Да, но лучше всего он играл на фортепиано. Он был блестящим пианистом, очень образованным и глубоким. От него я унаследовал музыкальность. Кроме моего отца единственным и поистине настоящим учителем, тем, кто открыл для меня горизонты музыки, был Генрих Нейгауз.
Что Вы помните о Житомире – городе, где Вы родились?
Я хорошо помню этот город и всегда вспоминаю о нём с любовью. Это провинциальный городок, очень маленький, там много домишек с садами в типично украинском стиле. Сегодня, к сожалению, всё уже изменилось. Он уже перестал быть таким, каким остался в моей памяти. Впрочем, я всегда возвращаюсь туда мысленно, да и приезжаю почти каждое лето. Мне очень нравится приезжать иногда в те места, где прошло моё детство, чтобы вспомнить его…
Вы возвращаетесь туда, чтобы играть?
Нет, в последние годы я не давал концертов в Житомире.
Первые годы Вашей молодости Вы провели в Одессе, где началась Ваша музыкальная карьера, как и у многих других русских пианистов. Какова была атмосфера в этом городе, какой Вы её помните?
Я жил в Одессе до двадцати двух лет. Это город, который я всегда вспоминаю с тоской, хотя особенно сильно я его никогда не любил. Одесса очень живописный город, средиземноморский. Немножко он напоминает ваш Неаполь. Это не настоящий русский город… Но моя пианистическая карьера началась по-настоящему в Москве, в Одессе я был только концертмейстером в оперном театре. Есть одна легенда, по-видимому придуманная в Нью-Йорке, согласно которой я был дирижёром оркестра в Одессе. Это абсолютный абсурд.
Но в Одессе Вы сыграли свой первый концерт, не правда ли?
Да, это было в 1934 году, мне исполнилось уже девятнадцать лет. Но это не был концерт в настоящем смысле слова.
Где он прошёл?
Он прошёл в клубе инженеров – культурном центре города – перед публикой, которую составляли мои друзья и знакомые.
Вы помните программу того вечера?
Да, он был целиком посвящён Шопену.
После Одессы Вы приехали в Москву, чтобы учиться у Нейгауза? Каким был Генрих Нейгауз как человек?
Это был необыкновенный человек – высочайшей культуры. У него было какое-то особое, я бы сказал – колоссальное обаяние. Он был человеком с большой буквы прежде всего в нравственном плане. Его обучение было в основном гуманитарным (кроме того, что было музыкальным), и это осталось неизгладимым в моём сердце. Нейгауз происходил из немецкой семьи, которая была знаменита своими музыкальными традициями. Его двоюродный брат – Кароль Шимановский, знаменитый польский композитор. Нейгауз был племянником Феликса Блуменфельда, замечательного пианиста, учеником которого был, например, Владимир Горовиц. Нейгауз учился у Годовского в Meisterschule в Берлине. Его семья жила в Елизаветграде, на Украине, где дома́ Нейгауза и Шимановских стояли один напротив другого, через дорогу. Прежде чем переехать в Москву, Нейгауз учился в Киеве, был большим другом Артура Рубинштейна и Горовица. Нейгауз обладал широчайшей гуманитарной культурой. Его интересовала и живопись, и литература, и вообще искусство в целом. Чтобы представить себе всю значительность и интеллектуальный аристократизм Нейгауза, я бы хотел сравнить его с фигурой Томаса Манна. Я не смогу забыть его огромную любовь ко мне, его дружбу, его советы и его настойчивые просьбы, чтобы я приложил все свои силы, всю свою энергию к музыке и фортепиано.
Другим выдающимся преподавателем музыки в вашей стране был Александр Гольденвейзер. Вы его знали?
Да, конечно. Я его хорошо знал: он был профессором консерватории в Москве. Это был человек высокого интеллекта, эрудит, но, с моей точки зрения, несколько сухой и холодный. Память о нём как-то потерялась в России. В то время как легенда и память о Генрихе Нейгаузе продолжают жить в душе многих музыкантов.
Гольденвейзер не ладил с Нейгаузом?
Да, конечно. Они были совершенно противоположными людьми и исповедовали абсолютно противоположные методы преподавания. Это, разумеется, не отнимает у Гольденвейзера тех успехов, которых он достиг, и того факта, что из его класса вышли отличные музыканты, например, Григорий Гинзбург, Роза Тамаркина, Дмитрий Башкиров, Лазарь Берман.
Константин Игумнов тоже был великим учителем?
Конечно, достаточно вспомнить, что он создал таких пианистов, как Николай Орлов, Лев Оборин, Яков Флиер, Мария Гринберг, Белла Давидович. Я всегда испытывал глубокое уважение к Игумнову.
Говорят, Вы прекрасно рисуете?
Это всё в прошлом. Теперь я уже не рисую, у меня не хватает на это времени. Должен отметить, что я всегда рисовал только в свободное время, это было моим хобби. Я никогда не претендовал на то, чтобы стать настоящим художником. Мне очень нравится живопись, так же как нравится, например, театр, литература и кино.
Кстати, о кино. Много лет назад Вы участвовали в фильме «Композитор Глинка», играли роль Ференца Листа. Что Вы помните об этом опыте?
Режиссёр Григорий Александров и знаменитая актриса Любовь Орлова пригласили меня на роль Листа в их фильме. Я с большим удовольствием принял это приглашение. Хотя, я должен теперь это сказать, этот опыт меня несколько разочаровал. Я рассчитывал, что буду работать, репетировать вместе с другими актёрами, а получилось так, что фильм снимали отдельными кусками. Но в любом случае моё знакомство с Александровым, его женой, артистом Смирновым, который играл роль Глинки, оказалось для меня очень важным и приятным.
Что Вы тогда играли?
Я играл «Марш Черномора» из оперы Глинки «Руслан и Людмила» в обработке Листа.
Когда был снят этот фильм?
Его съёмки закончились в 1951 году. Оператором был знаменитый Тиссэ, коллега Эйзенштейна.
Что Вы можете сказать о Сергее Прокофьеве?
Это был исключительно суровый человек, с нерушимыми моральными принципами. Он жил, целиком погружённый в свою работу.
Когда Вы с ним познакомились?
Осенью 1940 года, когда я имел честь исполнять его Шестую сонату. Это не было первым исполнением, поскольку сам Прокофьев играл её на радио за неделю до этого. Но в любом случае для меня это было событием исключительной важности. В тот вечер Прокофьев сидел среди публики и подошёл к эстраде, чтобы пожать мне руку. В тот день мне открылось всё его обаяние.
Вы стали друзьями?
Я бы не сказал так, но у нас были отличные профессиональные отношения.
Вы давали вместе концерты?
Да, я играл партию фортепиано, а он дирижировал оркестром.
Вы помните какую-нибудь из таких программ?
Да, я помню программу марта 1941 года, до того, как у нас началась война. Мы играли Пятый концерт.
Каким был Прокофьев как дирижёр?
Он был очень точен и работал как метроном. Я бы сказал, что он дирижировал всегда в соответствии со своим композиторским стилем.
Какую из сонат Прокофьева Вы предпочитаете?
Восьмую. Это моя любимая соната.
Прокофьев её посвятил Мире Мендельсон?
Да, своей второй жене. Это она написала либретто оперы «Война и мир».
Вам он посвятил свою последнюю сонату, Девятую?
Да, и я был очень польщён посвящением. Эта соната мне очень нравится, хотя особенно часто я её не играю.
Сколько времени Вы посвящаете работе над техникой?
Я никогда не занимаюсь отдельно техническими упражнениями. Я предпочитаю заниматься музыкой.
Вы когда-нибудь сочиняли музыку?
Да, когда я был ещё очень молодым, прежде чем поступил в консерваторию. Я даже начал писать оперу, но она так и осталась незаконченной.
На какую тему?
На тему Метерлинка «Ариана и Синяя борода». Тот же сюжет, который использовал Поль Дюка.
Какое музыкальное произведение Вы считаете наиболее сложным?
Сонату ор. 106 Hammerklavier Бетховена. Я считаю также, что прелюдии и фуги Шостаковича содержат очень много трудностей для пианиста. (Здесь Рихтер несколько задумывается и потом говорит очень тихо, как будто сам с собой.) Ну, также Моцарт… Моцарт, пожалуй, самый трудный.
У Вас есть какой-то особый способ изучения произведения?
Я бы не сказал.
Сколько часов в день Вы обычно занимаетесь?
Три часа каждый день.
Кого бы Вы предпочли – Горовица или Рубинштейна?
Я очень люблю Рубинштейна. К тому же мы уже много лет крепко дружим. Но Горовиц мне тоже нравится, хотя его стиль несколько дальше от моего.
Что Вы думаете о той музыке, которую пишут сегодня?
Есть музыка хорошая, и есть музыка плохая. Но сегодня очень трудно давать какие-либо точные определения. Вот через тридцать лет мы, может быть, и сможем что-нибудь сказать.
Какую музыку Вы любите больше всего?
Я безумно люблю камерную музыку. И, естественно, ту, которая написана специально для фортепиано. Но больше всего я всё-таки люблю оперу.
Вы считаетесь с мнением критики?
Не особенно. Несколько раз критики меня очень разочаровывали. От некоторых знаменитых критиков я ожидал более профессиональных заключений о моём стиле игры. Я часто рассчитывал не на обычную, заранее составленную статью, которую могли написать, допустим, за день до концерта. Были и такие критики, которые на концерте не могли даже узнать, что я играл «на бис», и путали, например, Шопена с Дебюсси или с Брамсом.
Что Вы думаете о фортепианных конкурсах?
Не могу сказать, что отношусь к ним положительно. Разумеется, они дают молодым исполнителям блестящие возможности начать свою карьеру. Но члены жюри, которые иногда вынуждены слушать двадцать раз подряд одну и ту же пьесу, не могут высказывать объективное мнение.
Вы когда-нибудь входили в состав жюри какого-нибудь конкурса?
Это было единственный раз, у меня только один такой опыт, когда я входил в состав жюри Первого международного конкурса имени Чайковского в Москве, в 1958 году. Победителем конкурса в тот год был американец Ван Клиберн.
Вы много раз играли с Давидом Ойстрахом. Что Вы помните о нём?
Человек исключительной скромности. Может быть, самый скромный из всех, кого я когда-либо знал. Великий художник, как это все знают. Звук его скрипки был самым красивым и самым сильным, который можно было когда-либо услышать. Мы начали играть с ним в последние годы его жизни. Очень жаль, что судьба не позволила нам работать вместе гораздо больше.
Вы когда-нибудь преподавали?
Нет, я никогда не преподавал и не думаю, что у меня когда-нибудь будут ученики.
Вы могли бы дать несколько советов молодым исполнителям?
Да, конечно. Я несколько раз помогал своими советами молодым исполнителям, с которыми я играл камерную музыку.
Есть какой-нибудь исполнитель прошлого, который Вас особенно интересует?
Очень трудно ответить на Ваш вопрос. Я боюсь забыть какое-нибудь имя.
А Вы можете назвать хотя бы одно?
Я назвал бы прежде всего Рахманинова.
Вы слушаете записи других пианистов?
Иногда, когда нахожу для этого время. По правде я должен сказать, что проблема техники и интерпретации вообще в том, что касается фортепиано, меня интересует довольно мало. Меня не интересует, как другие пианисты решают какие-то вопросы. Я предпочитаю следовать своему внутреннему голосу, своему инстинкту и пытаюсь дать своё личное видение. Нейгауз, например, всегда соглашался с таким взглядом на исполнение, всегда одобрял меня и ориентировал на независимость. Я помню, однажды Игумнов сказал мне, что я недостаточно люблю фортепиано. Может быть, он прав. Я люблю музыку.
Среди своих собственных пластинок какую Вы предпочитаете?
Два концерта Листа с Лондонским симфоническим оркестром под управлением Кондрашина, концерт Грига, который был записан в Монте-Карло с Матачичем и «пиратский» диск с сонатой Листа h-moll, запись которой на пластинку была сделана нелегально с моего концерта в Карнеги-холл. Есть и другие произведения, которые как будто удались, – подборка новеллетт Шумана и прелюдий Шопена, которые я записал в Японии несколько лет назад.
А вообще какой у Вас самый любимый диск?
(Он отвечает тут же и с большим энтузиазмом.)
«Море» Дебюсси с Роже Дезормьером. Это блестящая пластинка. С моей точки зрения, самая лучшая пластинка в мире. Она была записана «Супрафоном» в Праге много лет назад.
Когда-то Вы мне говорили, что хотели бы заняться режиссурой оперы. У Вас есть какие-нибудь проекты в этой связи?
Нет, у меня нет никаких проектов. Я не думаю, что могу сделать что-либо подобное.
В молодости Вы были аккомпаниатором в опере в Одессе. Каким образом Вам пришла мысль стать пианистом-концертантом?
Должен сказать, что фортепиано меня всегда завораживало. Я никогда не прекращал изучать его. И меня всегда очень интересовали профессиональные отношения с этим инструментом. Вот поэтому я и поступил в консерваторию.
Если бы у Вас на то было время, Вы бы захотели стать дирижёром оркестра?
Думаю, что нет. Звучание оркестра – это что-то магическое. Это будто часть какой-то тайны, которая меня всегда завораживала. А быть дирижёром оркестра, изучать партитуру означает для меня разрушить эту тайну и превратить всю её в сложение мелких технических приёмов. Я предпочитаю быть с другой стороны, предпочитаю сидеть в зале и слушать. Тогда я чувствую себя более счастливым, чем если бы я стоял за дирижёрским пультом.
Но разве этой же тайны, этого волшебства нет у фортепиано?
Нет, она не в фортепиано, она в литературе – в нотах.
Вы никогда не выступали в качестве дирижёра оркестра?
Один-единственный раз, в 1952 году. Друзья убедили меня встать за дирижёрский пульт и руководить исполнением концерта для виолончели с оркестром Прокофьева. Солистом был Мстислав Ростропович.
Если бы до сих пор оставалась традиция перекладывать оркестровые произведения для фортепиано, Вы бы хотели сами заняться этим?
Вообще-то говоря, такая традиция ещё существует. Молодой Михаил Плетнёв в этой области сделал очень много выдающегося. Однако я против таких переложений. У оркестра свои звуки, свои краски, свои тона, и они принадлежат только ему. Сократить всё это и переложить на фортепиано – равносильно великому греху. Очень много теряется того волшебства, о котором я говорил прежде, и результат, которого можно достичь таким образом, с моей точки зрения, весьма проблематичен.
Однажды мне сказали, что в свободное от занятий время Вы любили исполнять симфонические и оперные партитуры.
Я больше этого не делаю. Прежде всего, у меня нет времени, да, наверно, и пропал интерес по причинам, которые я только что изложил.
В Вашем репертуаре есть весьма любопытные пробелы, например, Вы никогда не играете Скарлатти, «Карнавал» Шумана…
Вы знаете, я играю всегда только то, что мне хочется и нравится играть.
Из концертов Бетховена, например, Вы играете только два.
Да, Первый и Третий.
А я могу спросить, какой из этих двух Вы предпочитаете?
Первый, безусловно Первый.
А концерты Баха?
У меня в репертуаре их семь.
Вам страшно перед концертом?
Да, естественно. Мне всегда очень страшно. (Он качает головой и грустно улыбается.) И я считаю это нормальным, что исполнитель перед концертом испытывает эстрадное волнение. Но из него у меня рождается уверенность, появляется какая-то новая энергия и колоссальное желание сыграть как можно лучше, преодолеть все трудности и победить самого себя. Я знаю и слышу иногда, что молодые исполнители-пианисты хвастаются, что они ничего не боятся. Видя, как они холодновато и чисто технически подходят к карьере концертанта, я спрашиваю себя: станут они знаменитыми исполнителями или нет?
Есть какой-нибудь особенный эпизод в Вашей карьере, который Вы могли бы рассказать читателям журнала «Музыка»?
(Он смущается, не хотел бы отвечать, потом начинает говорить, глядя в пол.)
Во время войны, когда я давал свои первые концерты в Москве, у меня была привычка пешком идти на концерт. Почти всегда, когда я приближался к зданию, где должен был быть мой концерт, кто-нибудь подходил ко мне и потихоньку спрашивал: «Вы не хотите купить билет на концерт Рихтера?» Другой случай произошёл год назад, когда я играл в Большом зале консерватории программу, составленную из тринадцати прелюдий Рахманинова. Когда я играл третью прелюдию, в зале погас свет. Я продолжал играть в совершеннейшей темноте, и только в конце, когда я заканчивал прелюдию c-moll op. 23, свет наконец опять зажёгся именно в тот момент, когда я взял последний аккорд в C-dur на fortissimo. (Рихтер делает движение руками, как будто он в этот момент берёт аккорд.) Публика сорвалась с мест в полном восхищении и устроила мне овацию за эту случайность.
Вы бы хотели поехать с концертами в какую-нибудь страну, где Вы ещё никогда не были?
Ну, есть много стран, где я ещё никогда не играл: Мексика, страны Латинской Америки, Австралия, Индия, Исландия. В настоящее время я не строю никаких планов. Может быть, когда-нибудь судьба и предложит мне что-нибудь… Но вообще я должен сказать, что меня очень притягивают страны, в которых я ещё никогда не был.
В каких городах своей страны Вы предпочитаете играть?
Вся советская публика следит за концертами с огромным интересом. Музыка у нас очень популярна. Если говорить о том, в каком городе мне больше всего нравится играть, то я скорей всего назвал бы южные города, например в Грузии, на Украине, где меня всегда принимали с большой симпатией. Кроме того, в Сибири, в частности в Иркутске, поскольку там очень давние, глубокие музыкальные традиции.
Было ли что-то в Вашей музыкальной карьере, что принесло Вам наибольшее удовлетворение?
Ну, об этом я не смогу вспомнить. Я предпочитаю помнить отрицательные впечатления моей жизни, а не положительные. Свои успехи я забываю очень быстро.
Почему Ваши пластинки в основном записываются с концертов?
Мне кажется, что подобная запись более искренняя, но здесь тоже есть своя трудность: нужно найти тот вечер, когда данная программа будет сыграна лучше всего, а это не всегда легко.
Вы собираетесь в ближайшее время записать новые пластинки?
В конце этого года выйдет моя антология, которая будет состоять из небольших произведений Прокофьева: нескольких «Мимолётностей», отрывков из балета «Золушка», вальса ор. 32. Это интересная пластинка, которая, надеюсь, понравится слушателям.
Вы хотели бы записать два знаменитых квинтета Дворжака, которые Вы исполняли в июне, во время своего последнего пребывания в Италии?
Может быть, если мне представится такая возможность.
С какими дирижёрами Вы предпочитаете играть?
В прошлом я играл с несколькими дирижёрами, с которыми у меня сложились дружеские, хорошие отношения, например, с Карлосом Клайбером, с вашим Риккардо Мути. Другие знаменитые дирижёры, с которыми я играл и с которыми у меня отличные артистические отношения, профессиональные связи, – это Евгений Мравинский и Кирилл Кондрашин.
Во время Вашего последнего турне по Италии Вы исполняли сонату для альта и фортепиано Шостаковича. Вы давно играете это произведение?
С тех пор как я знаю молодого альтиста Юрия Башмета, подлинного мастера. Соната для альта – это последнее произведение Шостаковича, очень насыщенное и трагическое, великолепное произведение.
Вы знали Шостаковича сами, правда?
Да, последние годы я с ним дружил. У нас не было особенно близкой дружбы, но мы друг друга очень уважали.
Каким был Шостакович как человек?
Очень скрытным и замкнутым. Он был о себе высокого мнения и недолюбливал некоторых своих коллег-композиторов, например, Скрябина и даже Дебюсси. История музыки знает и другие примеры, когда композиторы не любили своих коллег. Так, Шопен не любил Мендельсона, Шумана, Бетховена. Но известны и композиторы, более внимательные к произведениям других авторов – в частности Шуман, поскольку он ведь был ещё и музыкальным критиком. Лист тоже всегда с интересом следил за работами своих современников.
Это правда, что Вы особенно любите Вагнера?
Да, для меня Вагнер – это нечто высочайшее. Его значительность, с моей точки зрения, в том, что его музыка познавательна как универсальная модель мира. Я не могу даже сравнивать Вагнера с другими композиторами. Это фигура, которая по своей величине и гению может равняться, например, Шекспиру.
Вы когда-нибудь были в Байрейте?
Да, два раза.
Какие произведения Вагнера Вы любите больше всего?
«Кольцо Нибелунгов», естественно. Я очень люблю этот цикл.
А что именно в нём?
«Гибель богов».
Вы играете на каком-либо другом инструменте, кроме фортепиано?
Много лет назад, ещё до войны, я играл немного на органе.
Вас обучал этому отец?
Да, мой отец был органистом в театре в Одессе, и иногда я заменял его.
В какой эпохе Вы предпочитали бы жить?
Я прекрасно чувствую себя в наши дни, но если я должен ответить на этот вопрос, то я бы сказал – в античности.
Пробило полночь. У меня ещё очень много вопросов, но я чувствую, что уже поздно и Рихтер устал. Лучше не настаивать. Мне кажется, что он уже немножко недоволен. Именно сейчас я чувствую, как он не любит отвечать на вопросы. Его ответы становятся всё короче и короче. Может, он уже думает о завтрашнем концерте. Кажется, он хочет ещё что-то добавить, но, вероятно, не находит нужных слов. Может, он просто хотел бы поговорить, не отвечая на какой-то конкретный вопрос. Мы прощаемся, но он просит меня задержаться ещё на несколько минут. Он идёт в комнату и почти сразу же возвращается, держа в руках увесистый том, переплетённый в шёлк, который он, должно быть, только сейчас, в той комнате, завернул в зелёно-голубую бумагу, а также какой-то пакет. Пакет он кладёт на столик и просит меня посмотреть. «Это мой подарок, – говорит он, – это из моей страны». Я открываю пакет и вижу две милые статуэтки из фарфора. Одна – стилизованный бык, который, не знаю почему, сразу напоминает мне «Да здравствует Мексика!» Эйзенштейна, вторая – татарский всадник, который держит в руках музыкальный инструмент, похожий на балалайку, а на груди у него висит фотография Рихтера, очень молодого, одетого во фрачную пару. Я уже представляю себе мысленно, на какую страницу журнала я помещу эту фотографию (вы можете видеть её на последней странице нашего журнала), и представляю себе, как эти фигурки найдут себе место на нашей выставке в редакции, как вдруг Рихтер обращает моё внимание на третий предмет: «Это очень интересно», – говорит он, показывая мне на том в своей руке. Это нечто вроде дипломной работы, написанной на машинке, на русском языке. Рихтер объясняет: «Здесь весь мой репертуар, всё то, что я сыграл в концертах с 1934 года до сегодняшнего дня. Сюда не вошли только произведения, которые я аккомпанировал певцам. Но я Вас очень прошу, опубликуйте также репертуар других пианистов, не только мой». У меня нет слов, чтобы поблагодарить его. Я говорю только, что журнал «Музыка» – его большой друг и что мы очень надеемся встретиться с ним скоро снова… – эти слова я говорю ему вслед, потому что он скрывается в лифте, и вид у него такой важный, как у главы какого-либо государства.
Я возвращаюсь в свою гостиницу, специально выбирая самый длинный путь, чтобы как-то пережить все впечатления сегодняшнего вечера. Набережная Арно, Понте Веккьо, Пьяцца делла Синьория, главный собор города проплывают передо мной, освещённые, как в каком-нибудь фильме. Неужели правда я взял интервью у Рихтера? И вновь думаю о том, что я только что услышал. Всё это чрезвычайно интересно, хотя о чём-то мы и не успели поговорить. Может быть, я не успел задать каких-то вопросов, а может быть, какие-то ответы были недосказаны. Один раз Рихтер сказал: «Это интервью не должно быть напечатано, оно должно остаться между нами». Иногда он говорил: «На этот вопрос я бы предпочёл ничего не отвечать».
Я подхожу к знаменитой колокольне Джотто и сажусь на ступеньки перед фасадом Баптистерия. На площади, освещённой яркими огнями дневного света, ещё очень много народу: молодёжь, туристы, люди, которые просто отдыхают от дневной жары, – все здесь на этом пятачке в центре. А вот какой-то английский мим показывает небольшие сценки, вокруг него собралась толпа любопытных. Я начинаю перелистывать книгу – репертуар Святослава Рихтера, и наконец понимаю – понимаю всё значение этой книги, которая попала мне в руки. В этой книге есть ответы на многие мои вопросы. Здесь есть всё то, о чём сегодня мы недоговорили. Разумеется, не в словах и не в рассказах – это в той музыке, которую исполнял Рихтер. Как будто он хотел сказать мне, когда отдавал эту книгу: «Вот. Здесь я весь. Это вся моя история, вся моя работа. Может быть, и не нужно было о ней говорить».

Арк.Петров.
«Клуб и художественная самодеятельность», 1983, №7.
Феномен Рихтера
На своем первом публичном концерте (он состоялся в ноябре 1940 года в Малом зале Московской консерватории) Святослав Рихтер сыграл Шестую сонату Прокофьева. Произведение яростно-шквальное, дерзновенно-острое по языку. Одним из парадоксальных приемов, использованных композитором в первой части, стали аккорды, исполнявшиеся ,,col pugno“ ударом кулака по басовым клавишам и звучавшие наподобие барабанно- литаврового «грома».
Этим громом Рихтер и вошел в сознание слушателей. В историю русского и мирового пианизма. Не вошел – ворвался.
Никто, вероятно, не сказал о Рихтере лучше, чем его учитель – профессор Генрих Густавович Нейгауз: «Счастливое соединение мощного (сверхмощного!) духа с глубиной, душевной чистотой (целомудрием!) и величайшим совершенством исполнения... Чем это объяснить, если на минуту допустить, что подобное явление нуждается в объяснении? Прежде всего, его огромной творческой мощью, редким гармоническим сочетанием тех качеств, которые в просторечии называются интеллектом, душой, сердцем плюс (и это не последнее) его гигантским виртуозным дарованием. В его черепе, напоминающем куполы Браманте и Микеланджело, вся музыка, вся прекрасная музыка покоится, как младенец на руках рафаэлевской мадонны. ..»
Нейгауз писал это в 1946 году, когда Рихтер лишь начинал свои выступления на концертной эстраде, но он уже знал его силу, возможности, его львиную хватку. Недаром здесь трижды употреблен эпитет «мощный». Не случайно и сравнение с выдающимися мастерами Возрождения – сочетание в одном человеке неукротимого темперамента, тончайшей поэтичности, глубокого ума, причудливой фантазии и детской непосредственности дали в своем единстве явление уникальное. Это сравнение можно продолжить: «ренессансны» и такие черты Рихтера, как обилие его художественных пристрастий. Он прекрасно импровизирует за роялем (а до 22-летнего возраста и сочинял), великолепно чувствует оркестр и мог бы наверняка стать дирижером (хотя единственным дирижерским опытом у него осталось первое исполнение виолончельной Симфонии-концерта Прокофьева в 1952 году), наконец, он рисует. Его дарованием восхищался Р.Фальк, говоривший, что если бы Рихтер посвятил свою жизнь живописи, то достиг бы не меньших успехов, нежели в музыке. Не став художником, он все же нашел путь объединения живописи и музыки – на организуемых в Музее изобразительных искусств «Декабрьских вечерах» композиторы определенной эпохи соседствуют с тщательно подобранной Рихтером коллекцией картин этого же времени.
Рихтер обладает свойством не просто слышать, но и видеть музыкальное произведение; «для себя» у него всегда имеются сюжеты, визуальные образы. Конечно, такое «видение» сугубо индивидуально, к тому же Рихтер редко рассказывает о возникающих у него «картинах». Все-таки мы знаем, со слов Нейгауза, что в третьей части Второго фортепианного концерта Прокофьева по рихтеровской фантазии «дракон пожирает детей», что образ первой части Шестой сонаты – «индустриализация», а в одном из эпизодов его же Восьмой (со слов Л.Бермана) – «демонстрация, толпы людей, вливающиеся в улицы». Жаль, что нам неизвестны рихтеровские словесные «дешифровки» классики…
Тем, кто был на концертах этого пианиста (а таких, думается, среди наших читателей наберется немало), знакомо, вероятно, еще одно его качество – гипнотическая сила воздействия. То, что он извлекает из своего инструмента, это уже не просто звуки, это нечто большее: поток мысли, направляемый в зал. Рихтер умеет захватить ею нас, слушателей, настроить на единый (и единственный) лад, погрузить в этот поток. «Слушая его напряженные медитации в медленных частях бетховенских или шубертовских сонат, – пишет один из критиков *, – его словно бы отрешенное от всего мирского звукосозерцание в философской поэтике Баха и Брамса, теряешь иной раз ощущение физической реальности «манипуляций» музыканта за клавиатурой. Остается лишь духовно-психологическое излучение, обнаженная в своей чистоте поэтическая идея произведения, его кристаллизовавшееся содержание». Это излучение духовной энергии достигает порою у Рихтера такой высочайшей силы, что оно ощутимо физически!
Обратимся теперь к его репертуару, в сущности, безграничному: Рихтер играет всё, что написано композиторами от Баха до Прокофьева для рояля. Повторяю – для рояля. Он никогда не играет транскрипций, пьес, написанных в оригинале для других инструментов. Например, если Бах, то только «клавирный», а не органный. Не исполняет он и музыку для клавесина. Рихтер играет вещи популярные и малоизвестные, даже любит «открывать» редко исполняемые композиции (скажем, фантазию Бетховена для рояля, хора и оркестра или фортепианный концерт Римского-Корсакова), исполняет сочинения технически сложные, сложнейшие – и очень простые, «детские». Он тщательно продумывает саму форму концертов, всегда предпочитая сборным программам – тематические (Бах, Бетховен, Шуберт, Мусоргский, Чайковский и т. д.). Феноменальна его работоспособность – в очень сжатые сроки, всего за несколько дней он выучивает новое многочастное сочинение (например, в январе 1943 года за четыре дня – сложнейшую новаторскую Седьмую сонату Прокофьева). Иногда он работает не над каким-то одним произведением, а сразу над целой группой, «пластом» сочинений, выстраивая из них затем один или несколько концертов (однажды, в начале 50-х годов он признался, что, помимо текущих программ, у него подготовлено музыки на пятнадцать или двадцать неповторяющихся выступлений!). Можно объяснить это огромной усидчивостью пианиста, занимающегося по восемь-десять часов в день, но все равно эта жадность к музицированию удивительна! «Я – существо «всеядное» и мне многое хочется, – говорит Рихтер. – И не потому, что я честолюбив или разбрасываюсь по сторонам. Просто я многое люблю и меня никогда не оставляет желание донести все любимое мною до слушателя».
Рихтеровская интерпретация каждого произведения всегда неожиданна, впечатляюща. И все же из обширного ряда авторов можно выделить композиторов, исполняемых Рихтером с особенной, уже нечеловеческой силой и озарением: Бетховен, Шуберт, Шуман, Прокофьев... Попробую объяснить эту особенность на примере сонат Шуберта. У многих исполнителей, да и у широкой аудитории они не пользуются большой любовью, считаются скучноватыми, в них отсутствуют виртуозные эффекты, здесь не на чем «показать себя». У пианиста средней руки их, говоря словами Шумана, «божественные длинноты» превращаются просто в длинноты. Прочтение Рихтера исходит из двух предпосылок: 1) шубертовские сонаты – это не концертная музыка, захватывающая слушателя своим блеском, это произведения для домашнего музицирования, уютная, интимная, камерная музыка в прямом смысле слова; 2) их тематизм носит песенный характер, а их принцип развития – вариационно-рондообразный. Этой музыке равно чужды и бетховенский титанизм, и шумановски-гофмановская фантастика; ее надо неторопливо спеть. И Рихтер использует неожиданный прием – он заставляет нас слушать тишину. Целые эпизоды у него в несколько замедленном темпе и – «пиано» и даже «пианиссимо». Прием крайне рискованный: достаточно малейшей шероховатости – и музыка окажется просто монотонной. Но Рихтер знает меру. За редкими исключениями он играет Шуберта легко и просто. Концертный зал словно уменьшается в размерах до небольшой комнатки, музыка идет «от сердца к сердцу»; само время, кажется, течет здесь иначе. Мы оказываемся вдруг в дивном саду, где все – цветы, птицы, люди, фонтаны – гармонично и светло. Утро жизни, свежесть и чистота молодости. Весна...
Каким же образом пианисту удается так гибко и с такой точностью воплотить намерения замечательных композиторов прошлого?
Вновь обращусь к словам Генриха Нейгауза: «Играет ли он Баха или Шостаковича, Бетховена или Скрябина, Шуберта или Дебюсси – каждый раз слушатель слышит как бы живого, воскресшего композитора, каждый раз он целиком погружается в огромный, своеобразный мир автора. И все это овеяно «рихтеровским духом», пронизано его неповторимой способностью проникать в самые глубокие тайны музыки! .
Так играть может только исполнитель, конгениальный исполняемым авторам, их друг и товарищ.
... Вот где тайна его всеохватывающего дарования. Его собственный музыкальный мир, нереализованный, «нерожденный» мир – родствен миру тех великих музыкантов, которых он играет. Говорю это на основании того, что знаю его детские и отроческие сочинения, слышал его великолепные импровизации».
Догадка Нейгауза – замечательно верна.
В Рихтере-исполнителе умер творец, композитор. Огонь своей души, темперамент, выдумку он отдал без остатка чужой музыке. Вот его слова: «Я думаю, что задачи настоящего исполнителя – целиком подчиниться автору, его стилю, характеру и мировоззрению». Он – подчиняясь – перевоплощается. С каждой новой пьесой на его концерте действительно ощущаешь иной «воздух эпохи».
Искусство Рихтера порой загадочно. Мы узнаем итог, но не понимаем сущности процесса, ведущего к результату.
Так, уже много лет существует загадка его ритма.
Английский критик и музыкант Д. Кэтчен писал, что Рихтер это как бы комплекс блестящего пианиста-виртуоза класса Рахманинова и Горовица с особого рода ритмикой. Как всегда, точен и краток Нейгауз: «Он обладает... чувством формы, владением времени и его ритмической структурой». Владеет временем. . . Да, музыка искусство временное: есть средняя, общепринятая продолжительность звучания пьесы, ее темп, размер, ритмические рисунки. Все это можно замерить секундомером. Но, кроме времени реального, есть еще другое время – переживаемое нами. Минута может пронестись как одно мгновение, но может тянуться томительно и долго. Вот в такое переживаемое время и погружает нас Рихтер. Он может колдовски замедлить «ход событий», заморозить, затормозить совсем. Может спрессовать в одно неуловимое движение, бешено ускорить. Он словно забавляется с Эйнштейновой теорией относительности. Ритм Рихтера – не щелканье метронома, а дыхание жизни. Он в рывке спринтера и равномерном шаге человека, идущего в дальний путь, в полете птицы и биении сердца. В среднем эпизоде шубертовского «Музыкального момента» ля-бемоль мажор, – пишет один из исследователей **,– «рисунки струятся с той степенью свободы, когда перестаешь замечать их ритмическую пульсацию. Не пассажи – родник; он журчит то ласково, то звонко, а то вдруг сердито, не зная никаких «опорных звуков», сильных и слабых долей, не ведая, что где-то на нотной бумаге существуют группировки черных кружочков по четыре или по шесть...»
Загадка до конца не разгадана. Может быть, ответ на нее вообще отсутствует.
Но она не единственная.
Вот уже сорок лет исследователи пишут о стихийной мощи его дарования, о рихтеровском «вулканизме», о необузданности его порывов. Рихтер конечно же исполнитель остроэмоциональный, «заводной». Но – властвует ли он над вызванными им же бурями или несется по воле этих волн и вихрей?
Вот наблюдение, принадлежащее одному из ведущих советских пианистов Л.Берману. В середине 50-х годов он обратился к Рихтеру с просьбой о консультации – «не выходила» Восьмая соната Прокофьева. «... Мы просидели у него в доме за роялем часов пять. С тех пор эта соната стала одной из лучших в моем репертуаре. И знаете, что я заметил? До того, как мы с ним встретились, я, как и другие, полагал, что он музыкант стихийный, что идеи приходят ему в голову прямо на концерте, в момент какого-то гениального озарения. А сейчас понял, что у Рихтера все от первой до последней ноты продумано. Что он в первую очередь мыслитель, или, если угодно, архитектор, строитель. В своем воображении он наперед исчисляет гармоничную форму, свои точки опоры, пропорции. Наполняет их живой музыкальной тканью. Заранее продумывает нужные эффекты. Но у него нет приемов ради самих приемов – только ради необходимой ему выразительности. Надо сказать, что на концертах он чрезвычайно пластичен – все знают его манеру откидываться в кресле, словно уходя в себя или, например, высоко вскидывать руки над клавиатурой. Мне казалось, что в этом тоже проявляется его стихийность и даже элемент позы, игры на публику. Так вот, в Восьмой сонате Прокофьева есть одно место – очень колкое, резкое, исполняя которое на эстраде, Рихтер высоко, чуть не на полметра, вздымал руки. над клавиатурой, чтобы потом «спикировать» на нее, нанося совершенно особый, «ввинчивающий» удар. К моему великому удивлению, показывая мне этот эпизод в домашних условиях, без долгого предварительного эмоционального «разогрева» и, естественно, вне концертной атмосферы, Рихтер делал точно те же движения. Оказалось, что они (и не только руками, но еще и корпусом) просто помогают ему добиваться определенного звукового эффекта, нужной ему окраски звука, который иным способом не получишь».
Итак, слушательское ощущение импровизации за клавиатурой не более чем иллюзия: полет фантазии оказывается основанным на точном расчете, стихийность контролируется разумом. Но этого никогда не заметишь на концерте. Можно знать, что Рихтер – великий труженик, что все его открытия – плод огромного домашнего труда. Но это знание всегда куда-то стремительно улетучивается, когда ты слышишь пианиста, живешь вместе с ним в музыке, волнуешься, грустишь, стремишься... Живопись Рихтеоа – в звукописи. Он непревзойденный колорист. Его прелюдии Дебюсси – это ожившие пейзажи Моне. То туманные, теряющие очертания, фантастические видения, то весело играющие всеми оттенками радуги, то залитые солнцем, полные воздуха и света. Еще более причудливый калейдоскоп тембров в «Отражениях» Равеля – пассажи на полуприжатой педали превращаются в совершенно немыслимые на рояле глиссандо, они струятся, вибрируют. Исполнитель словно преодолевает сам «клавишно-молоточковый» фортепианный механизм, исчезает свойственная роялю ударность с последующим затуханием, звук берется едва заметным прикосновением-уколом и затем усиливается, его продолжительность бесконечна. А в «венских классиках» (Гайдн, Бетховен) тембры становятся узнаваемо-оркестральными: вот струнные, вот «хрипун, удавленник, фагот», а это – три валторны, труба, флейта. Исполнитель ничего не имитирует специально, но он инстинктивно ощущает природу того или иного созвучия, цепочки аккордов, мелодического узора, инструментальность самой мелодики венских классиков.
В области звука Рихтер – лакомка. Он неприкрыто любуется всеми оттенками тембра, фиксирует внимание на отдельных нотах, мотивах, фразах, порой даже невольно забывая о целом. Красота звучания рихтеровского рояля бесподобна и совершенна. Любой звук (а у него тысячи неповторимых оттенков) он делает, тщательно создает в своей домашней лаборатории, и если уж создает – то до конца. В этом его величие, величие мастера. Вопросы техники исполнения для Рихтера как бы не существуют, его искусство – высшего порядка, то, о котором Шостакович сказал: «Мастерство начинается там, где исчезает технический блеск». Техника Рихтера в том, что она, как правило, просто незаметна. Лишь время от времени мы обращаем внимание на непринужденное (без усилий, «без пота») исполнение какого-нибудь совершенно невероятного пассажа. Однако часто Рихтер намеренно антивиртуозен: для него более важно содержание, а не форма, и он с наслаждением играет несложные сонаты Гайдна и Моцарта – то, что входит обычно в «детский» репертуар, в программы десяти-двенадцатилетних пианистов. Конечно, попасть на концерт Святослава Рихтера не так легко, да и количество этих концертов в последние годы уменьшилось. Но всегда можно протянуть руку и взять с полки одну из его пластинок. Опустить на диск иглу проигрывателя и погрузиться в мир дивных звуков... Мы чувствуем отличие этого музыканта от других, пытаемся понять – кто он, почему он такой! Сказано и написано о Рихтере много верного и умного. И все же эта попытка вычислить его искусство, поверить алгеброй слов гармонию его звуков далека от завершения. Наверное, мы никогда до конца не сможем понять – почему!
Я уже говорил о некоторых загадках, о тайнах его пианизма.
Добавлю, в заключение, еще одну.
В детстве и юности Рихтер музыке нигде специально не учился, педагога у него не было. Он до всего дошел сам. Был аккомпаниатором в музыкальном кружке одесского Дома моряка, концертмейстером Одесской филармонии, выступал, аккомпанируя певцам, в заводских и колхозных клубах, воинских частях, Домах культуры. С семнадцати до двадцати двух лет работал концертмейстером Одесской оперы.
И только затем – Москва, консерватория, профессор Нейгауз, который скажет впоследствии, что учить Рихтера было нечему, что в его отношении он соблюдал «позицию советчика»: «Рихтера я считаю учеником нашей страны, нашего народа и только в последнюю очередь – своим...» Творчество Рихтера парадоксально. (Слово «парадокс» греческое, в переводе на русский – «неожиданность».) Он все время поступает не так, как ожидаешь. Ломает укоренившиеся связи вещей, привычки, штампы. Этот вечный поиск – поиск высшей художественной правды. И .в этом его теснейшая связь не только с лучшими традициями русской фортепианной школы, но и шире – с русским искусством, русской культурой, с толстовской многоплановостью и глубиной, с почвенностью Мусоргского, с пронзительностью лирики Пастернака.
На второй пластинке вас ожидает встреча со Святославом Рихтером, которую проводит музыковед И. Дробышевская.
В его исполнении прозвучат фрагменты Второго концерта для фортепиано с оркестром С. Рахманинова и 17-й сонаты Л. Бетховена.
Фото Г.Андреева
------------------------------------------------
* Цылин Г- Святослав Рихтер. М., «Музыка», 1981, с. 25.
** Рабинович Д. Портреты пианистов.
М., «Сов. композитор», 1962, с. 245.
П. Белый, Л. Бежин
Диалог о Рихтере
«Советская музыка», 1983, №11
Предлагаемый вниманию читателя материал – не вполне обычного характера. Его авторы – молодой композитор Петр Белый и молодой писатель, кандидат филологических наук Леонид Бежин (автор книг «Метро Тургеневская», «Се Линъюнь», «Под знаком «ветра и потока», повестей, рассказов).
Музыкант и литератор размышляют об искусстве Святослава Рихтера. Не все может показаться читателю одинаково убедительным в этом диалоге; некоторые мысли носят субъективный, а подчас и откровенно полемический характер. Таковы, к примеру, невольное противопоставление музицирования С.Рихтера драматическому акту публичного исполнения В.Софроницким или общая мысль о «сверхличных формах искусства». Возможно, и эти, и некоторые другие суждения вызовут желание поспорить с авторами, высказать в чем-то отличную от них точку зрения. И все же в целом, думается, они во многом по-новому, с иной – против общепринятой – высоты стремятся осознать явление Рихтера. Попытка тем более ценная, что речь идет о существе исполнительской интерпретации, о самой предназначенности исполнительского искусства в современном мире. Именно поэтому многое из того, что найдено и познано авторами в Рихтере, применимо в той или иной степени к любому по-настоящему крупному художнику. Прежде всего это касается, конечно, великой отечественной традиции – средствами музыки нести людям правду о жизни.
Л.Б. Не правда ли, Рихтер всеобъемлющ? Кто из критиков не поражался его репертуару – от Баха до Прокофьева и Мясковского! Такой универсализм порождал подчас сомнение: а как же личные пристрастия, склонности, где те кумиры, которым отдано особое предпочтение! У Софроницкого такой кумир – Скрябин, у Гилельса – Бетховен, у Артура Рубинштейна – Шопен, у Гульда – Бах. Критика иногда пыталась искусственно подыскать Рихтеру личные привязанности, говоря о его особой любви к Бетховену или Прокофьеву. Но я возьму на себя смелость заметить, что эта любовь не отличается особым постоянством, и если в концертных программах последних лет действительно часто звучит Бетховен, то Прокофьева мы слышим реже. Говорю это вовсе не в укор. Мне кажется, что за широтой рихтеровского репертуара стоит эстетическая концепция.
Вы должны согласиться, что есть пианисты, причем великолепные, с довольно узким репертуаром, и это вовсе не грех. Собственно, всем артистам – и это не секрет! – для наиболее полного самовыражения требуется образный мир, отвечающий их эмоциональному складу, их психике. Они обживают его изнутри, «чувственно». У Рихтера же, как мне кажется, иные корни. Он прежде всего объективен и поэтому в своих репертуарных поисках стремится показать нам не отдельное «небесное тело», а как бы всю музыкальную вселенную. Рихтера музыка интересует в эволюции, он мыслит в ней становящийся ряд. Поэтому у него никогда не происходит смешения стилей, он не переносит XVIII век в XIX и наоборот. А ведь подобные «накладки» в принципе не исключены для артистов субъективного склада. Я, может быть, слишком настойчиво провожу это деление, но пусть оно будет рабочей гипотезой. Рихтер строго выдерживает эволюционную модель именно потому, что исходит из объективной сущности музыки. Я не хочу сказать, что он играет сухо. В том-то и загадка, что «педантичный», соблюдающий мельчайшие композиторские ремарки Рихтер эмоционально захватывает как никто. Знаете, в одной из философских систем Востока понятие «сердце» объединяло в себе и ум и чувства. По- моему, это вполне приложимо к Рихтеру. Его эмоции насыщены интеллектом, а интеллект эмоциями.
Рихтер – художник не «психического момента», не однажды вспыхнувшего и тотчас угасшего озарения, а художник протяженного времени. В его микроструктуре всегда присутствует макро: играя что-то одно, он как бы держит в уме всю музыку. В его Бахе подразумевается не-Гайдн, не-Бехтовен, не-Моцарт.
П.Б. Можно бы возразить: ведь и у Гульда выдержан баховский стиль.
Л.Б. Да, но с большей субъективной окраской. Это не Бах, расположенный во всемирном эволюционном ряду, а Бах в рамках гульдовской субъективности. Перед нами, безусловно, счастливый случай совпадения одного и другого, но мы не имели бы у Гульда подобного совпадения в Шопене, Шумане, Листе.
П.Б. Если бы Гульд взялся исполнять Шопена, Шумана и Листа, это было бы до неправдоподобия интересно и притягательно, и мы с вами полетели бы к этому исполнению, как мотыльки на огонь, даже если бы там и не произошло того, что мы не совсем точно назвали «совпадением» в случае с Бахом. Наш жгучий интерес был бы вызван тем, что Гульд – потрясающий, даже уникальный интерпретатор в прямом и полном значении этого слова. То есть нас в большей мере интересовал бы сам Гульд с этим его талантом – помимо собственно исполнимого им.
Мы не можем сказать уверенно, каков «правильный» стиль исполнения Баха. Поэтому мы не можем сказать, как бы нам этого ни хотелось, что у Гульда подлинный баховский стиль.
И даже Рихтер, «соблюдающий мельчайшие композиторские ремарки», был лишен возможности соблюдать их, исполняя «Woltemperiertes Klavier», ибо лейпцигский кантор пренебрег такими указаниями. Не кажется ли Вам, что он поступил мудро? Он будто предвидел, что его музыка, живя во времени, будет изменяться, будет контрапунктировать ходу времени, и время будет само вносить ремарки в его нотный текст. И тут мы вплотную подходим к феномену Рихтера.
Конечно, Бах требовал от будущего исполнителя сотворчества. Он апеллировал не к добросовестному, пусть даже великолепному, исполнителю, но к творцу. К мужеству Эдипа перед Сфинксом.
Что нас влечет к Рихтеру, влечет неодолимо, жадно? Блеск ли его мастерства – безусловно громадного; его ли узкопианистическое искусство – будь то абсолютное техническое совершенство, тонкость звукового колорирования, уверенное строительство формы; тот или иной характер исполнительской концепции в целом?
Нет. За этим мы обращаемся к другим мастерам-пианистам – и с благодарностью получаем то, что ищем. К Рихтеру нас влечет другое. Нас влечет правда.
Здесь мы оказываемся перед этической сущностью рихтеровского феномена – самой, на мой взгляд, важной стороной его артистической миссии.
Рихтера не ослепляют химеры. Он чужд эстетства, в его исполнительских концепциях нет и тени той игровой парадоксальности, которая способна обольщать подчас даже искушенных знатоков. И вот что важно. Рихтер не озабочен самовыражением. В этом он сродни Баху – в его исполнении мы не найдем субъективноличностных «ремарок». Интенсивность его сотворчества приближается к полному творчеству, к конгениальности, к единению с автором. Здесь – величайшее таинство рихтеровской натуры. Творческое «я» Рихтера настолько грандиозно, что мы его не ощущаем, ибо оно способно полностью отождествить себя с творцом. Поэтому Рихтер не нуждается в «самовыражении». Его самовыражение – это Бах, это Бетховен, это Шуман, это Прокофьев, это Барток, живущие теперь, сегодня в нем.
Мне нравится Ваша мысль, что Рихтер как бы держит в уме всю музыку. Это важная мысль. Могучее течение реки времени словно прошло через него и увлекло его за собой – в настоящее. Рихтер – художник безусловно современный. Он не стоит в стороне от самых насущных духовных поисков современности, он проникнут ими как немногие. Это художник, многое и глубоко познавший и несущий свое знание всем нам, сегодняшним. Освобождая то духовное содержание, которое заключено в великих творениях музыки, Рихтер дарит его нам как величайшую действенную силу. Он как страж на маяках человечества. В этом, мне кажется, пафос его труда, его служения искусству, самой идее Искусства, о которой Бодлер сказал:
То пароль, повторяемый цепью дозорных,
То приказ по шеренгам безвестных бойцов,
То сигнальные вспышки на крепостях горных,
Маяки для застигнутых бурей пловцов.
Л.Б. Согласен с Вами. Правда, одну деталь хочу не то чтобы оспорить, но уточнить. Да, оригинальный баховский текст не содержит авторских ремарок, но вправе ли мы говорить, что это полностью герметизирует его, превращает в «вещь в себе»? В ремарках многого не скажешь, стиль исполнения Баха вытекает из самой сущности его музыки, из ее правды, как Вы выразились.
Но это к слову... Напомню: есть понятия программной и непрограммной музыки. Несколько расширяя их сферу, я бы рискнул сказать о программном и непрограммном исполнительстве. Возможно, это звучит несколько искусственно, но если уж «заносить Рихтера» в ту или иную рубрику, он, конечно же, непрограммен.
Что я имею в виду? В мемуарах о Софроницком рассказывается, как увлекали его сопоставления собственной исполнительской манеры с творчеством Блока, Достоевского. Подобные аналогии стали привычными, и ныне вовсе не считается признаком дурного тона заметить, что у Софроницкого в Скрябине читается Блок или Достоевский. Рихтер же никого не «вчитывает» в Скрябина. Рихтера интересует сама музыка. Чужой личностный опыт ему не нужен, но зато он широко пользуется теми общими формами, которые выработало искусство. Не правда ли, в рихтеровских интерпретациях Баха особо чувствуется архитектурный план? Звуковые пласты в его полифонии расчленены наподобие архитектурных ярусов, его фуга выстроена как собор, полифония барокко напоминает у него храмы барокко. С помощью тембровой палитры он как бы разграничивает пластические массы, насыщая пространство меж ними воздухом.
Можно бесконечно долго говорить и о колористическом искусстве Рихтера, хотя – Вы правы – оно не самодовлеет. Но ведь Рихтер – живописец, и подход-то его к музыке живописен. Это опять те же общие или, скажем так, сверхличные формы, синтезированные им. Возьмите Дебюсси: даже если вы чужды аналогий между исполнительством и живописью, Рихтер заставит вас вспомнить импрессионистов. У меня, например, всегда возникает ощущение, что «Шаги на снегу» он играет белым звуком.
П.Б. Да, я тоже это «слышу» – настолько, насколько можно слышать цвет и видеть звук. И хотелось бы согласиться со всем, что Вы сейчас сказали, но ...чувство какого-то беспокойства, неуверенности не позволяет этого. Конечно, искусство Рихтера сложно. Когда Вы подчеркиваете совершенство музыкальной «архитектуры», я охотно и с удовольствием разделяю Вашу мысль (хотя назвал бы это не архитектурой, а строительством музыки, подчеркнув процессуальную сущность ее как вида искусства). Но когда вслед за этим вы говорите, что подход Рихтера к музыке живописен, я не могу не ощутить противоречия (хотя знаю, какая это уникальная живопись – рихтеровский Дебюсси или Шимановский). Но не абсолютизируете ли Вы эти качества? Не ступили ли мы в нашем анализе на ложный путь? Признаюсь, соблазнительно продолжить ряд аналогий и сказать дальше, что подход Рихтера к музыке – скульптурен (какой скульптурной является, к примеру, интерпретация им Первой сонаты Бетховена, не правда ли?).
Давайте все же будем видеть в Рихтере не архитектора, не живописца, не скульптора, а прежде всего совершенного музыканта. Мне кажется, тогда мы существенно продвинемся вперед в нашей беседе.
Поясните, кстати, что Вы понимаете под сверхличными формами и не присущи ли они также и самой музыке?
Л.Б. Да как Вам сказать! Собственно, все мы оперируем некими полуосознанными эстетическими моделями, то есть воспринимаем мир в живописных, скульптурных, архитектурных и прочих формах. Многовековое развитие искусства не прошло бесследно даже для самых заповедных уголков нашего сознания, отложившись там в виде эстетически значимых символов. Это особенно отразилось в языке. Мы говорим, что природа живописна, осень называем левитановской, говорим, что краски у того или иного художника звучат. Чаще всего это воспринимается как эстетическая норма, иногда в этом есть доля эксперимента, как, например, в выражении Брюсова «яркопевучие стихи». И это особого рода вещь – средствами одного искусства как бы добиться эффекта другого. Такие «пограничные» эффекты представляют собой интереснейший эстетический феномен. Творчество Рихтера, как мне кажется, дает здесь громадный материал. Возьмите, к примеру, его чувство целого, архитектоничность параллели здесь сами собой напрашиваются. Вы удачно назвали Рихтера строителем, а ведь у этого слова вполне определенные истоки. Видите, даже Вас, противника слишком вольного анализа, язык вывел па эту «скользкую дорожку»...
Конечно, «сверхличные формы» присущи и самой музыке, но один музыкант их энергично выявляет, а другой затушевывает. Рихтер, на мой взгляд, принадлежит к первым. Он выявляет в музыке структуры смежных искусств и делает это очень активно. Вы не согласны? Я субъективен?
П.Б. Как знать... Вероятно, субъективны и мои суждения. Меня обнадеживает, однако, то, что нас в данном случае двое. Это поможет нам если и не постичь таинственный субстрат, связующий части того сложного, что есть Рихтер, то хотя бы приблизиться к нему.
Итак, в сознании (или в подсознании?) большого круга, если не всех, людей глубоко укоренились «эстетически значимые символы»? Иными словами, это не исключительное свойство, а скорее всеобщее, и всякий человек, тем более артист, наделен им. Выявление взаимосвязей структур смежных искусств животворно, но разве оно – прерогатива Рихтера? Не спорю, у Рихтера оно выражено более остро и точно. Но не будем несправедливы к другим. По-моему, не в этом ключ к тайне творчества Рихтера. Я настойчиво подчеркиваю слово – «творчества». Вообще, когда мы прибегаем к выражению, ставшему расхожим штампом под пером рецензентов: тот или иной пианист «творит за фортепиано», – мы делаем страшное допущение. В большинстве случаев все обстоит гораздо проще, иногда гораздо циничнее, как ни прискорбно. Но к Рихтеру эта фраза – «творит за фортепиано»– применима в полной мере, безусловно. Нам остается «лишь» объяснить, почему он может это делать.
Л.Б. Кажется, я Вас понял. Есть пианисты, склонные выносить на эстраду как бы результат предшествующей творческой работы. К примеру, таким пианистом был Метнер. Рихтер, конечно же, тоже обдумывает, вынашивает замыслы. Но каждый раз творчески воссоздает их. Творческий процесс сжимается у него в «зону» концертного времени. Меня всегда электризует живое биение этого процесса, и я до какой-то осязательной иллюзии ощущаю раскаленную, вулканическую магму рихтеровского искусства. Да и не только я, наверно. Вспомните «Аппассионату» или Шестую сонату Прокофьева. Когда Рихтер их играет, мы чувствуем такую интенсивность горения, будто присутствуем при создании шедевров. Конечно, здесь творчество, Вы правы. Но я бы добавил: «непрограммен», мне показалось, что под понятием «программность» Вам чудится нечто себя скомпрометировавшее, почти неприличное. Но полагаю: называя Рихтера приверженцем «чистой музыки», Вы не хотели сказать, что он поэт структурализма. Если же Вы хотели это сказать, то мы окажемся в разных эстетических лагерях, и я объявлю Вам войну. Я не верю в «чистую», стерильную музыку. Уверовать в столь проблематичный феномен – значило бы ограничить познание музыки самым низким уровнем структурной организации ее как системы. А возводя такое понимание структуры в абсолют и приписывая его Рихтеру, мы неизбежно попадем впросак.
Что подразумевать под непрограммностью? Свободу музыки от какого бы то ни было содержания и неподвластность ее законам отражения? Ни одно из искусств не обладает подобной независимостью. Что понимать под программностью? Поверхностно-сюжетную канву или те словесные описания ученых авторов, которые бесплатно прилагаются к концертным программкам? Нет, мы не будем тревожить тень Рихарда Штрауса и подвергать остракизму почтенных музыковедов! Речь не о том. Но программность, становящаяся в развитии собственно музыкальной идеи, в ее интонационно-смысловом, психологическом развертывании; программность, заключенная в самой стилистической атмосфере сочинения, как бы запечатлевающей для нас обобщенный образ времени, – такая программность, на мой взгляд, неотъемлема от музыки. Исполнение Рихтера есть акт творения такой программности в рамках рационалистически точнейшего ощущения музыкальной структуры, помноженного на нечеловеческую мощь вдохновения. Это подлинное провидение художественной правды. Именно о таком исполнении Шостакович писал: «... главной задачей, которую ставит себе Рихтер, является точное и, в то же время, творчески-вдохновенное изложение авторского замысла. Этой цели Рихтер посвящает весь свой огромный талант, все свое феноменальное мастерство».
Уместно вспомнить: Рихтер был участником первых исполнений Седьмой, Девятой и Виолончельной сонат Прокофьева, Скрипичной сонаты Шостаковича. И эти исполнения вызывали восхищение авторов! Не доказательство ли это его гениальной интуиции? Скажу больше: не создается ли подчас ощущение, что не только эти, но и многие сочинения Шуберта, Бетховена, Шумана, Брамса, Мусоргского, Бартока, Шимановского – для нас тоже своего рода первые исполнения, незабываемые премьеры Рихтера?
Л.Б. Упомянув Мусоргского, Вы, вероятно, имели в виду «Картинки с выставки». Это прекрасный повод для конкретного разговора о рихтеровской «программности». Ваше определение меня убедило: явление Рихтера ни в коей мере нельзя ставить рядом с явлением современного структурализма. Рихтером сыграна программа «Картинок» в той мере, в какой она воплощена в самой музыке, по им не сделано ни единой попытки усиления тех или иных акцептов извне привнесенной программности. Помните «Богатырские ворота»? Игра Рихтера соотносима с живописным, зрительным образом, но они, как параллельные прямые, не перекрещиваются... И соотносимость эта не очевидна, а возникает в результате сложной «игры в бисер», игры воображения. Структура музыки нигде не нарушена в угоду литературным эффектам.
Знаете, с кем из деятелей современной культуры я бы сравнил Рихтера? (Не пугайтесь этой аналогии, она не столь парадоксальна, как кажется на первый взгляд.) Как интерпретатор Баха, Бетховена, Шумана он удивительно близок Алексею Федоровичу Лосеву как интерпретатору Платона, Аристотеля. Близок и по темпераменту, и по какой-то глубинной эстетике творчества, и – тут уж Вы меня спровоцировали – по чуждости структурализму.
П.Б. Мы согласились, что исполнительство Рихтера программно – но программностью, далекой от поверхностного ее понимания («картинность», «сюжетность» и т.п.). «Картинки» Мусоргского и рисунки В.Гартмана, послужившие программой композитору, – тоже непересекающиеся параллельные прямые. Ведь «Богатырские ворота» с их былинной мощью столь же далеки от сказочно-пряничных «Ворот» Гартмана, как далек Рихтер от тех пианистов, которые с напыщенностью неудачливых факиров пытаются «живописать» за фортепиано. Хорошо известно, что настоящая программа, положенная Мусоргским в основу «Картинок», – много шире того, что подвигнуло его на сочинение этого цикла. Вы отметили близость Рихтера Лосеву. Мне бы хотелось отметить сходство музыкально-творческого метода и вообще «музыкальной идеологии» у Рихтера и у Мусоргского – опять в развитие мысли о программном начале искусства.
Действительно, трудно найти композитора, столь воинствующе «программного», как Мусоргский. Но что двигало им в его яростном отстаивании этой идеи? Вряд ли то же, что двигало, скажем, Рихардом Штраусом, когда тот употребил все свое композиторское мастерство, чтобы изобразить стадо овец в «Дон Кихоте»! Конечно, такая задача не могла увлечь Мусоргского сколько-нибудь глубоко, хотя и в сфере картинной иллюстративности он был неподражаем. Понимание программности, основанной на безграничных интонационных возможностях музыки, роднит, по моему убеждению, Рихтера с Мусоргским, ибо природа рихтеровского музицирования, безусловно, интонационна. Роднит их и нечто большее. Напомню: музыка для Мусоргского – «искренняя речь к людям», могучее средство внушения, а миссия творца, по Мусоргскому, – действенное вмешательство в жизнь. Такая художническая позиция удивительно близка Рихтеру этически и, на мой взгляд, доставляет суть, самый пафос его артистической деятельности. Таким образом, Рихтер выступает как продолжатель высоких демократических традиций русской классической музыкальной школы.
Программность рихтеровского творчества глубинна, она сложна и противоречива, как сама жизнь. Не в этом ли причина столь необыкновенной притягательности его игры для людей? Наконец, программность Рихтера философична. Вот это глубокое постижение Рихтером жизни и тайного тайных искусства в соединении со способностью к масштабным обобщениям может, по-моему, быть формулой для обозначения коренных свойств Рихтера как артиста. К сожалению, почти все формулы, утешая своей доступностью и простотой, грешат абстрактностью. Не будем строить иллюзий. Чтобы следовать по пути, диктуемому этой формулой, нужны редчайшее мужество, огромный запас духовных, жизненных сил, невероятная мощь таланта. И нельзя не склониться перед человеком, по этому пути идущим.
Л.Б. Да, формулы абстрактны, согласен. Вот он, Рихтер, берет вступительные аккорды к Концерту Грига, даже самый первый аккорд – вулканически наэлектризованный, бурлящий, рвущий какие-то связки, идущий из самых недр рояля, от медных колесиков рояльной лапы,– и это уже Рихтер, Вы понимаете?! Попробуйте-ка дать тут формулу... у Вас просто возникает навязчиво знакомое ощущение этой рихтеровской материи, мгновенно сотканной из воздуха.
Знаете, было несколько счастливых поэтов, которым словами удалось передать ощущение музыки – вещь почти невыполнимая. У Бунина: «Сомнабулически прекрасное начало «Лунной сонаты». У Мандельштама: «А ты ликуешь, как Исайя, о, рассудительнейший Бах!». Или у Пастернака:
Так некогда Шопен вложил Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил В свои этюды.
На слове «могил» у меня, например, волшебным образом начинает звучать средний эпизод Этюда е-moll из ор.25. Фантастически точное совпадение... Я говорю это к тому, что и искусство Рихтера еще ждет своего поэта.
Кстати, что вы думаете о рихтеровском Шопене? Пожалуй, это самый проблемный пласт его репертуара, и хотя, подтверждая свою универсальность, Рихтер играет Шопена, здесь чувствуются законы некоторой избирательности.
Возьмите ноктюрны, исполняемые им в последнее время, ведь это преимущественно поздний Шопен, Шопен многослойной полифонической ткани, Шопен «рассудительнейший», и мне кажется, именно эти черты Рихтер подчеркивает. У него – Шопен какого-то просветленного интеллекта, ясности, мудрости. И в общем-то это открытие в мировой шопепиаие.
П.Б. Я знаю, что многие не принимают рихтеровского Шопена. Пианист отвергает устоявшиеся штампы в интерпретации польского гения, «снимает» налет преувеличенной экзальтированности, подчеркивая то, мимо чего раньше проходили равнодушно, – эпические черты. Отсюда, возможно, и происходит та избирательность, которую Вы заметили. И как всегда у Рихтера, в таком неожиданном, как кажется поначалу, раскрытии Шопена – нет произвола. Как и в других рихтеровских концепциях, здесь все зиждется на полной убежденности – результате сложного мыслительного процесса, который я назвал бы чисто рихтеровским «вхождением» в автора. Это такое «вхождение», когда между исполнителем и композитором нет никаких посредствующих звеньев, когда артист свободен от гнета традиций, нередко весьма сомнительных. Шопеновская мысль развивается у Рихтера широко, вольно, мудро и просто, ничуть не скованная нервическими судорогами, которые приобрели у иных «шопенистов» едва ли не ритуальное значение. И это, действительно, нельзя не расценить как открытие в шопениане. И, наверно, всегда будут будить свежие мысли, всегда будут плодотворны споры вокруг рихтеровского Шопена. Да только ли Шопена? Вы, вероятно, заметили, что подобные споры возникают чаще там, где больше накопилось этих пресловутых традиций. Возьмите Шуберта, его сонату В-dur.
Л.Б. Музицирование – вот, по-моему, ключ к пониманию рихтеровской интерпретации Шуберта. Я вкладываю в это слово тот старинный смысл, который был присущ ему во времена домашних ансамблей, причем, это слово не просто приятно своей окраской. Оно предполагает и особый подход к музыкальному тексту, и особую форму общения со слушателями.
Пожалуйста, не подумайте, что я подыскал для Рихтера новую абсолютную формулу, я хочу коснуться лишь одной из составляющих его исполнительской эстетики.
Согласитесь: эпоха романтизма создала в нашем представлении трагический образ артиста, одинокого перед многоликим залом. Он выходит на эстраду для единоборства с толпой, для драматического поединка, он горделиво замкнут в себе, обернут в плащ индивидуализма. Недаром в эпоху Паганини и Листа появляется маска артиста-демона. Собственно говоря, внешние атрибуты романтического представления об артисте сохранились в концертном ритуале и до сих пор: черный фрак, эстрада, цветы, и, мне кажется, те же корни имеет и знаменитое сценическое волнение, знакомое всем выступающим. Не досталось ли оно нам в наследство от романтического переживания антитезы «артист и толпа»?!
Не кажется ли Вам, что Рихтер совершенно чужд романтической корриде между артистом и залом? Даже такой штрих говорит о многом: на конвертах пластинок он чаще всего сфотографирован не в глухом черном фраке, а с расстегнутым воротом простой рубашки. Маска артиста- демона ему не подходит, и мы вправе вспомнить замечательные слова поэта:
Поэзия не прихоть полубога,
А хитрый глазомер простого столяра.
В театре XX века произошла реформа: исчезла рампа, сцена приблизилась к залу, как бы вдвинулась в зал. Разрушился психологический барьер между артистом и зрителем. Не стремится ли к тому же и Рихтер – в каких-то отдельных моментах, разумеется?.. Не слышится ли Вам иногда в его трактовках нечто прямодушное, неискушенное, я бы сказал, доромантическое? Это и есть музицирование. Кстати, не потому ли и в артистическую деятельность Рихтера органично входит вокальный аккомпанемент. Он много играет в ансамбле. Это звучит парадоксально, но выдающийся интерпретатор как бы и не придает искусству интерпретации самостоятельного статуса. Фортепианная игра для него одна из форм служения музыке, и это тоже входит в понятие музицирования.
Шуберт у Рихтера, казалось бы, менее всего концептуален. Здесь очень сильны подпочвенные фольклорные родники. Шуберт у него а р х и т и п и ч е н народному танцу, народной песне. В нем нет классицистской выверенности пропорций, и в длиннотах шубертовской сонатной формы как бы празднуется карнавал бесконечной, длящейся музыки.
П.Б. Готов принять Вашу трактовку музицирования. Вы со своей стороны подходите к тому, что я раньше назвал демократизмом Рихтера, чуждающимся романтической позы. Сюда же нужно отнести и просветительские устремления Рихтера, присущую ему на протяжении всей его артистической карьеры волю к воскрешению незаслуженно забытого, редко исполняемого, заброшенного по причине «невыгодности» (эта пресловутая «невыгодность» – колоритный образчик расхожего профессионального цинизма, когда средство подменяет собою цель) и т.д. Ведь это Рихтер по-настоящему открыл для нас фортепианного Шимановского, потряс Третьей сонатой Мясковского, впервые познакомил с некоторыми сочинениями Бартока... Сюда же по праву нужно отнести и любовь Рихтера к участию в ансамбле: Квинтет и Трио Франка, f-moll’ный Квинтет Брамса, квинтеты Дворжака, Шостаковича, незабываемые выступления в ансамбле с Давидом Ойстрахом (вот поистине ансамбль века!), с Д.Фишером-Дискау...
Л.Б. Просветительство? Пожалуй... Однако, применяя это понятие к Рихтеру, давайте и в него внесем кое-какие оттенки. Возьмем, к примеру, такой репертуарный пласт пианиста, как русская музыка. Что мы здесь видим? Да, мы находим в нем редко исполняемые Третью сонату Мясковского, Большую сонату Чайковского, Пятый концерт Прокофьева. Вместе с тем Рихтер остался в стороне от процесса сознательного ориентирования на экзотику забытого. Есть исполнители, сделавшие такого рода просветительство своим знаменем. Одни пропагандируют модерн, другие добаховских полифонистов... Рихтеру ничто не мешает рядом с мало кому известным Шимановским сыграть сверхпопулярный «Революционный этюд» Шопена. Музыка для него едина...
Русская музыка для Рихтера – вечное поле тяготения, и, может быть, несколько схематизируя, рядом с этим полем я бы выделил еще одно. Скажем: Мусоргский, Чайковский, Прокофьев и – Бах, Бетховен, Шуман, то есть классика русская и классика немецкая. Это благодатный синтез для нашей культуры, не однажды дававший золотые плоды. Пианист тут причастен к чему- то глубинному, что закодировано даже в его имени: Святослав Рихтер (уж простите мне этот субъективный пассаж)... Может быть поэтому, исполняя русский репертуар, он чужд какого бы то ни было «почвенничества» и обнажает глубинное родство, связывающее нашу музыкальную культуру с мировой, Запад и Восток у него неразделимы...
П.Б. И все же Рихтер прежде всего принадлежит русской музыкальной школе, для которой идея братства народов всегда была органичной. Вспомним такие музыкальные явления, как «русский Восток», «русская Испания», «польская» опера Римского-Корсакова «Пан воевода» и многое другое. Корни рихтеровской «всеохватности» – в принадлежности его к русской школе, ею он вскормлен, с нею связан кровно.
Л.Б. Не стану спорить с Вами...
Хочу обратить внимание на один как будто чисто внешний штрих. Рихтер чаще всего буквально набрасывается на клавиши, минуя стадию предварительного «ввода» в то, что ему надлежит исполнить. Он не вытирает руки платком, не подкручивает винты табуретки. Замечали ли Вы все это? В чем тут дело? Думается, Рихтер стремится успеть за предвпечатлением, ведущим его, как нить Ариадны; верно пойманное, оно и обеспечивает ему «ввод» в музыку.
Если хотите, аналогия из области прозы. Ориентацию на предвпечатление сделал частью своей эстетической программы поздний Валентин Катаев. Он считает предвпечатление единственно верным, обеспечивающим максимальный художественный эффект: молния еще не сверкнула, а вы уже как бы ощущаете ее всю, воссоздали ее в воображении...
Рихтер, при всей неукоснительной логичности своего музыкального мышления, зависит от предвпечатления. Иногда чувствуешь: вот не удалось ему начать, и уже дальше происходит что-то не то. В синтезе интуитивного и логического тоже, мне кажется, один из секретов Рихтера.
Интересно сравнить его с Робером Казадезюсом, чей выверенный рационализм не ищет себе поддержки в прихотях интуиции. Интерпретации Казадезюса – это гимн французской ясности. У Рихтера же плюс к этому и «чем случайней, тем вернее».
П.Б. Рихтеровскую игру питает не вдохновение ювелира, упоенного созиданием формы, застывающей в конце концов в неподвижности и как бы отторгающейся от творца, не любование сложившимся узором, не достижение формы как конечной цели. Самый процесс творчества – этой борьбы за истину – поднимается Рихтером до высоты эстетической категории. Каждое его исполнение – героический акт. Борьба, преодоление, познание. Пианист воплощает именно процессуальную природу музыки, живой драматизм течения времени, драматизм непредсказуемости каждого последующего момента и его неотвратимости. Отсюда это ощущение стихийности, «раскаленной магмы». Но Рихтер – не щепка на волнах этого течения, он властвует над мощным потоком. Разум одерживает верх над стихией. И когда мы «оглядываемся» назад, на отзвучавшее только что, – здание музыкальной формы, воздвигнутое в таком напряжении ума, чувств и сил, поражает своей стройностью, вознаграждает минутами духовного прозрения. Хочу подчеркнуть значение драматического и героического начал в искусстве Рихтера. Не потому ли произведения Бетховена, в которых так остра и яростна борьба разума и стихии, влекут пианиста, не потому ли так идеально соответствуют его артистической натуре?
Л.Б. Собственно говоря, искусство Рихтера даже трудно назвать искусством интерпретации, ибо интерпретаций может быть много, у нас же, слушающих Рихтера, возникает ощущение, что это единственно возможный вариант исполнения Баха, Бетховена, Рахманинова.
Было бы неверным ставить Рихтера над всеми современными пианистами, но, мне кажется, ему принадлежит среди них особое место.
П.Б. Действительно, когда мы говорим о Рихтере, у нас не возникает желания разлагать на элементы его мастерство, вспоминая какие-то «находки интерпретации», технические детали пианизма и так далее. Хотя все это непререкаемо – и во всем блеске – существует, оно кажется неважным перед громадностью художественного результата; мы почти забываем о затраченных средствах, как меркнет перед что. На наших глазах происходит нечто потрясающее своей единственностью: мы присутствуем при открытии некой истины, наше волнение неописуемо... Мы снова вернулись – и это, кажется, было неизбежно – к понятиям: истина, правда. Не они ли воспламеняют вдохновение художника-исследователя, художника-борца, не они ли питают его великое мужество? Говоря словами Горького, «нашу беседу об искусстве мы – истинно по-русски – свели к вопросам морали». Что ж, Рихтеру даже в малейшей степени чужд всякий, если можно так сказать, квиетизм. И здесь он коренной русский художник, потомок Толстого и Достоевского, Чайковского и Мусоргского.
Интенсивность жизни и деяний Рихтера на эстраде немыслимая. Каждому слушателю рихтеровских концертов знакомо ощущение, когда вас, покойно сидящих в удобном, казалось бы, кресле, Рихтер вдруг лишает какого бы то ни было чувства комфорта, и вот вы уже открыты всем ветрам и невольно поеживаетесь от бегущих по спине мурашек. Но кто же согласится променять этот рихтеровский неуют на мирную атмосферу баюкающих клавирабендов пианистки Ш?
Л.Б. Стремление Рихтера выйти за рамки чистого музицирования проявилось и в фестивалях, которые вот уже дважды прошли в Музее изобразительных искусств: внутренняя и органичная пластичность рихтеровского музыкального мышления как бы дополнилась скульптурно-живописным обрамлением, строгая форма концерта превратилась в своеобразное синтетическое действо, подчиненное выверенной режиссуре.
Сам стиль игры Рихтера – если Вы заметили – несколько отличается здесь от его обычного стиля. Рихтер часто играет по нотам, при наполовину поднятой крышке рояля, словно подчеркивая, что лишь создает музыкальную среду для восприятия общей атмосферы и вовсе не собирается переключать на себя все внимание слушателя.
П.Б. Традиция концертов в музее основана у нас Владимиром Владимировичем Софроницким. Однако его выступления в Квартире-музее А.Н. Скрябина были актом глубочайшей интроспекции. Этому способствовали и скромный интерьер, и самый воздух скрябинского обиталища, рождавший атмосферу абсолютной доверительности... Вы не случайно употребили термин «режиссура», он, как мне кажется, уместен. Концерты Рихтера в музее – это представление, показ, экспозиция. Мне подчас чудился даже некоторый культурологический акцент в происходящем (дававший себя знать, в частности, в концертах на выставке «Век Моцарта. Интерьер и художественная среда»), который я ощущал как помеху, тем более досадную, что исполнение Рихтером ансамблей Моцарта, далекое от музейной реконструкции стиля, буквально завораживало насущной жизненностью, рядом с которой «мертвели» материальные предметы выставки. Задуманная иллюзия воскрешения ушедшей атмосферы была разрушена все той же правдой рихтеровского искусства...
Л.Б. Любопытно, как Вы относитесь к присутствию телекамер па выступлениях пианиста?
П.Б. На мой взгляд, вмешательство телевидения и энергичного А.Золотова придают музейным вечерам Рихтера дополнительную парадность, «выставочность». Добавлю: Рихтер словно рожден для больших залов, для огромных аудитории. И дело здесь не в надсадной ораторской риторике, часто попросту невозможной (например, в сочинениях Дебюсси), а все в той же интенсивности жизни на эстраде.
Л.Б. Кажется, Вы хотите сказать, что Рихтер в Пушкинском музее ставит свое искусство в положение ему неподобающее?
П.Б. Да, я хочу это сказать.
Л.Б. И все-таки я с Вами не соглашусь. При полнейшей чуждости внешним атрибутам концертанта-гастролера – помните, мы об этом говорили?– Рихтер как никто воплощает в себе внутреннюю суть артиста, о которой поздний Пастернак сказал, что «строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют».
Сколько распылено вокруг прозаически будничного отношения к искусству! Жизнь есть жизнь, и иногда хочется взять с книжной полки «что-нибудь веселенькое» и просто «почитать в метро». Ни с кого за это не взыщешь, но, право же, порой духовно необходимо знать, что есть художник, хранящий в себе священный и неугасимый огонь Искусства, он наш современник, и имя ему – Рихтер.
П.Б. Трудно исчерпать тему нашей беседы. Мы здесь только притронулись к ней. Кажется, нас влекло к этой теме то, о чем писал Иво Андрич: «Как удивительно это наше человеческое, «слишком человеческое» стремление непременно искать тайну любого совершенства и этой тайной его объяснять. Многие не могут относиться к чужому таланту или величию как к простому факту».
Давайте же просто слушать Рихтера! Он продолжает играть...
«Юность», 1984, №1
Н.Зимянина, Н.Дорлиак, И.Антонова, Н.Гутман, О.Каган, Г.Писаренко, В.Лобанов, Ю.Башмет, И.Бобровская.
О РИХТЕРЕ
Наталья Зимянина
Обидно бывает, когда Большой зал консерватории имени Чайковского с Концертным залом имени Чайковского путают. Приходят на концерт впритык – а билеты не сюда. А еще обиднее, когда улицу Герцена знают только по магазинам: «Свет», «Ткани», «Рыба»... Почти у Кремля она начинается, аккуратно втекает в «ворота» стоящего по обе стороны университетского здания, в котором за полутораметровыми стенами кипит какая еще энергия мысли. Выше – консерватория, напротив нее – осколок Москвы дремуче-древней, церквушка Малое Вознесение 1584 года, дальше Театр им. Маяковского, кинотеатр Повторного фильма... Вспомнить только, сколько счастливых часов нашей юности подарено ей, улице Герцена, и сколько получено от нее взамен. По московским масштабам она не широкая, артерией города не назовешь, но длинная, живая. Когда-то ползли здесь трамваи, теперь мчат машины – чуть не вплотную друг к другу, а скорость как по Ленинскому. Знай, мелькают дома. Где уж тут задержаться, вспомнить, когда, кто построил и для чего. Глазам привычна череда, а сознание летит мимо. Вот и о человеке ином все говорим-говорим, а смысла слова сами уже не чувствуем и до других не доносим.
Пройдя ровно половину улицы – до Никитских ворот,– мы окажемся у церкви Большого Вознесения, до сих пор так и не ставшего концертным залом имени А.С.Пушкина, несмотря на яростную инициативу московской интеллигенции лет двадцать назад. Саму идею – и то жаль, не говоря уже о пользе практического воплощения...
Там, где вопреки всем законам географии Большая Бронная впадает в Малую, стоит высокий дом. Здесь живут Нина Львовна Дорлиак и Святослав Теофилович Рихтер. С их шестнадцатого этажа как на ладони Никитские ворота, Повторка, виднеется зеленая крыша консерватории и обозрим весь Кремль, который первым выхватывается из панорамы благодаря Ивану Великому, особенно в солнечный день
Отец Рихтера, Теофил Данилович, происходил из семьи немецких колонистов, его отец, в свою очередь, уже был музыкантом-настройщиком, музыкальным мастером. Теофил Данилович служил органистом в Одесском оперном театре, играл на органе в кирхе, прекрасно импровизировал.
Мать – Москалёва Анна Павловна. В жилах ее текла кровь смешанная: русская, польская, немецкая, шведская, венгерская, татарская. Приходилась дальней родственницей знаменитой певице Женни Линд, вошедшей в историю как «шведский соловей».
Сам Святослав Теофилович родился 20 марта 1915 года в городе Житомире. Детство, юность провел в Одессе. Постоянно участвовал в домашних вечерах, столь популярных в музыкальной Одессе в те годы. В мае 1934 года дал первый сольный концерт. Главный дирижер Одесской оперы С. А. Столерман ценил его необычайно: «Вы должны дирижировать!» Он и сам мечтал только об этом. Но что там желание и талант! Оказалось, этого было мало. Бросив все, поехал в Москву, к знаменитому Нейгаузу.
Создатель крупнейшей советской пианистической школы, профессор Московской консерватории Генрих Густавович Нейгауз удивительным образом сочетал в себе черты русской и европейской музыкальной культуры. На просьбу студентов прослушать юношу из Одессы Нейгауз спросил:
– Он уже окончил музыкальную школу?
– Нет, он нигде не учился.
Не без скептицизма Генрих Густавович согласился. Юноша заиграл, и через несколько минут Нейгауз склонился к уху сидевшей рядом ученицы:
– По-моему, он гениальный музыкант.
Это восхищение не покидало его до конца жизни. Все лучшее, все самое живое и искреннее, что написано о Рихтере, принадлежит перу Нейгауза. Он испытывал бесконечную неловкость за то, что приходилось хвалить «своего ученика». Но слишком масштабной личностью был сам Генрих Густавович. чтобы не признать: «Для таких талантов, как Рихтер, не так уж существенно, у кого они учились. Одно могу сказать с уверенностью: я до конца моих дней буду не только восхищаться Святославом Рихтером, но и учиться у него...» Писал о Рихтере и так: «Соразмерность, гармония, идущая из самых глубин классического мироощущения, гармония (да простится мне) чуть ли не эллинского происхождения...»
После каждого концерта Рихтера Г.Г.Нейгауз страдает бессонницей и в 60-м году пишет: «...все-таки Святослав Рихтер первый среди равных». И еще: «Рихтера я считаю учеником нашей страны, нашего времени и нашего народа. И только в последнюю очередь своим».
В конце 1945 года по настоятельному совету Нейгауза Рихтер играет на первом послевоенном Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей (сам он всегда был против конкурсов) и выходит из него победителем.
Весной 1954 года впервые выезжает за рубеж – на «Пражскую весну». Затем Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Китай, США, Канада. В 50–60-е годы газеты мира запестрели: «феномен», «великий», «гений».
Удивительно другое: нет ни одного современника, который не отмечал бы, что за годы, прошедшие с середины 60-х, Рихтер неизмеримо вырос. Так какими же масштабами его мерить? В какой разряд переводить? Где взять слова? Есть только один выход: выслушать тех, кто ему ближе всего, кто раз и навсегда осенен неповторимостью его великой души.
Нина Львовна ДОРЛИАК:
Рихтера я узнала, когда он появился в консерватории. Дружила я в ту пору главным образом не с вокалистами, а с пианистами и была в курсе всех пианистических дел. Пошла на его концерт. Внешность у него была очень занятная: рыжий-рыжий, тоненький, худенький, страшно стремительный. Мне понравилось, как он играл. У нас были общие знакомые в Тбилиси, две художницы (мы с мамой и моим племянником Митей оказались там в эвакуации). Из Тбилиси он как-то привез мне посылку. Виделись нечасто. В 1943 году умер Немирович-Данченко. Мне была горестна эта смерть: с Владимиром Ивановичем мы вместе были в эвакуации, он приглашал меня петь в свой театр. Это было очень заманчиво, но голос у меня был небольшой, и я хотела заниматься своим камерным искусством. Я была на панихиде во МХАТе. Возвращалась по улице Горького, шла в задумчивости, вдруг ко мне стремительно подходит Святослав Теофилович:
– Давайте вместе дадим концерт.
– Вы хотите, чтобы отделение вы играли, а отделение я пела?
– Нет, я хочу вам аккомпанировать.
И мы начали заниматься. Он приходил к нам, на Арбат, мама еще была жива. Но наш первый концерт состоялся уже после ее смерти, в мае 1945 года. Он оказался для меня такой поддержкой! Мама была моим учителем, я страшно ей верила, я никому так не верила, как ей. А тут остались одни – Митя и я. И вот как-то вышло, что с осени мы со Святославом Теофиловичем стали вместе.
Святослав Теофилович всегда играл и играет очень много, часто меняет программы. Я еще по Всесоюзному конкурсу знала, что он подготовил программу наивысшей трудности за чрезвычайно короткий срок. То же было потом с сонатами Прокофьева – он выучивал их в пять, ну в четыре дня. Но я до сих пор не могу привыкнуть, пугаюсь, когда он говорит: завтра играю это, через неделю то, а через две надо сыграть вот это. Святослав Теофилович всегда возмущается, когда его упрекают, что он мало играет в Москве, и показывает тетрадку, где аккуратнейшим образом записаны все сыгранные им когда-либо концерты – где, что, когда. Конечно, для москвичей, может быть, и мало... А гастролирует он много и не только за рубежом. Вот его последняя поездка по нашей стране: Калуга – Братск – Пинск – Гомель – Брест. Святослав Теофилович везде собирает полный зал. Он играет в школах, в техникумах. В Молодечно я сама была с ним на концерте в музыкальной школе. Замечательная аудитория!
Святослав Теофилович категорически отказывается преподавать. Не хочет. «Я не умею, я не могу, и вообще это страшно скучно и никому не нужно. В то же время у него огромная потребность в общении с молодыми, потребность передать.
Больше всех он выступает с Олегом Каганом, с Юрием Башметом. С Третьяковым – в прошлом году, в квартете Моцарта. С Галей Писаренко. Вот уже год – с Наташей Гутман. Из молодых дирижеров играл с Володей Мошенским. Это был наш студент, сейчас он дирижер Минской оперы. Когда в Минске Рихтер играл концерт Дворжака, он его выбрал в дирижеры. Несколько лет назад программу Берга и Хиндемита играл с молодыми: тринадцать духовых и струнный квартет – Ю. Башмет, Сергей Гершенко (сейчас он концертмейстер первых скрипок Большого театра), Борис Бараз, Мирослав Максимюк.
В жюри конкурсов он не сидит никогда. Во-первых, говорит, что невыносимо слушать пятьдесят раз одну и ту же сонату, а во-вторых... Однажды он был членом жюри – на Первом международном конкурсе имени Чайковского. Он сразу выделил Клайберна как не имеющего соперников. Ему поставил высший балл, остальным – ноли. Потом передумал – ноли неудобно ставить – ведь приехали же, играли же. Тогда выставил всем единицы, сохранив за Клайберном высший балл... В-третьих – время! Бережет время, чтобы больше играть.
Нейгауз считал, что Рихтер обязательно должен еще и дирижировать. В 40-е годы он провел в Ленинградской филармонии репетиции 2-й симфонии Бетховена. Его публичным дебютом стал виолончельный концерт .Прокофьева в 1952 году. И с тех пор он не дирижировал. Правда, как-то высказался, что страшно любит «Франческу да Римини» Рахманинова, и вот теперь уже второй год на радио ждут – хотят, чтобы он продирижировал этой оперой, певцов выбрал, каких захочет. Но для того, чтобы всерьез этим заняться, ему пришлось бы как минимум на полгода бросить пианистическую деятельность. По-моему, это не реально. Чем старше он становится, тем больше занимается. И считает, что это принципиально важно, чтобы не потерять форму. Он максималист в достижении совершенства.
Самое мучительное для всех нас то, что он сам все меньше удовлетворен своими концертами, хотя для этого нет никаких объективных оснований, Скажем, когда я, все наши друзья совершенно потрясены концертом, он может недовольно сказать: сегодня мало что получилось. Когда мы пытаемся его убедить, что даже физическое утомление не отражается на его мастерстве, глаза у него гаснут, и он говорит: «Но я один знаю, как это должно быть!» Сейчас, кажется, миниатюрами Чайковского он доволен больше, чем в первые выступления.
Не нравится ему и большинство его записей, А некоторые любит. Сонату Листа – скоро у нас выйдет пластинка. Любит два Концерта Листа, кое - что Скрябина, некоторые прелюдии и фуги Шостаковича, концерт Грига, записанный с дирижером Ловро Матачичем.
Музыку же он знает всю. Вспоминаю, как они общались с Нейгаузом. Тот подходил к роялю и наигрывал: «А вот в «Электре» Штрауса, Слава, ты помнишь...» Так они с Генрихом Густавовичем разговаривали.
Книги, которые он прочитывает – и не по одному разу – помнит всю жизнь детально. Страшно любит Гоголя, Достоевского, Пушкина, конечно. Вообще хорошо знает литературу. В последнее время меньше читает. Но как – меньше? Например, поставил задачу: прочесть 20 томов Золя. И прочел. Заставлял читать Наташу Журавлеву, Галю Писаренко, Олега.... Я не выдержала двадцати томов.
У нас дома он организовывает выставки, концерты, прослушивания записей, на радость друзьям. Например, оперы. Крупно пишет пересказ всего содержания – он пошел, он сказал, она пришла, произошла то-то и то-то. Музыка звучит, листочки эти он по ходу действия меняет на пюпитре, чтобы всем было видно. Адская работа. Но он ко всему относится с невероятной серьезностью. Как-то задумал маскарад. Приготовления начались недели за три. Приглашенных было шестьдесят человек. одна комната была превращена в сад – все что-то вырезали, цветы, листья для этого сада. Кабинет преобразился в «турецкий буфет». Вся квартира вверх дном. Он спрашивал заранее, какие туалеты будут на дамах, подбирал им кавалеров, у нас за несколько дней репетировали польку, мазурку, полонез, потом были общие танцы. Все он делает невероятно творчески, чтобы это было интересно, необыкновенно. То же самое – когда дело касается работы, музыки...
Двадцать лет назад Рихтер давал концерт в Национальном театре города Тура, во Франции. «Садом Франции» называл Рабле эти края. Местное общество друзей музыки «уловило» то, что витало... Создать фестиваль Рихтера! Провезли его по всем окрестностям, по всем замкам. Наконец, главный архитектор Тура, Пьер Буаль, привез его в старинный амбар «Гранж де Мэле», постройку XIII века. Амбар был полон сена, кукурузы, но... акустика оказалась уникальной. С той поры ежегодно выступают тут музыканты мирового масштаба, подчиняющиеся инициативе Святослава Теофиловича с кротостью поразительной. Здесь дважды пел Д.Фишер-Дискау, Элизабет Шварцкопф, играл Давид Ойстрах, квартет имени Бородина, выступали певицы Криста Людвиг (с венской оперой), Барбара Хендрикс, Грэс Бэмбри, Джесси Норман, оркестры Пьера Булеза, Лорина Мазеля, Карла Рихтера, «Моцартеум» из Австрии, оперы Б.Бриттена шли в составе исполнителей из Ковент-Гардена. И неизменно ежегодно – Рихтер, Рихтер, Рихтер...
----------------------------------------
Записка, составленная Н.Л.Дорлиак по просьбе автора.
В 1918 году получила звание профессора.
Возобновила исполнительскую деятельность после смерти мужа через 6 лет, в 1920 году, но уже только как концертно-камерная певица.
В 1930 году переехала в Москву по приглашению ректора Московской консерватории Б.Л.Пшибышевского. За время работы в Москве была дважды деканом факультета и художественным руководителем оперной студии. Во время войны, вернувшись из эвакуации, возобновила существование студии.
Умерла 8 марта 1945 года в студии на репетиции».
Митя – Дмитрий Дорлиак. актер драматического театра на Малой Бронной. Читает дикторский текст к фильмах «Декабрьские вечера».
Ирина Александровна АНТОНОВА,
директор Государственного музея
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина:
Как родился замысел «Декабрьских вечеров»? Я знала, что вот уже много лет Святослав Теофилович проводит такие фестивали в Туре, придумывает программы, сам в них участвует. По его приглашению мне удалось побывать на одном из них. И я задала ему вопрос: почему в Туре, почему не в Москве?
Святослав Теофилович играет в нашем музее примерно с середины 50-х годов. Точную дату легко установить по его книжечке. Первый концерт состоялся вот здесь, между итальянским и греческим двориками: пела Нина Львовна, он аккомпанировал. С тех пор он многократно выступал в музее с концертантами в самых разных залах. Играл многие свои программы – поздние сонаты Бетховена, Дебюсси, выступал в ансамблях с молодыми музыкантами. Здесь впервые был исполнен двойной концерт для скрипки и фортепьяно Альбана Берга. У нас он проиграл всю серию концертов из произведений Шуберта, позже сыгранных в Большом зале консерватории. Часто выступает тут с Олегом Каганом. Программа Шимановского с участием Галины Писаренко в зале Матисса и Пикассо исполнялась рядом с «Мыслителем» Родена – это было драматургически впечатляюще.
«Декабрьские вечера» мы называем «фестивалем» просто потому, что не нашли какого-то более выразительного слова. Но Святослав Теофилович этого слова не любит. А как еще назвать это большое музыкальное действо? «Вечера» 1981 года были посвящены русской музыке, второй фестиваль – в 1982 году – Моцарту. Третьи «Декабрьские вечера» целиком отданы английской музыке, и рождались они в муках. Начнем с того, что все программы Рихтера очень неожиданны; как правило, он включает в них большое число произведений, которые исполняются чрезвычайно редко или не звучат вообще. Он воскрешает целые страницы музыки незвучащей, привлекая самых интересных исполнителей. Английская музыка известна мало. Перселла, Бриттена мы все-таки знаем – это вершины, но есть в ней страницы менее высветленные. С трудом доставали ноты.
И вторая значительная трудность. Наши фестивали в отличие от прежних «музейных» концертов Рихтера проходят в особо и каждый раз заново созданной художественно-насыщенной среде. Произведения искусства, предметы быта, которыми мы окружаем зрителя-слушателя, по времени, по подобию и образу близки той музыке, которая исполняется. Это попытка синтеза, созвучия искусств изобразительного и музыкального. Так вот, подготовить последнюю выставку оказалось очень непросто, потому что английское искусство вне Англии, в музеях мира, представлено очень фрагментарно. Англичане, подобно русским, мало что продавали за рубеж, но в нашей выставке согласилась участвовать Национальная портретная галерея Лондона. В программу «Декабрьских вечеров» 1983 года включили и английскую поэзию, то есть звучащее слово. Все вместе это составило совершенно особое «силовое поле»...
Но это я теоретизирую, а Святослав Теофилович вовсе не мыслит так нравоучительно-педагогически. Он действует, возможно, более интуитивно, тем не менее достигая самой сердцевины. Сказать о нем – «предан искусству»? О Рихтере словами расхожими не скажешь. Его вообще очень трудно охарактеризовать. Это человек чрезвычайно сложной психической, внутренней жизни. Исключительно сложной, решусь сказать, раз уж я имею честь быть с ним знакомой и видеться довольно часто.
Что в нем поражает? Он полностью отдан тому, к чему призван – музыке. При этом – поразительное равнодушие к своему бытовому существованию. Всю его натуру осветляет эта безучастность к бытовому благополучию, полное отсутствие стремления использовать все те возможности, которые предоставляются в нашей стране таким выдающимся людям. Ведь я знаю и другие примеры. Но как это назвать? «Скромный Рихтер»?! Что значит – «скромный Рихтер»?!!
Человек исключительной чистоты. Иногда он ошеломляет меня почти детским видением мира, своим юношеским максимализмом. В нем это сосуществует с огромным жизненным и духовным опытом. Но вот сам процесс переработки этого опыта, его разрешения в творчестве – он мне непонятен. Иной раз на поверхности кажется, что он даже и подозревать не может о каких-то явлениях жизни. И я не понимаю, не улавливаю, где этот стык с реальной действительностью происходит. Например, где он находит все новые и новые оттенки драматического и трагедийного? Я бы очень хотела знать, из чего они рождаются именно у него? Из столкновений с какими явлениями жизни? Я отчетливо слышу это в музыке, но в словесном общении с ним я не могу для себя этого открыть.
Меня очень трогает его отношение к молодым музыкантам. Такая его чистая, светлая бескорыстность, полное отсутствие мыслей: «А каков он по отношению ко мне?» И какая деликатность в работе с ним! Никакого диктата, наставлений, поучений. Он просто рядом с ними, делает то, что считает нужным, и это уже огромный урок для них.
И еще: это человек феноменальной памяти. Он помнит все, что с ним было, – каждый концерт, каждый кинофильм, даже если смотрел его сорок лет назад. И в литературе – все, что прочел. Он помнит все выставки и где какая картина висела. Это не преувеличение. Да ведь у него самого дар художника...
Вот что писал о своем ученике Нейгауз: «Некоторые из наших лучших старых художников говорили мне, что если бы он посвятил свою жизнь живописи, то достиг бы в ней той же высоты, какую он достиг в области пианизма. Упоминаю об этом, только чтобы пролить некоторый свет на «тайны» его дарования. Он в такой же степени человек видения, как и слышания, а это довольно редкое сочетание».
И еще:
«Вот почему я так восхищаюсь ритмом в исполнении С. Рихтера: ясно чувствуется, что все произведение – будь оно даже гигантских размеров – лежит перед ним, как огромный пейзаж, видимый сразу целиком и во всех деталях с орлиного полета, с необычайной высоты и с невероятной ясностью…»
И. А. Антонова в музее давно – с апреля 1945 года. С 1961 года – директор. Нужно признать, что последние годы ГМИИ имени Пушкина стал крупным культурным центром столицы. Казалось бы, он занимает весомое место в ряду европейских музеев изобразительного искусства благодаря своим коллекциям, ну и живите себе, товарищи сотрудники, спокойно, поддерживайте чистоту и порядок. Но нет. Сама деятельность музея заслуживает не меньшего внимания и уважения, чем коллекции. Недаром тянутся сюда наиболее передовые, талантливые молодые искусствоведы, не боящиеся эксперимента. Многие крупные ученые свои новые, еще не напечатанные работы, впервые читают здесь, на «научных средах» музея. Вот уже 16 лет ежегодно проходят так называемые «Випперовские чтения», посвященные памяти искусствоведа Бориса Робертовича Виппера. В основе их программы – тот же принцип синтеза, сравнительного анализа. Пока никто, кроме Пушкинского музея, не делает подобных попыток во всей полноте осмыслить тему «Зарубежная и русская культура». Материалы этих сессий, выходящие, увы, на ротапринте, мгновенно расходятся среди научной общественности. Эту работу поставила Ирина Евгеньевна Данилова, заместитель директора по науке. А что уж говорить о концертах, о «Декабрьских вечерах»! Ведь фестиваль-то вышел на мировой уровень...
Ирина Александровна АНТОНОВА:
Декабрьские вечера» – они могли быть, а могли и не быть. Это не входит в предписанную музею деятельность. Все зависело исключительно от инициативы музейных работников и Святослава Теофиловича. У музея появилось новое измерение... Что же касается перспективности этой идеи вообще? Музыка может и должна звучать в музее. Слова «музей» и «музыка» – от одного корня. Но огромны трудности чисто организационные. В музеях нет специальных залов для концертов, не хватает мест, нужны инструменты. Мы крайне обязаны Святославу Теофиловичу: один инструмент в нашем музее – его собственный, второй – куплен по его рекомендации...
Замечательны фильмы о «Декабрьских вечерах»! Не помню ничего лучшего на нашем телевидении за последние годы. Может быть, его авторы и сами еще не вполне понимают, что сотворили. Фестиваль, который грозил превратиться в элитарный, смотрит многомиллионная страна. А ведь и фильмы эти «могли быть, а могли и не быть». Потому что в целом телевидение работает все еще равнодушно, а кому, как не ему, быть современным летописцем? Никакой Нестор за нами не поспевает, а о киножурналах «Новости дня» то и дело замечают: хоть бы название сменили...
12 сентября 1983 года. Событие в нашей культурной жизни, московская «новость дня» номер один: в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открывается выставка «Живопись старых мастеров из коллекций Тиссен-Борнемиса» (западноевропейская живопись XIV–XVII веков). Спешившие на открытие к шести часам вечера вряд ли обратили внимание на небольшую машину, отъезжавшую от музея. За рулем Олег Каган с лицом непроницаемым, рядом Рихтер, лицо тоже бесстрастное, сзади – Наталья Гутман, печальная, кажется, чуть раздраженная. В 19.30 им играть в итальянском дворике Трио Франка и Трио Равеля. Репетировали до последней минуты. Для нас, зрителей-слушателей, сейчас начнется праздник, который должен закончиться фейерверком музыки. Для них – полтора часа, девяносто мучительных минут, наполненных лишенным всякой внутренней логики и все же цельным стремлением: не думать о предстоящем концерте и одновременно полностью на нем сосредоточиться. Начиналась особая по своему наполнению пауза, предваряющая всплеск, ради которого живут все музыканты.
Но для нас – сначала выставка. Сказать об этих картинах «одна лучше другой» было бы неграмотно и даже кощунственно. Какие безупречные композиции – словно «видишь» музыкальный шедевр: «Ныне отпущаеши» Джованни Беллини, «Притча о сеятеле» Якопо Бассано. Какое сияние с картин Эль Греко! «Рыбак, играющий на скрипке» Франса Хальса – какое у него на лице удовольствие от музыки, она радует его как хорошая погода, улыбка ребенка, удачный улов... Издан замечательный каталог, но это – так просто, на память. Все равно, что Рихтера знать только по пластинкам – даже стереофоника не донесет самых главных оттенков, звуковых соотношений, возникших в данный момент и уже невозвратимых. Так и картины в каталоге теряют какое-то очень важное измерение, нечто, что можно было бы назвать «объемом», если бы они не были столь плоскими в обычном понимании. Стоишь перед живой картиной – и она «греет». А глянцевая репродукция даже при багрянце красок холодит руки тяжелыми, точно промасленными листами.
И еще мысль, неотступно преследующая на этой выставке – как много в наше время зависит от инициативы одного человека! Роль личности в истории, конечно, преувеличивать не стоит, но ведь «большая» история складывается из многих «малых». По словам хранителя собрания Симона де Пюри, Тиссен-Борнемис, унаследовав коллекцию отца, доверился в выборе больше интуиции, поэтому напрасно было бы искать на этой выставке какую-либо систему. Впрочем, есть нечто, объединяющее все эти полотна. Сам Тиссен-Борнемис пишет: «Все эти картины были созданы в духе дружбы и мира». И вот сейчас в одном из залов будет играть Рихтер. В «итальянском дворике» – конные и пешие рыцари тех времен, когда зеленой природе еще не видно было конца, когда настоящий мужчина проявлял себя только с оружием в руках, и человечество даже не подозревало, какому оружию суждено появиться на земле через пять столетий...
В этой особой обстановке все звуки имеют значение – скрип стула, минутная эпидемия покашливания, шуршание буклета. Звучащим кажется даже привставанье – чтобы лучше увидеть выходящих для выступления Наталью Гутман, Олега Кагана, Святослава Рихтера. Ничего нового. Рихтер как Рихтер…
Наталья Григорьевна ГУТМАН.
виолончелистка:
Трио Франка, сочинение I. Конечно, это он нам его открыл, это трио. Франк вообще входит в число его любимых композиторов. Трио это он слышал когда-то в детстве, оно произвело на него сильное впечатление, оставшееся на всю жизнь. Теперь он захотел его сыграть. На нас с Олегом оно сначала не произвело впечатления: показалось местами растянутым, без ярких тематических находок. Но он своей гипнотической силой убедил, заразил. Мало кто способен так убеждать. И прежде всего – фантастической степенью отдачи. Безжалостностью к себе он словно «проявил» эту музыку...
Как глядит на Рихтера микеланджеловский Давид! Давид, победивший Голиафа, Внешняя скромность, подавившая наглость. Достоинство, сломившее нахрап толпы. И каждый раз, когда композитор пишет музыку, – и это тоже борьба с Голиафом, с мощной стихией. Вызвать ее на себя, вынудить подчиниться, развернуть лицом к себе, сковать своей волей, чтобы излить, уже обмякшую, в сосуд совершенной формы... Увлекают мысли, так и становишься соучастником действа. Может быть, именно это имела в виду Ирина Александровна, говоря с телеэкрана в одном из фильмов о «Декабрьских вечерах»: свобода сопоставлений... обострить видение и слышанье... доверить вкусу, интуиции, воображению посетителей... Нам доверили – и мы все уже причастны к этой музыке, к этой живописи, к этому вечеру, к вашему музею, уважаемая Ирина Александровна, к Наталье Гутман, смущенно и счастливо улыбающейся под овации над большим букетом роз, к просветленному Олегу Кагану, и, наконец, – страшно подумать! – к самому Рихтеру...
Василий Павлович ЛОБАНОВ,
пианист, композитор:
Я бесконечно признателен Святославу Теофиловичу, что еще до всех сольных концертов мое первое серьезное публичное выступление состоялось на «Декабрьских вечерах». Я играл отделение Скрябина. Может быть, в какой-то степени его выбор был случайностью: Рихтер много работает с Олегом Каганом, а с ним мы учились в одном классе, часто играем вместе. На одном из концертов шубертовского фестиваля в Хоэнэмсе, в Австрии, оказался Рихтер, а мы играли с Олегом и Наташей Гутман. И вот, когда ему понадобился Скрябин, он пошел на риск и пригласил меня.
Фактически «Декабрьские вечера» стали фестивалем международного класса. То, что можно было сделать на частном уровне, доведено до фантастического максимума. Но еще больше поражает другое: что у нас до сих пор не нашлось людей, которые все-таки не в музее и не в амбаре, а в Большом зале консерватории организовали бы фестиваль Рихтера. Пусть ему страшно нравится Пушкинский музей, и люди там замечательные, но зал-то всего на 200 мест. Может быть, я чего-то не знаю, может быть, он сам не хочет. Но, наверное, ему должны были бы это настоятельно предложить.
Конечно, он феномен. Человек бесконечно многослойный. Вряд ли кому-нибудь удалось узнать его всего. У него невероятная память – не только музыкальная, но и зрительная. Пройдя один раз по незнакомому городу, он через двадцать лет может вспомнить название улицы, где какое здание...
Я хочу правильно расставить акценты. Я не так близок к Святославу Теофиловичу, и потому рискую, позволяя себе высказаться. Но мне иногда кажется, что это гениальный ребенок. Он любит играть в игры. Его феноменальная пианистическая деятельность не что иное, как проекция в высшие сферы желания играть (в игру). Отсюда – все новое и новое исходит от него. Больше всего на нас действует, пожалуй, его ощущение полной свободы.
Он любит выступать в музыкальных школах. Конечно, можно сказать: «Ну, Рихтер может себе это позволить!» Но это как раз редчайший пример человека, на которого внешние обстоятельства практически не действуют. Даже если бы он не имел всех своих правительственных наград и званий, он не был бы ни на йоту другим.
К сожалению, работать с ним, то есть играть вместе, мне не приходилось. Было несколько репетиций и домашних концертов. С Олегом Каганом показывали ему скрипичные сонаты Бетховена, с Галиной Писаренко, Валентином Берлинским и Михаилом Копельманом – блоковский цикл Шостаковича. Мы потом выступали в одном концерте с ним, памяти Шостаковича. Замечаний он делает очень мало, по-видимому, по принципу «слова губят», считая, что их можно употреблять только тогда, когда наступает определенный предел, и невозможно выразить мысль иным путем. Он легко убеждает партнера своим живым отношением к музыке. Замечания касаются характера и состояния. Никогда не говорится: это надо играть громче, а это – быстрее, он говорит – более активно, более грустно. Услышав моего Скрябина в «Декабрьских вечерах», он подчеркивал, что форте и пиано не могут играться одним звуком, они должны соотноситься с разными состояниями. В каждый данный момент происходит отчетливая смена этих состояний – никакой приблизительности. По-видимому, это то, над чем сам Рихтер всегда очень много работает, то есть не над тем, чтобы выучить технически, это ему ничего не стоит. Он вырабатывает мгновенность переключения из одного состояния в другое. Добивается автоматизма, переходящего в полную свободу, позволяющую предельно концентрированно жить в самой музыке.
Все-таки у него душа дирижера, музыканта в самом общем значении этого слова, а не только пианиста. И силой духа он скорее похож на дирижера. Он устраивает фестивали, исполняет много камерной музыки, причем расплывчатость в его жизни исключена, никаких «ладно», «сойдет», «авось». И в общении с людьми – ни одного равнодушного слова. Любая реплика его значима, несет колоссальный заряд эмоциональной информации. Почему так захватывает его игра? Потому что в каждой ноте эта духовная напряженность. Что бы он ни исполнял – ощущение такое, что это должно быть именно так и не может быть иначе.
Поэтому о Рихтере можно сказать, что он закладывает новые традиции. Узкопианистические заложены им уже давно, но это еще не главное. Гораздо важнее, что он своей работой, всем своим существованием показывает, как в этой жизни жить должно...
В концерте 26 сентября 1982 года в Большом зале консерватории звучала музыка Д. Д. Шостаковича. В программе под именем Святослава Рихтера – имена Галины Писаренко, Валентина Берлинского, Юрия Башмета, Михаила Копельмана, Василия Лобанова.
В первом отделении – Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, семь романсов на слова А. Блока поет Галина Писаренко.
А через месяц она с Рихтером повезет программу из произведений Кароля Шимановского в Смоленск, Минск, Брест, Берлин, Париж, Закопане, чтобы триумфально закончить эти гастроли на «Варшавской осени» и вернуться в Москву с премией «Орфей» за лучшее исполнение произведений Шимановского, столетием со дня рождения которого был отмечен 1982 музыкальный год.
Галина Алексеевна ПИСАРЕНКО,
Певица
С
шестнадцати лет я учусь у Нины Львовны. Весь мой путь – училище, консерватория – проходил на глазах Святослава Теофиловича, он слышал, как мы занимаемся с Ниной Львовной, как распеваемся. Когда начала работать в театре, он бывал и на спектаклях и на концертах, но никогда даже и мысли у меня не было о том, что Рихтер может предложить мне совместную работу. Его артистическая жизнь шла вне меня. Поэтому, когда он заговорил со мной о цикле Шимановского, для меня это было не просто огромным событием, а потрясением. Ноты достались ему от Нейгауза, который Шимановскому приходился кузеном. Помню, я развернула их, стоя посреди его квартиры, и... чуть не задохнулась – сложнейшая фактура! Я робко говорю:
– Святослав Теофилович, почему бы нам не исполнить Шумана… или Рахманинова... Это же – труднее не придумаешь!
– А почему вы хотите все что-то легкое? Потрудитесь!
Наконец, когда ноты были выучены, польское произношение освоено, мы договорились о первой репетиции. Шла я на нее – а внутри все захолодело, онемело, остановилось, окоченело. Но Святослав Теофилович без промедления сел к роялю: – Давайте начнем.
И сразу стал играть так, как будто это концерт. Сразу всего себя отдал звуку, музыке. Я думала, мне мучиться придется несколько репетиций, по крайней мере, но волнение мое в считанные минуты исчезло, началась живая, простая, интереснейшая работа. А все второстепенное, что ей мешало, ушло и больше не возвращалось. Он снял мое напряжение, как гипнотизер, как великий врач. Но разговаривал со мной очень требовательно.
Цикл Кароля Шимановского «Песни безумного муэдзина» состоит из шести песен. Пять песен человека, безумного от любви, шестая – безумного от горя, потому что возлюбленная его умирает, он хоронит ее в песке, и с нею, конечно, хоронит себя. Мне доводилось работать со многими режиссерами, в том числе и с выдающимся оперным режиссером Фельзенштейном, но с таким – еще никогда. Для первых пяти песен он говорил:
– Представьте себе, что вы где-то на минарете и голос ваш – для себя, такой далекий. Это восхваление возлюбленной и любви муэдзина к ней.
Но после первого романса предложил перейти сразу к шестому. А это – песня отчаяния, крик на двух форте.
– Ни в коем случае здесь не должен быть красивый звук. Вы должны закричать безумным голосом, заорать...
Пробовали-пробовали, он даже подошел ко мне сзади, схватил за плечи – чтобы дать ощущение неожиданности.
– Вот так! Вы должны перед началом пения – ах! – вот так взять дыхание и завопить!
И дальше – по шестой песне:
– Это совершенно другой человек, измученный, исхудавший, он еле держится на ногах, вот-вот умрет, в нем живет одно – отчаяние.
Есть там такая музыка, в шестой песне... Когда мы к ней подошли, Святослав Теофилович сказал:
– Это пустыня, это пронзительно чистый воздух пустыни.
И в самом конце, в вокализе:
– Здесь ищите краску «пения сквозь зубы», чтобы это было, как вой – у!у!у!
На бис мы готовили народные песни в обработке Шимановского. Он предложил две. Первая " «Лечь, гуоще, по роще» – «Лети, мой голос, по росе, скажи моему любимому, чтобы он не приезжал, коней своих не утруждал, потому что я люблю другого». Не хватало мне простоты в этой песне.
– Возьмите и скрестите руки на груди – вот так. Смотрите себе вдаль и пойте – так, мол, и так. Это же очень хорошенькая, очень милая девушка, но она очень высокого мнения о себе. В общем, такая язва.
Чисто режиссерский прием.
А вторая песня – «У озера». Девушка собирает ягоды, и тут на взмыленном коне примчался ее Ясик дорогой, и так и эдак – обнять ее хочет, а она отвечает: «Ну, отпусти меня, не приставай, а то не носить мне моего девичьего веночка!» Маленький эпизод в песне, когда он приезжает на коне, этот «Ясюлик млоды», но Рихтер, играя на рояле, тут так «врывался», что ничего не оставалось, как подхватить это настроение безумное, бешеное. Это его, Рихтера, темперамент, его жар крови перекидывается на исполнителя. Так прошла работа над Шимановским, и ничего в жизни более увлекательного, более драгоценного у меня не было. Это даже не были репетиции в нашем понимании. Все с полной отдачей, но он никогда не уставал и меня вовремя останавливал – чтобы голос еще оставался свежим, чтобы я готова была еще поработать, чтобы завтра я с теми же силами, с тем же желанием пришла заниматься.
А потом он предложил мне сделать еще один цикл Шимановского на слова Джеймса Джойса, на английском языке. Это очень трудные маленькие романсы, миниатюры, очень изысканные, очень эстетские. Все символично, многозначно, все не впрямую. Долго они не получались, потому что нет там ярких кульминаций, развернутой формы. Там вся работа должна идти вглубь. И опять от меня требовали – образ и состояние! Есть там песня о ветерках, которые танцуют над морем, вздымая кружевную пену, и голос («где ты, моя любимая!») должен быть таким же легким, как этот ветер.
А в последней песне наоборот: голос – это само состояние, сломленный голос, полная потеря надежды... Именно над этим все время у него идет работа, настолько сильна любовь Святослава Теофиловича к театру, к опере, к актерскому перевоплощению. Мне кажется, он и сам в музыке все время перевоплощается. В каждом произведении он сразу, как большой режиссер, видит образ. Когда мы работали над «Зимним вечером» Метнера, он учил меня не рисовать голосом «что-то» безмятежно, а опять же включаться целиком:
– Упирайтесь ногами в пол, стойте крепко. Представьте себе, что вы смотрите в окно... «Буря мглою небо кроет»... Чтобы в голосе и монотонность была, и вой той вьюги...
А не так давно, когда обсуждался предстоявший в декабре Бриттен, он заметил:
– Вообще ваши занятия, репетиции неправильны, если вы думаете так: сегодня только коты, вполголоса, завтра мы прибавим то-то, послезавтра освободим себя и т.д. Нет, нужно брать маленький кусок, но включаться целиком. Полный эмоциональный накал, полное включение всего, всех мыслей, всех ваших сил, всего вашего состояния, всего организма – вот тогда будет результат. Лучше маленький кусок, но сразу на него накинуться. Очень мало музыкантов пользуются этим методом. А он единственно правильный и наиболее эффективный.
Помню, мы приехали на «Варшавскую осень». Это был замечательный, драгоценный концерт, потому что петь Шимановского перед польской публикой, да еще в Варшаве, да ещё в этом зале... Зал Филармонии изумителен, такая акустика! Публика сидела даже в проходах на полу. Перед самым выходом Святослав Теофилович напутствовал:
–Сосредоточенно. С удовольствием. Свободно.
Так и в Минске, где и Олег Каган был с нами, перед выходом на сцену Рихтер спокойно сказал:
– Пойте, как будто нет людей в зале, а есть минареты. Пусто. Странно. Пойте тихо, нежно. Для себя, для Олега., для меня. Больше тайны, загадки. Это особенно важно в Джойсе.
Программа на «Варшавской осени» была труднейшая. После концерта так естественно желание сократить время встреч с людьми, уйти, расслабиться. И вдруг ему сказали, что приехали пятьдесят студентов-музыкантов из Кракова. Что они мечтают встретиться с ним и поговорить. Я в ужасе смотрела на «организаторов» этой встречи, у которых язык повернулся после такого концерта... Но никогда нельзя предсказать реакцию Святослава Теофиловича. Он ответил:
– Хорошо. Я согласен.
И стал опять легким, каким-то совершенно отдохнувшим. И вот сидели эти юные мордочки, а он говорил им много всего интересного. Я вошла, пристроилась в конце аудитории. Кто-то задал робкий вопрос:
– Кто ваш любимый композитор?
– Тот, который совсем не писал фортепьянную музыку – Вагнер.
Я и раньше слышала от него о Вагнере. Например, такую мысль: Вагнер перешагнул рамки своего профессионализма, и в его искусстве все слито: музыка, театр, литература. На его личный вкус, это самый большой композитор.
Назвал он тогда еще и Дебюсси, и Шопена.
– А вы будете преподавать?
Он в ужасе отмахнулся:
– Нет, нет, не буду! Я еще сам все время учусь!
Трудно себе представить, как они были счастливы, что он так доброжелателен с ними! Дальше беседа потекла непринужденно, говорили много о музыке, о конкретных сочинениях.
Никогда вокруг него не бывает атмосферы злой. В его присутствии злословить невозможно. Ему становится скучно – это сразу видно по его лицу, в глазах появляется тоска. Он ищет гармонии, любит, когда все кругом в хорошем приподнятом настроении, когда кругом красота...
Душа его открыта течению жизни. Он верит, что завтра может случиться что-то неожиданное, необыкновенное. Верит в чудеса. Ждет их от жизни. В молодости всегда просыпаешься с затаенным чувством: «Сегодня что-то будет!..» У него это не гаснет, и потому душа его, сердце остаются молодыми. Для него за каждым поворотом – неожиданное.
Вернемся к концерту 26 сентября в БЗК. Во втором отделении исполняется Соната для альта и фортепьяно Шостаковича, сочинение 147. На альте как на сольном инструменте играют мало, звучит он в основном в оркестрах, камерных ансамблях. Лет тридцать назад – странно вспомнить! – так же «не в моде» у нас была виолончель. В последние годы высоко поднял достоинство альта советский музыкант, 30-летний Юрий Башмет. Весной восемьдесят третьего года его альт – впервые в истории отечественной музыки – звучал на сцене Большого зала консерватории как солирующий инструмент. Молодые композиторы посвящают Башмету свои произведения, он становится их первым исполнителем – так естественным образом растет музыкальная литература для этого замечательного – теперь мы в этом убеждены! – по своему звучанию инструмента.
Юрий Башмет и Святослав Рихтер играют Сонату Шостаковича. Третья часть – Адажио. Долгая, очень долгая вариация на тему «Лунной сонаты» Бетховена. Медленный, бесконечный лабиринт в «черном ящике», по которому мучительно движется мысль великого художника. Выводит нас к свету, туда, где покоится заоблачная тайна «Лунной сексты», в которой Бетховен похоронил свою несостоявшуюся любовь к несмышленой Джульетте Гвиччарди.
Третья часть бисируется и усугубляет впечатление. Кажется, Юрий Башмет за этот час похудел еще больше, лицо у него зеленое. После некоторой паузы громкие аплодисменты, но они быстро стихают: хочется еще выйти из консерватории, пройти по Герцена, не развеяв по осеннему ветру, донести это счастье до своего дома, до своих близких
Юрий Абрамович Башмет,
альтист
Все началось не с сонаты, а с того, что я был приглашен в ансамбль студентов для исполнения «Камерной музыки № 2» П. Хиндемита для рояля с духовыми и четырьмя струнными. Партию рояля играл Рихтер. Второе отделение включало Концерт для скрипки и фортепиано с оркестром Альбана Берга с участием скрипача Олега Кагана. В то время я был аспирантом Московской консерватории. Наблюдая за игрой Рихтера с Каганом, я понимал, что для Рихтера возрастного барьера не существует. У меня закралась мысль, что вдруг... если Святослав Теофилович задумает сыграть что-нибудь с альтом... то, может быть... Но, конечно, сам я никогда ничего не осмелился бы предложить. Такое только во сне могло привидеться.
Однажды во время репетиции Концерта Баха со студенческим оркестром (дирижировал Юрий Николаевский, а мы все – Олег, Наташа Гутман и я – укрепляли каждый свою группу оркестра) Рихтер резко встал из-за рояля и, проходя мимо меня, вдруг остановился, отвел меня в сторону и спросил:
– Юра, как вы относитесь к тому, чтобы сыграть Сонату Шостаковича?
Я только язык проглотил, ответить ничего не могу.
Он повторяет:
– Юра, а если нам с вами Шостаковича сонату сыграть – вы как?
Тут уж меня прорвало. Я было начал, что это моя мечта, но сразу понесло куда-то в сторону: мол, кроме Шостаковича, есть еще Шуберт, сонаты Брамса. Зная, что он любит Хиндемита и как раз в то время был им увлечен, я добавил:
– И у Хиндемита много сонат, он ведь был альтистом.
– Да, да, я знаю, по это уже вопрос будущего, а сейчас именно Шостакович. Как вы к нему относитесь?
Как я мог к нему относиться?!
Тут Святослав Теофилович задал мне вопрос, который очень точно его характеризует:
– А как к этому отнесется ваш постоянный пианист Мунтян? Вы ведь с ним ее играли?
Действительно, с Михаилом Мунтяиом мы играли вместе уже восемь лет, в том числе года полтора-два Сонату Шостаковича, это блестящий партнер и мой близкий друг, я работаю только с ним*
И я был уверен, что он поймет меня. Когда мы только начинали с Мунтяном учить Шостаковича я не сразу стал ее играть, а долго выдерживал* Такой шедевр – казалось бы, при нехватке альтового репертуара ее часто можно было бы исполнять, но она заставляет выкладываться на неделю вперед. Как-то в гастрольной поездке я сыграл ее несколько раз подряд и попял, что теперь она должна отдыхать от меня, а я – от нее. А с того момента, как Рихтер предложил мне сотрудничество, я и вовсе перестал ее играть. Стал ждать, когда мы наконец встретимся. Если бы я знал... Потом выяснилось, что он-то ждал инициативы от меня. А я все думал, сам меня найдет и скажет: ну вот, завтра приходите с нотами... Очень обидно, что так пропало больше года.
Но тут произошло трагическое событие, умер замечательный мастер, настройщик Михаил Богино, и мне нужно было исполнить что-нибудь скорбное на панихиде, которая проходила в фойе Большого зала консерватории.
Я стоял у колонны, а Рихтер подошел ко мне и сказал:
– Юра, вы могли бы мне сегодня вечером позвонить?
Трубку подняла Нина Львовна:
– Пожалуйста, Юра, приходите, мы слушаем музыку. Заодно захватите с собой ноты Шостаковича...
Потом была первая репетиция. Я уже был достаточно знаком со Святославом Теофиловичем, но очень волновался. У меня никогда не дрожит смычок, не бывает такого, чтобы «нервы» передавались инструменту, но он открыл рояль, мы без особых словесных вступлений начали играть, и я услышал, что смычок у меня задрожал. Я сознавал, что боюсь играть свободно – слишком большой «груз» для меня играть с самим Рихтером. Мне казалось, от этого чувства трудно будет избавиться. Так я и думал бы все время: «Я играю с Рихтером, мой коллега – Рихтер» – и трех нот бы не взял как надо. Я боялся – вот сейчас остановится, передумает, в голову лезли самые невероятные мысли. Вдруг он повернулся ко мне:
– Юра, вы ведь играли эту сонату, а я нет. Вы мне скажите, как здесь лучше – так или вот так...
Мелочь, несерьезный, казалось бы, вопрос. Наверно, он был поставлен для того, чтобы я в себя пришел. И через пять минут началась такая репетиция... Раньше я никогда бы не смог предположить, что смогу так с ним репетировать. Я даже позволял себе кое-где останавливаться и просил: «Святослав Теофилович, здесь, если можно, так-то и так-то».
Он очень внимательно выслушивал все мои пожелания и все время старался встать как бы рядом. Я-то понимаю, что даже теоретически это вряд ли возможно. Говорят, что дельфины, «разговаривающие» между собой на ультразвуке, в общении с человеком переходят на частоту его голоса. Может быть, неуместное сравнение, но нечто такое произошло.
Исполнение выверяется до мельчайших деталей. Невероятная какая-то честность. Он никогда не позволит никакой халтуры, я не имею в виду – ноты не те сыграть, я имею в виду честное отношение к самому произведению: должна четко отстояться концепция, должны быть исключены технические случайности. Час за часом, год за годом такой работы – и он вышел на высочайший профессиональный уровень, давным-давно. И поддерживает он его не только строжайшей дисциплиной во всем. Но в первую очередь тем, что он вообще живет очень честно. Как бывает у музыкантов? На носу ответственный концерт, жалко его отменить, а программа сыровата. Идут на авантюру. Он не пойдет. Многие считают Рихтера тяжелым человеком. Нет, он человек в высшей степени тактичный, ему важнее всего – принесет он радость своим сегодняшним слушателям или пет. Если чувствует, что нет – может и отменить концерт.
Много есть музыкантов, которые живут только за счет мастерства, и наоборот: есть хорошие музыканты, которые недостаточно профессионально владеют инструментом. Но Святослав Теофилович говорит:
– Юра, а как это можно отделять одно от другого? Музыкант – это тот, кто, безусловно, владеет инструментом для того, чтобы высказать свои мысли. Языком, инструментом своим, он должен владеть. Как же можно говорить «он хороший музыкант, но не очень хороший инструменталист»?
Эта мысль, как и многое у Рихтера, очень проста и объясняет все.
У каждого произведения своя жизнь. Музыкант выучивает его и начинает исполнять на сцене. И у каждого произведения свое «соотношение» с этим музыкантом, своя жизнь с ним по продолжительности, по интенсивности. Оно может продержаться год, а потом оказаться абсолютно заигранным и умереть. Музыка – это живая клетка. Обычно, как бы хорошо ни была сделана исполнителем та или иная пьеса, со временем она начинает мельчать. Теряется какая-то основная глубокая мысль, постепенно превращаясь в штамп, в поверхностное воспроизведение того, что хотел сказать композитор (как правило, и инструментально она потом становится хуже).
Получается «перебор» количества выступлений по отношению к заданной идее. Чувствуешь идею, но она уже не так волнует. А публика все равно горячо аплодирует. Поэтому трудно уловить этот момент вовремя, но это необходимо.
Я не считал, сколько раз сыграли мы с Рихтером Сонату Шостаковича, но вот что я заметил: она ни в коем случае не мельчает в нашей жизни с ним, связанной с этой сонатой. Он может бесконечно погружаться в глубь композиторской идеи, и, к счастью, у меня нет ощущения, что я торможу его продвижение по этому пути. Наоборот, он увлекает меня за собой. И так – во всем, что он исполняет. Когда мы с группой музыкантов возили на гастроли программу Хиндемита и Берга, я был свидетелем двенадцати исполнений Концерта Берга, страницы переворачивал Святославу Теофиловичу. Признаться, первый раз мне это сочинение было непонятно. И во второй раз оно воспринималось тяжело, потом лучше, лучше – и мне показалось, что в седьмой раз они сыграли его просто божественно, дальше некуда, дальше может быть только хуже. Ничего подобного! Самым лучшим было двенадцатое исполнение. В чем же оно улучшалось, вот загадка. Качество давно было стопроцентное, и продуманность, и степень отдачи – все было максимальным... Оп какой-то бездонный, Рихтер.
Когда я первый раз услышал Сонату для альта н фортепьяно Шостаковича, мне даже странным показалось – цитата из «Лунной сонаты» на струнном инструменте! Стал над ней работать – мурашки бегали. Это музыка за словесными пределами. Я уже говорил, она требует такой отдачи, что не сразу очухаться можно. Ее немыслимо исполнять абстрактно. Даже Шуберта, даже Шопена можно исполнить как бы немножко «со стороны», а эту сонату – нет. Когда входишь в это состояние, оказываешься ближе всех к моменту происходящего, гораздо ближе, чем публика. Ты – первый в очереди в чистилище. Святослав Теофилович считает, что из трех сонат Шостаковича – скрипичной, виолончельной и альтовой – это самая лучшая. Много раз мы играли ее за рубежом. Публика по-разному ее воспринимает. Тоньше всего – в Большом зале консерватории. Но реакция 'после исполнения примерно одинаковая: тишина. И непонятно, кто ее нарушит, все боятся. И мы в разговоре со Святославом Теофиловичем сошлись, что это реакция самая верная. Не должно быть никаких «браво». Так в Москве было, в Большом зале – мы закончили, люди тихо похлопали, потом разошлись.
Финал тогда – тот самый, с «Лунной сонатой» – мы повторили дважды. Он идет пятнадцать минут. Это кошмар! Ничего себе, «бис»! Еще раз вывернуться наизнанку.
У Рихтера есть способность одним словом объяснить очень многое. В третьей части есть место, где рояль перестает играть, альт остается один. В обычном представлении это называется каденцией. И вдруг на одной из репетиций Святослав Теофилович мне говорит:
– Юра, вы знаете, это скорее не каденция, а тутти.
Так он одним словом перевернул все, указал на то, что я в темноте, на ощупь пытался найти, но не успел. Тутти – это значит играть мощно, «всем оркестром», без мелких отклонений, каденциозных находок. Это один из сотен примеров.
Он выдающийся ансамблист. Наверное, если бы он был актером, то тоже великим. И дирижер был бы потрясающий. Я уже по своему опыту говорю, что малейшее отклонение, малейшее бессловесное предложение со стороны партнера вызывает у него реакцию. Мгновенную, очень инициативную: он тут же сам что-то предлагает и ждет ответа, получает его и так далее. Это совершенно невероятный дар. Казалось бы: музыкант с таким ярко выраженным индивидуальным началом, со своим неповторимым почерком... А он так гибок! И нисколько не подавляет. Вот его называют великим. Но надо как-то по-другому определить его безусловную величину. Возьмите тех музыкантов, которые у нас сейчас считаются первыми именами:Спиваков, Третьяков, Каган, Наташа Гутман, Элисо Вирсаладзе,– у всех есть какие-то привлекательные стороны. Но великий один – Рихтер. Потому что по сравнению с его диапазоном все, что делают остальные, – это какая-то «узкая специализация».
И уж никак не отнесешь его к «романтическому» направлению или «интеллектуальному». Это тот самый сплав всех оттенков исполнительского мастерства и всех человеческих качеств, который и дает ему право считаться великим.
Если взять вне определений: для меня нет музыканта, которого я мог бы сравнить с Рихтером. Были когда-то в юности эталоны – Менухин, Артур Рубинштейн. Теперь нет, один он остался.
Подарит ли природа миру еще одного такого музыканта? Если уже и родился другой такой же великий, то пусть он сначала доживет до этого возраста, и так же растет, и так же играет, пусть он станет величиной хотя бы наполовину того, что сейчас собой представляет Рихтер. Тогда можно будет говорить о его величии. Может быть, природа и одарит его комплексом каких-то исходных данных, но сможет ли он с ними справиться? А Рихтер справился. Уже очень давно.
И последнее – очень важная деталь: от Рихтера словно излучение какое-то идет. Я не только на репетициях, не только на сцене с ним общаюсь. Например, мы иногда вместе смотрим кино (он очень любит кино). И я ловлю себя на том, что гляжу на экран его глазами. Он молчит, ничего не говорит, но я замечаю какие-то невероятные детали, которые я сам, вне его, поленился бы заметить. Он одним своим присутствием «вытягивает» из человека максимум. Жить с собой рядом заставляет по-другому – интенсивнее, что ли. И вот когда он уезжает на гастроли, начинаешь скучать. Пустота в Москве. Мы все начинаем его ждать. Телефон обрываем Нине Львовне:«Ну, что там слышно?.. Когда приедет?.. Как себя чувствует?.. Что сейчас делает?..» И только когда он возвращается – возникает полное ощущение Москвы...
Качество это – неброско проявляющуюся огромную внутреннюю значимость – отмечал в Рихтере и Нейгауз: «Бесспорно, он очень интересный человек, но не в том смысле, как обычно принято употреблять эти слова. Бывает так, что просидишь с ним целый вечер, как будто ничего особенного он и не сказал, а уходишь с таким ощущением, что чудесно провел время, узнал что-то важное, интересное».
Наташа Гутман восхищалась Рихтером с детства, не пропускала ни одного его концерта. Пройдет много лет – и она станет соучастницей его музыки.
Для Олега Кагана 1971 год будет началом работы с Рихтером, пополнившей нашу музыкальную культуру совершенным дуэтом. Но, может быть, еще важнее, что Олег стал носителем конкретной методики Святослава Теофиловича, прививая ее тем музыкантам, с которыми ему доводится играть. И не только методики...
Наталья Григорьевна ГУТМАН
и Олег Моисеевич КАГАН,
скрипач:
Он может заниматься почти без перерывов по восемь – десять часов в сутки, – говорит Олег Каган.– Однажды я сам слышал, как фугу Шостаковича он повторил раз сорок подряд. Рихтер конечный предел слышит иначе, чем другие музыканты. Цикл моцартовских сонат мы много раз играли в 1974–1975 годах, по существу, с них и начался дуэт. Но полтора года назад работа пошла заново: двадцать – тридцать раз за репетицию одно и то же....
Н.Г. Еще удивительнее, что каждый из этих двадцати раз Рихтер требует полной отдачи. У него стерта грань между занятием, репетицией и концертом. Большинство музыкантов сочли бы на каком-то этапе, что произведение готово. Рихтер именно в этот момент только начинает над ним работать.
О.К. Святослав Теофилович часто приводит слова замечательного художника Фалька, с которым очень дружил: нужно довести форму до кипения... Но я не представляю, что было бы, если бы этот интенсивный процесс никогда не прерывался. Это жизнеопасно! Поэтому у Рихтера бывают периоды, когда он не играет концерты, – это своеобразная самозащита организма.
Н. Г. Летом, три года назад, у него как раз был такой перерыв. Настроение хмурое, почти не занимался. Жил он тогда на даче на Николиной Горе, и мы приехали его навестить. Говорили о многом, в частности, он посетовал, что замечает теперь у молодых какую-то творческую безынициативность, неумение придумать и организовать что-то яркое, захватывающее. Самая ненавистная для него черта в людях – равнодушие.
О.К. Тут уж я почувствовал настоятельную потребность ему возразить: «То есть как? Вот, например, в нашей деревне (мы вместе с нашими друзьями-музыкантами снимаем на лето дома под Звенигородом),. в этом году открываем фестиваль!» Он вдруг оживился: «Что, правда? А с какого числа?» Отступать было некуда, и я, признаюсь, почти наугад назвал дату... «Я приеду на открытие!» – сказал он.
Н. Г. У вас и до этого было заведено устраивать летние домашние концерты, где играли и взрослые л дети. Конечно, такая реакция Рихтера подвигла Нас придумать «фестивалю» название, нарисовать афиши, программки.
О. К. Он тогда пришел пешком за пятнадцать километров. Кажется, остался доволен.
Н. Г. А минувшим летом он даже играл с нами Трио Франка и Равеля. Чтобы вместить хотя бы часть желающих послушать, мы перенесли выступление с нашей «концертной деревенской террасы» в звенигородскую музыкальную школу. На афише значилось: «Заключительный концерт третьего фестиваля «Музыкальные собрания в Верхнем Посаде»...
О. К. Рихтер вообще любит играть в новых для него местах, в неожиданных залах. Порой такие концерты оказываются самыми удачными. Так, например, зимой 1982 года мы исполняли сонаты Моцарта для скрипки и фортепиано во Дворце культуры колхоза «Советская Белоруссия». Святослав Теофилович потом долго вспоминал это выступление...
1 июня 1983 года дом № 11 по улице Герцена начал новую жизнь. Участок дома, примыкающего непосредственно к консерватории, принадлежал когда-то знатным боярам Колычевым, а с 1852 года – князю А. И. Горчакову, позднее был куплен у него для синодальных певчих. Построенный в 1783 году, дом в основном сохранился. Уличный фасад – типичный «московский» классицизм конца XVII – начала XIX века, пилястровый портик, лепные маски, окна без наличников. Если хитрым путем проникнуть во двор здания, оно откроется совершенно иным – полукруглой мощной стеною, будто по ошибке оказавшейся здесь, а не в ансамбле старого университета. Может быть, «затылок» старше «лица» – фасада, выходящего на Герцена. По бокам – два флигеля. Вход в левый – обманный, в угоду симметрии, а возле правого вам не раз и не два придется маячить в ожидании лишнего билетика, так что будет еще время подробно рассмотреть старинный фасад...
Итак, из дома № 11 наконец выселили юридический факультет МГУ, и бывший актовый зал засветился под руками реставраторов. Торжественно голубой, с белой лепниной. Но главное – акустика: в стенах, замаскированные «розетками», есть отверстия, уходящие в глубокие «раковины», как это делалось в церквах для придания особой гулкости.
1 июня концерт, можно сказать, исторический: клавирабенд Святослава Рихтера – на открытие нового камерного зала.
Немного мешает настроиться запах свежей краски.
В первом отделении исполняются четыре пьесы из цикла «Времена года» П.И.Чайковского: «Май» («Белые ночи»), «Июнь» («Баркарола»), «Ноябрь» («На тройке»), «Январь» («У камелька»), ранние миниатюры Чайковского, некоторые – совсем забытые нашими пианистами.
Второе отделение – Восемь этюдов-картин С. В. Рахманинова. Очень молодое мироощущение передается от Святослава Теофиловича: и тоска по будущему, и неуемная энергия, и еще что-то новое, тобою в жизни неизведанное. Наверное, в этом главное просветительское значение музыки – она дает ощутить, эмоционально пережить то, чего в реальней жизни, может, и не доведется никогда.
Музыканты между собой называют этот зал не иначе, как «рахманиновский». Здесь играл не только Рахманинов, но и Скрябин, выступали Ермолова и Качалов. Так, рахманиновским, он, наверное, и останется после этого рихтеровского «освящения», независимо от того, «присудят» ли ему официально это название...
Но есть в, Москве новые культурные центры и для детей. Моему поколению они еще не снились. Созданы они великими тружениками, вдохновенными энтузиастами, ясно осознающими свою миссию на земле: это Детский музыкальный театр Наталии Ильиничны Сац, новый Уголок Дурова Натальи Юрьевны Дуровой, Детская школа искусств № 3 на Каширском шоссе – детище Ираиды Тимофеевны Бобровской.
Как сказать о возрасте Ираиды Тимофеевны? «В школе физику нам преподавал Циолковский. Жилось тогда голодно. Он вместе с нами ел чечевичную похлебку с куском хлеба».
Сначала Бобровская была' директором обычной музыкальной школы. Но – родилась неукротимая идея! Стоит ли говорить, сколько потребовалось энтузиазма, чтобы выросло вот это новое здание. Последнее слово архитектуры и дизайна, с огромной лирой у входа, с окнами-нотками. В Школе искусств учится 1600 детей – юные музыканты, художники, танцовщики и балерины. Тут проходят конкурсы исполнителей со всех музыкальных школ Москвы. Концертные залы: три камерных, с огромными полукруглыми фресками и мозаиками. «Музыка в мифах и легендах», «Времена года», «История музыки». Большой зал – на 300 мест: длинные, узкие витражи, Орфей, Лель, Боян. На сцене – «Стейнвей». Кроме школьных экзаменов н концертов, здесь проходят выступления видных музыкантов для учащихся и педагогов. Скоро прибавится еще один зал – на 450 мест, с вращающейся сценой, можно будет ставить настоящие спектакли...
Играет в этой школе и Святослав Теофилович Рихтер.
Ираида Тимофеевка БОБРОВСКАЯ
Как это все началось? За Рихтером я слежу давно, еще со времен Нейгауза. Но никак не думала, что удастся с ним познакомиться и привлечь для сотрудничества, Лет пять назад позвонили из Дома культуры «Москворечье»: «У нас сегодня Рихтер выступает. Не поможете встретить?» Приехал, а его предупреждают:
– Вы уж извините, у нас «балалайка», а не рояль...
– Не пугайте.
После концерта я подошла:
– Святослав Теофилович, здесь рядом школа с хорошим роялем, там Вас на руках носить будут.
– Я приеду.
После этого он исчез на месяц. Вдруг в школу звонок:
– Завтра к вам приедет Рихтер.
Приехал доброжелательный. Афиш не вешали, но, кроме педагогов всех шести музыкальных школ Красногвардейского района, пришлось еще и милицию приглашать. Был май, много цветов. Вместо билета надо было предъявить букет для Рихтера. Предупредили: в середине концерта не дарить!
После «бисов» на сцене выросла гора, заслонившая рояль. Рихтер любит белые цветы, особенно ландыши.
После концерта он расслабился, расположился:
– У вас здесь хорошо. Прекрасная акустика, Воспитанная публика.
Я высказала свою затаенную мечту:
– Святослав Теофилович, хотим создать Вашу комнату, вроде музея...
Он согласился.
И вот как-то дождливым вечером позвонила Наташа Журавлева:
– Едет к вам с экспонатами.
Рихтер привез большой чемодан, сумки – редкие ноты, пластинки, рисунки, подарки из разных стран, книги, фотографии, программки.
– А чемодан сам по себе замечательный. Он объехал всю Европу и Америку.
И чемодан подарил,
На вечер 4 июня 1983 года* объявлена программа: квинтеты Брамса.
Жарко. Ждут дорогих гостей сначала в вестибюле, почти все дети привели родителей. Рихтер опаздывает. Толпа вытекает на улицу. В руках мелькают заветные белые квадратики, нарезанные из школьной тетрадки в клеточку – бесплатные билеты.
Подъезжают две машины. Толпа расступается. Выходит Рихтер в белой рубашке, за ним квартет Бородина в полном составе плюс прехорошенькая Мила Берлинская – она, как всегда, будет переворачивать ноты.
Рихтер входит в здание школы, всасывая за собой толпу, как в «черную дыру».
До и после концерта он располагается в своей комнате.
...Вот портрет Женни Линд, скромная фотография Нейгауза. Карандашные рисунки Рихтера: «Цихисджвари, Грузия, 52», пастель «Лученец» – вид из окна гостиницы в Словакии, нарисованный по памяти. Стенд «Турень» – внешний вид знаменитого амбара Мэле, Пьер Булез, Элизабет Шварцкопф, Давид Ойстрах, сам Рихтер с Фишером-Дискау. Вот фотография в память о 80-летии Пикассо – с Караяном, Коганом, Маркевичем. В витрине рукописи произведений, посвященных Рихтеру – автографы М.Гагнидзе, Г.Окунева, Л.Гаруты, письмо родственницы Антона Рубинштейна и ее подарок – редчайшие ноты. Святослав Теофилович передал в школу и альбомы, составленные Е.А.Терпигоровой из Пензы – тщательно собранные рецензии, статьи из газет и журналов, стенограммы радиопередач о Рихтере (побольше бы таких поклонниц нашим музыкантам!). Альбомы дают перелистать: «лучших, чем он, не бывает далее в России...», «легенда стала явью – сверхъестественные, почти нечеловеческие способности...»
А вот и нет. Наоборот, главная его сила как раз в том, что все его способности человеческие в высшем смысле этого слова.
У каждого гения золотое дно где-то очень глубоко, но есть минуты, а порой и счастливые для нас с вами часы, когда частички раскаленного золота взлетают очень высоко, как из жерла вулкана. Через какую толщу они прорываются? Золотые искры нам видны, а вот можем ли мы заглянуть на дно, даже если встанем на цыпочки на самом краю кратера? И кто знает, в какие глубины заглядывает художник, оставаясь наедине с самим собою?
Несколько поколений заинтересованных исследователей нужно, чтобы добраться до этого дна – у великих писателей, композиторов, художников.
А как быть с исполнителями? Как пронести через десятки лет созданные ими непреходящие ценности, чтобы помочь времени справедливо вынести приговор? Звукозапись – Джоконда в журнальной репродукции... Значит, должны мы, их современники, оставить свое свидетельство.
Долог путь от идеи к ее осуществлению. Задумать концерт, маскарад, театр, фестиваль, музей, дворец искусств для детей. Задумать хотя бы в первом приближении постигнуть феномен крупнейшей личности в искусстве XX века, в истории мировой культуры.
Слово моложе мысли – так, кажется, говорил В. Шкловский. Сначала импульс, потом мысль, потом слово. Но и слово надо успеть записать.
И, уже глядя на него, готовенькое, с тоской понимаешь, как далеко оно от самого первого неуемного стремления. Что-то истаяло, что-то зачерствело, что-то растратилось в пути, но что-то очень важное, может, и осталось
Концертография
Святослава Теофиловича РИХТЕРА
за 1982 год
4/1. МОСКВА. Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Заключительный концерт цикла «Декабрьские вечера». Белый зал. 1. Чайковский. Пьесы для ф-но. II. Чайковский. 4 пьесы из цикла «Времена года». Рахманинов. 8 пьес.
12/1. Малый зал консерватории. Вечер, посвященный 100-летию со дня рождения К.Н. Дорлиак. Метнер. Романсы. Исп. Г.Писаренко. Рахманинов. Шесть хоров. Исп. женская группа Большого хора Всесоюзного радио.
31/1. Концертный зал Всесоюзного музея им. Глинки. Дворжак. Квинтет Ля мажор, соч. 5. II. Квинтет Ля мажор, соч. 81. Исп. квартет им. Бородина.
1/II. Малый зал консерватории. Дневной концерт. Та же программа.
22/V. Дом дружбы с народами зарубежных стран. Дневной концерт. Та же программа.
25/V. КИЕВ. Фестиваль «Киевская весна» (Киев – 1500). Колонный зал филармонии им. Лысенко, Дневной концерт. Та же программа.
28/V. ЛЬВОВ. Зал филармонии им. Людкевича. Та же программа.
30/V. УЖГОРОД. Большой зал Закарпатской областной филармонии. Та же программа.
3/VІ. ПРАГА, Зал и.мсни Дворжака – Рудольфинум, Та же программа.
5/VІ. БРНО. Филармония – Беседний дом. Та же программа.
7/VІ. УГЕРСКЕ ГРАДИШТЕ. Словацкий театр. Та же программа.
8/VІ. ТЕЛЧ. Зал Телчского замка. Та же программа.
9/VІ. ВЕЛКЕ МЕЗИРЖИЧИ. Концертный зал объединенного клуба трудящихся – Высочина. Та же программа.
13/VІ. ФЛОРЕНЦИЯ. Фестиваль «Флорентийский май». Городской театр. Та же программа.
14/VІ. Городской театр. Шостакович. 1. Соната для альта и ф-но, соч. 147. Альт – Ю. Башмет. II. Квинтет соль минор, соч. 57. Исп. квартет им. Бородина.
15/VІ. МИЛАН. Театр «Ла Скала». Дворжак. I. Квинтет Ля мажор, соч. 5. И. Квинтет Ля мажор, соч. 81. Исп. квартет им. Бородина.
16/VI. ТУРИН. Королевский театр. Та же программа.
4/VII. МЭЛЕ, около Тура. XIX музыкальные празднества в Турени. Амбар Мэле. Дневной концерт, I. Лист. Три пьесы для ф-но: Размышления о смерти. Анданте лагримозо: Аве Мария (Ми мажор). Брамс, 4 духовных песни, соч. 121. Исп. Д.Фишер-Дискау. II. Франк. Прелюдия, хорал и фуга. Вольф. Шесть духовных испанских песен, Исп. Д.Фишер-Дискау.
7/VII. ПАРИЖ. Зал Гаво, Дворжак. I. Квинтет Ля мажор, соч.3 и. Квинтет Ля мажор, соч.81. Исп. Квартет им. Бородина

Журнал "Юность", 1984, №1. С.67-68 (печатается с сокращениями).
Нина Львовна Дорлиак.
"В дуэте с Рихтером".
Рихтера я узнала, когда он появился в Московской консерватории. Дружила я в ту пору главным образом не с вокалистами, а с пианистами и была в курсе всех пианистических дел. Пошла на его концерт. Внешность у него была очень занятная: рыжий-рыжий, тоненький, худенький, страшно стремительный. Мне понравилось, как он играл. У нас были общие знакомые в Тбилиси, две художницы (мы с мамой и моим племянником Митей оказались там в эвакуации). Из Тбилиси он как-то привез мне посылку. Виделись нечасто.
В 1943 году умер Немирович-Данченко. Мне была горестна эта смерть: с Владимиром Ивановичем мы вместе были в эвакуации, он приглашал меня петь в свой театр. Это было очень заманчиво, но голос у меня был небольшой, и я хотела заниматься своим камерным искусством. Я была на панихиде во МХАТе. Возвращалась по улице Горького, шла в задумчивости, вдруг ко мне стремительно подходит Святослав Теофилович:
— Давайте вместе дадим концерт!
— Вы хотите, чтобы отделение вы играли, а отделение я пела?
— Нет, я хочу вам аккомпанировать.
И мы начали заниматься. Он приходил к нам на Арбат, мама еще была жива. Но наш первый концерт состоялся уже после ее смерти, в мае 1945 года. Он оказался для меня такой поддержкой! Моя мама, Ксения Николаевна Дорлиак, была моим учителем, я страшно ей верила, я никому так не верила, как ей. А тут остались одни — Митя и я. И вот как-то вышло, что с осени мы со Святославом Теофиловичем стали вместе.
Святослав Теофилович всегда играл и играет очень много, часто меняет программы. Я еще до Всесоюзного конкурса, где ему предстояло участвовать, знала, что он готовит программу наивысшей трудности за чрезвычайно короткий срок. То же было потом с сонатами Прокофьева — он выучивал их в пять, ну в четыре дня. Но я до сих пор не могу привыкнуть, пугаюсь, когда он говорит: завтра играю это, через неделю то, а через две надо сыграть вот это.
Святослав Теофилович всегда возмущается, когда его упрекают, что он мало играет в Москве, и показывает тетрадку, где аккуратнейшим образом записаны все сыгранные им когда-либо концерты — где, что, когда. Конечно, для москвичей, может быть и мало... А гастролирует он много и не только за рубежом. Вот некоторые его поездки по нашей стране: Калуга — Братск — Пинск — Гомель — Брест. Святослав Теофилович везде собирает полный зал. Он играет в школах, в техникумах. В Молодечно я сама была с ним на концерте в музыкальной школе. Замечательная аудитория!
Святослав Теофилович категорически отказывается преподавать. Не хочет. «Я не умею, я не могу, и вообще это страшно скучно и никому не нужно». В то же время у него огромная потребность в общении с молодыми, потребность передать.
Больше всех он выступает с Олегом Каганом, с Юрием Башметом, с Виктором Третьяковым, с Галиной Писаренко, с Наталией Гутман [...].
В жюри конкурсов он не сидит никогда. Во-первых, говорит, что невыносимо слушать пятьдесят раз одну и ту же сонату, а во-вторых... Однажды он был членом жюри — на Первом международном конкурсе имени Чайковского. Он сразу выделил Клайберна как не имеющего соперников. Ему поставил высший балл, остальным — ноли. Потом передумал — ноли неудобно ставить — ведь приехали же, играли же. Тогда выставил всем единицы, сохранив за Клайберном высший балл... В-третьих — время! Бережет время, чтобы больше играть.
Нейгауз считал, что Рихтер обязательно должен еще и дирижировать. В 1940-е годы он провел в Ленинградской филармонии репетиции Второй симфонии Бетховена. Его публичным дебютом стал виолончельный концерт Прокофьева в 1952 году. И с тех пор он не дирижировал. Правда, как-то высказался, что страшно любит «Франческу да Римини» Рахманинова, и вот теперь уже второй год на радио ждут — хотят, чтобы он продирижировал этой оперой, певцов выбрал, каких захочет. Но для того, чтобы всерьез этим заняться, ему пришлось бы как минимум на полгода бросить пианистическую деятельность. По-моему, это не реально. Чем старше он становится, тем больше занимается. И считает, что это принципиально важно, чтобы не потерять форму. Он максималист в достижении совершенства.
Самое мучительное для всех нас то, что он сам все меньше удовлетворен своими концертами, хотя для этого нет никаких объективных оснований. Скажем, когда я, все наши друзья совершенно потрясены концертом, он может недовольно сказать: «Сегодня мало что получилось». Когда мы пытаемся его убедить, что даже физическое утомление не отражается на его мастерстве, глаза у него гаснут и он говорит: «Но я один знаю, как это должно быть!» Сейчас, кажется, миниатюрами Чайковского он доволен больше, чем в первые выступления.
Не нравится ему и большинство его записей. А некоторые любит. [...] Любит оба Концерта Листа, кое-что Скрябина, некоторые прелюдии и фуги Шостаковича, концерт Грига, записанный с дирижером Ловро Матачичем.
Музыку же он знает всю. Вспоминаю, как они общались с Нейгаузом. Тот подходил к роялю и наигрывал: «А вот в «Электре» Штрауса, Слава, ты помнишь...». Так они с Генрихом Густавовичем разговаривали.
Книги, которые он прочитывает — и не по одному разу — помнит всю жизнь детально. Страшно любит Гоголя, Достоевского, Пушкина, конечно. Вообще, хорошо знает литературу. В последнее время меньше читает. Но как — меньше? Например, поставил задачу: прочесть двадцать томов Эмиля Золя. И прочел. Заставлял читать Наташу Журавлеву, Галю Писаренко, Олега Кагана... Я не выдержала двадцати томов.
У нас дома он организовывает выставки, концерты, прослушивания записей, на радость друзьям. Например, оперы. Крупно пишет пересказ всего содержания — он пошел, он сказал, она пришла, произошло то-то и то-то. Музыка звучит, листочки эти он по ходу действия меняет на пюпитре, чтобы всем было видно. Адская работа. [...]
Все он делает невероятно творчески, чтобы это было интересно, необыкновенно. То же самое — когда дело касается работы, музыки...
Журнал "Юность", 1984, №1. С.67-68 (печатается с сокращениями).
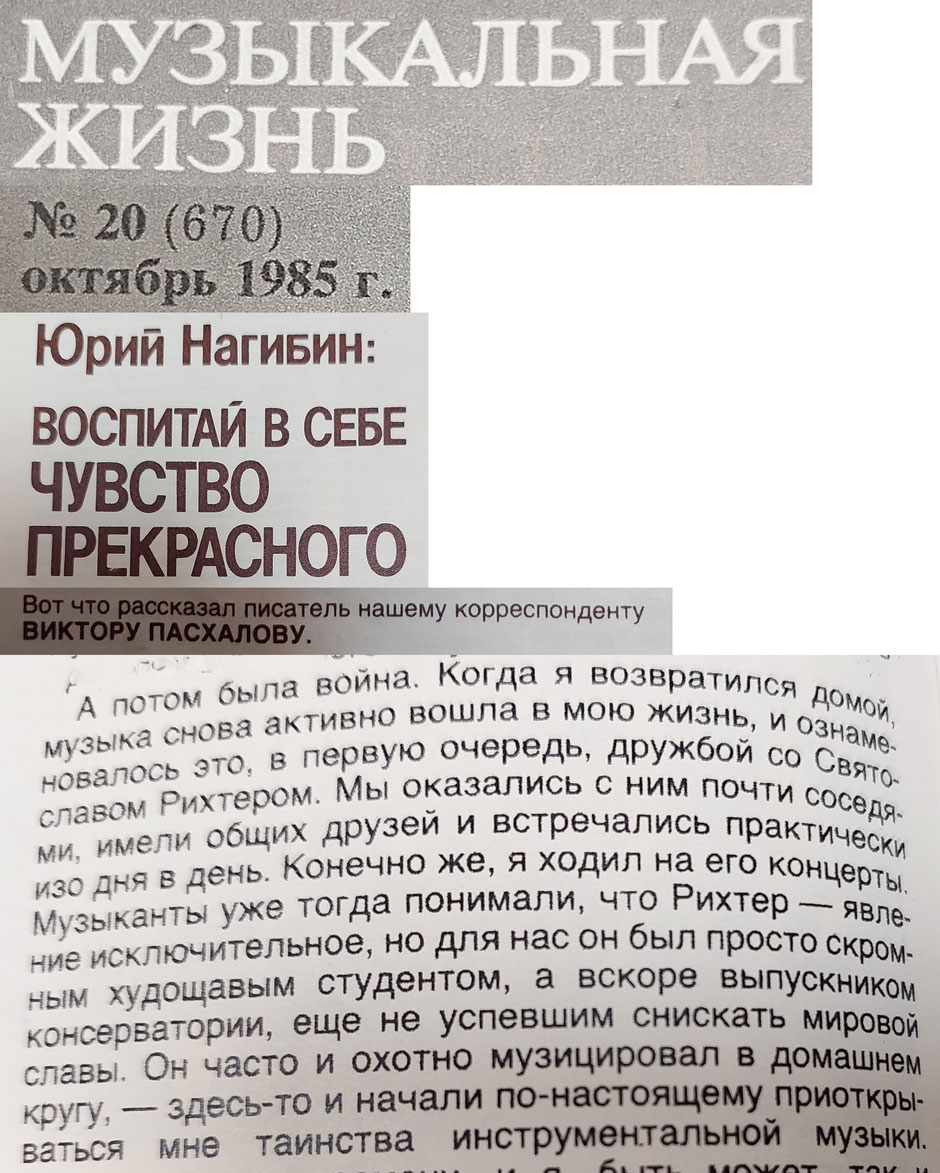

Альфред Гарриевич Шнитке
Музыка в СССР. - 1985. - Июль-сентябрь. - С. 11-12
Святослав Рихтер
Для многих людей моего поколения Святослав Рихтер олицетворяет некую вершину, где реальность музыки уже становится ее историей. Никакие соображения, что Рихтер - наш современник, что его можно увидеть и услышать, не могут хоть на секунду сделать его привычным: Рихтер уже десятилетия стоит в одном ряду с такими фигурами, как Шопен, Паганини, Лист, Рахманинов, Шаляпин; он – соединительное звено между настоящим и вечностью. Уже почти полвека этот человек (внешне закрытый и недоступный) является притягательным центром музыкальной жизни Москвы - он исполнитель, он организатор фестивалей, он первый замечает и поддерживает талантливых молодых музыкантов и художников, он знаток литературы, театра и кино, он коллекционер и посетитель вернисажей, он сам художник, он режиссер. Его темперамент сметает все препятствия, когда он одержим какой-нибудь идеей - будь то тематический цикл концертов, фестиваль искусств, выставка или домашний концерт. Ходят легенды о требовательности Рихтера к себе: сыграв замечательный концерт, вызвавший восторг публики и прессы, дающий пищу целым музыковедческим исследованиям, он мучается от какой-то неудавшейся частности (одному ему заметной). Не будем считать это странностью и рисовкой: у Рихтера другая шкала ценностей, ему одному известен первоначальный замысел исполнения, ему одному и судить о реализации своей идеи. Мы не можем знать, какое звуковое совершенство предстает перед его внутренним слухом, и поэтому не можем судить о том, каким могло бы быть исполнение в идеале, явленном ему. Мы лишь благодарны ему за ту часть задуманного, которая удалась и которая безмерно превышает все то, что мы способны представить.
Более тридцати пяти лет я слушаю Рихтера и поклоняюсь ему. Помню еще концерты начала пятидесятых годов - сонаты Бетховена, Прокофьева, Листа, Чайковского, «Картинки с выставки» Мусоргского, этюды Рахманинова и Скрябина, вальсы и мазурки Шопена, концерты Бетховена, Рахманинова, Листа, Шумана, Римского-Корсакова, Глазунова, Сен-Санса, Равеля и многое другое. Это было время, когда мне удавалось не пропускать ни одного его концерта, - заранее узнавал о них, шел в кассу в первый день продажи билетов. Мне было 15-16 лет, я безуспешно пытался тогда наверстать упущенное время и стать пианистом... Любил его больше всего в музыке - больше самой исполняемой им музыки. Поражался сочетанию темперамента и воли, удивлялся тому, как он "превзошел" технику (играл себе, словно это нетрудно), боготворил его туше (особенно piano), не принимал раскованности его движений (думал, что это - аффектация). Вырезал из газеты его фотографию, носил с собой как талисман вместе с такой же Шостаковича. Не интересовался другими пианистами, воспринимал как кощунство попытки сопоставить с ним кого-нибудь еще; рассказы немногих, лично знакомых с ним, слушал со смешанным чувством зависти и презрения - как можно его, недостижимого, называть "Слава", как можно даже произносить на одном дыхании "Рихтер сказал... мне" (ему-то?!), "я сказал... Рихтеру" (Ему-то?!).
Потом популярность Рихтера возросла настолько, что годами я не мог попасть на его концерты. Лишь лет восемь-девять тому назад у меня появилась возможность снова слушать его. Удивился перемене - "аффектация" исчезла, за роялем сидел аскет, философ, мудрец, знающий нечто такое, от чего музыка - лишь часть. Чувство недостижимости еще возросло, хотя и оказался он в общении человеком скромнейшим и деликатнейшим (вот и я кощунственно "познакомился" с ним). Репертуар изменился, стал строго тематическим, романтическая основа его отошла на второй план, все больше стало ансамблевых произведений - Шостакович, Хиндемит, Берг, Яначек, Дворжак, Франк. Темперамент все той же силы, но иного качества - нe субъективно-романтический, а стихиино-объективный. Однако эта объективность не классицистская, не ретроспективная, а подлинная, новая. Все та же превосходная степень качеств, но очистившихся от условного, "искусственного" - монументальность и величие без всякого оттенка позы, как величествен и всесилен тот, кто отказался от власти и амбиций. "Неблагодарный" репертуар - скромнейшие пьесы Чайковского или утопическая в своей исчезающей нематериальности Альтовая соната Шостаковича. Во всем - нечто от поздних квартетов Бетховена, где лишь разреженный воздух вершины. Перед своим 70-летием Рихтер подарил нам очередной фестиваль - Шедевры музыки XX века, где снова поразил силой своего исполнительского дара (Трио Шостаковича в ансамбле с Олегом Каганом и Наталией Гутман), но открылся также в новом качестве - оперного режиссера: на маленьком пространстве, которое и сценой назвать нельзя, поставил труднейшую оперу Бриттена «Поворот винта» с помощью простейших, но совершенно оригинальных приемов (вспомним хотя бы вызывающую мурашки пространственную разобщенность голосов и "тел" у признаков!).
Хотелось бы ждать от Рихтера новых режиссерских работ, но тут начинаешь опасаться, что из-за этого он будет меньше играть. Конечно, Рихтер натура универсальная, и, оценивая его как пианиста, невозможно отрешиться от остальной его деятельности. Может быть, он столь велик как пианист именно потому, что он больше чем пианист - его проблемы располагаются на уровне более высоком, чем чисто музыкальный, они возникают и решаются на стыке искусства, науки и философии, в точке, где единая, еще не конкретизированная словесно и образно истина выражается универсально и всеобъемлюще. Ординарный ум обычно ищет решения проблемы на ее же плоскости, он слепо ползает по поверхности, пока более или менее случайно, путем проб и ошибок не найдет выхода. Ум гения ищет ее решения в переводе на универсальный уровень, где сверху есть обзор всему и сразу виден правильный путь. Поэтому ,те, кто бережет свое время для одного дела, достигают в нем меньшего, чем те, кто заинтересован смежными делами. - эстетическое зрелище последних приобретает дополнительное измерение, они видят больше, правильнее и объемнее...
Однако все попытки подобрать рациональный ключ к таинственной природе гения бессмысленны: мы никогда не найдем формулу одаренности и никогда не сможем повторить Великого Мастера, живущего среди нас, - пусть он живет долго!
1985 г.
Музыка в СССР. - 1985. - Июль-сентябрь. - С. 11-12

Хитрук А.
«Советская музыка», 1986, №3
Фрагмент.
Проблемы «новой» личности или нового творчества
Говоря о «пианистах-организаторах», Л.Гаккель касается одного из важных качеств современной музыки в целом – ее новой временной природы, основывающейся в большей степени на принципе «giusto», чем на принципе «rubato» (столь характерном, скажем, для романтической культуры). Именно в зоне «giusto» открываются широкие возможности для ансамблей, «организованной» игры, и наблюдаемое ныне «возрождение» камерного исполнительства следует рассматривать именно под этим углом зрения. Но тот же принцип – что не менее важно – претворяется (и как претворяется!) у таких несовпадающих по стилю и манере игры художников, как Г.Гульд и С.Рихтер. «Организующая» тенденция в их исполнительстве проявляется не менее, а может быть и более ярко, чем в игре современных камерных ансамблей. Несомненно, что и в данном случае причины надо искать вне пианистической темы – в творчестве крупнейших композиторов современности, в новых типах времени в современной музыке – начиная с эпохи Дебюсси и Прокофьева.
Соглашаясь с Л.Гаккелем в том, что «необычные исполнительские акты» характеризуют становление «новой исполнительской личности», добавим: в основе этой «необычности» лежит очень существенная и, видимо, перспективная тенденция современной музыки. Сущность ее заключена в стремлении к зримости, в частности к театрализации музыки, тенденция, ведущая к полярному – по отношению к грамзаписи – ритуалу. Наличие в современном музыкальном сознании «видеокомпонента» – стремление воплотить музыкальное произведение в виде некоего пластического представления наглядно хотя бы в деятельности того же С. Рихтера.
И раз уж речь зашла о Рихтере, хочется сказать, что именно характеристика нашего выдающегося пианиста Л.Гаккелем вызывает весьма решительные возражения. С.Рихтер – вне лицедейства, вне театральности, вне перевоплощения? Помилуйте – хочется воскликнуть – а как же с несовпадающими, несовместимыми «ликами» С.Рихтера, скажем, в Бахе и Листе, в Дебюсси и Шуберте, в позднем и раннем Бетховене?
Преображенность стиля как нельзя более характерна для С. Рихтера. И так называемый «холод», о котором пишет Л. Гаккель, – это лишь одно из многих «амплуа» пианиста. Личность С.Рихтера, новизна его концепций настолько сложны, противоречивы, парадоксальны, что исследование его творческой деятельности по существу только начинается и во многом дело будущего.
Л.Е.Гаккель. «Уроки» (фрагмент)
«Советская музыка», 1986, №6
Сразу же начинаю думать об уроках Святослава Рихтера. Самое раннее их запечатление — концерт в Большом зале филармонии 8 июня 1953 года (восемь Прелюдий и фуг из Первого тома Хорошо темперированного клавира Баха, бетховенская Восемнадцатая соната, Фантазия Шумана). В течение долгих лет Рихтер, мне кажется, любил приезжать в Ленинград в июне, в пору белых ночей, как называют это время. Оно очень своеобразно: немного томительно, немного печально; город, ясно видимый и днем и ночью, словно бы пустеет, тяжкий груз зимы — физический и психологический — спадает, оставляя, среди прочего, чувство потерь и несбывшихся надежд... Музыка в эту пору взыскуется как утешение. Его и дал рихтеровский концерт. Ныне, спустя многие годы, воспринимаешь его как редкостный миг сердечного, мягко участливого Рихтера, обращающего к вам слово поддержки. Баховские Прелюдии и фуги с их мерным движением несут покой: он тем полнее, чем строже отмеряется время, а оно отмеряется пианистом с неслыханной точностью! Словно течет река времени; это «абсолютное состояние» передавалось Рихтером и в 50-е годы и позже, оно и ныне передается им, это его урок...
Далее. Восемнадцатая соната, первая часть, первая тема, интимное слово, вопрошающее слово диалога. И Фантазия Шумана. Она стала откровением артиста, а слушательское наше чувство неделимо и сохранно: живительная свежесть шумановского творения, особенно вечерняя благодать финала, навсегда соединилась в моем сердце с 38-летним Рихтером, играющим в светлом, усталом от зимы городе и великое свое предназначение дающим свершить музыке — утешить и согреть.
Но мы пережили и совсем иной рихтеровский урок. Во втором отделении концерта в Большом зале филармонии 10 апреля 1956 года пианист сыграл пять Трансцендентных этюдов Листа и среди них — Этюд а-moll. Это было потрясающее явление виртуозности, то есть исполнительского риска, ведущего на грань возможного. Мы уже описывали этот грозовой разряд артистической энергии. Играя Этюд, Рихтер перегибается за край клавиатуры... зал издает единодушное: «А-ах!..» — пианист горделиво выпрямляется, только что сплотив множество людей переживанием исполнительского подвига. В зале 1956 года вполне могли находиться те, кто слышал Рахманинова, Бузони, Горовица и узнал тем самым явление виртуозности как «превышение нас», как переход в трансцендентную область усилий и достижений. Но я и мои сверстники внимали этому уроку впервые и были заворожены, ошеломлены им. Блестки, сполохи рихтеровского пианизма мы уже наблюдали; это было в февральских концертах 1952 года (Токката Шумана, «Венеция и Неаполь» Листа, этюды Скрябина), но такого цельного воплощения артистической доблести, законченного образа «virtu» мы еще не видели. Да и впредь — даст ли нам Рихтер пережить подобное? С уверенностью не скажешь. Впечатления от восьми Трансцендентных этюдов в рихтеровском концерте 18 июня 1957 года, во всяком случае, не сильнее описанных. Может быть, только Восьмая соната Прокофьева, да и то не из ленинградских выступлений артиста, а из московской его программы 1974 года, напомнила нам о впечатлениях 50-х годов.
И третий урок. Рихтер играет Шуберта. 10 апреля 1964 года, Малый зал филармонии. Соната А-dur ор. 120, Три пьесы 1828 года, Соната В-dur, на «бис» - лендлеры. Нам доводилось писать и об этом концерте (Гаккель «Для музыки и для людей» в сб. «Рассказы о музыке и музыкантах», м. – Л. 1973). Он помнится как два часа жизни, прошедшие целиком под властью рихтеровского гипноза. Дар нашего пианиста гипнотичен, это бесспорно. Но бывали и бывают концерты, на которых в «магнетическое поле» Рихтера ваш слух словно бы не попадает. А на том апрельском концерте растворенность слуха в «рихтеровском», завороженность «рихтеровским» были полные. Текла величавая река времени — как в баховской музыке, — текло время жизни, и оно было так неспешно, движение В-dur’ной Сонаты было таким медленным, что под конец сочинения и даже под конец первой части начало Сонаты и начало первой части становились для вас воспоминаниями, так в жизни конец дня превращает день в воспоминание, даже если ничего по видимости не меняется, даже если вокруг вас те же вещи, те же люди... Это тайна шубертовской музыки: внушаемое ею чувство «жизненного потока». Благодаря ли повторяемости материала, благодаря ли протяженности изложения оно появляется? Но оно реальное и щемящее. «Звуки польского, продолжавшегося довольно долго, уже начинали звучать грустно, — воспоминанием в ушах Наташи», — недаром цитату эту из «Войны и мира» привел выдающийся наш мастер пианизма С. Фейнберг, рассуждая на сходную тему. Дать почувствовать печалящий ход жизни в шубертовской музыке с ее строфикой, с ее вариационными построениями, при этом не «подталкивая» музыку, не «помогая ей» динамическими, агогическими или какими-либо иными средствами, напротив, оберегая гипнотическую ее слитность, плавность, — таков урок Рихтера-шубертианца в начале 60-х годов. Уроками он дарил и позже, о них писалось и еще будет написано.
[1] См.: Л. Гаккель. Для музыки и для людей. В сб.: «Рассказы о музыке и музыкантах». М. — Л., 1973, с. 136.
[1] См.: там же, с. 147.

Д.Кабалевский. Из воспоминаний разных лет.
«Музыка и ты», Выпуск 7. Альманах для школьников,
Москва, «Советский композитор», 1988.
Четырехручие
В конце 30-х годов я вел в Московской консерватории курс ознакомления с музыкальной литературой. Ходить на 3“ эти занятия положено было теоретикам и композиторам. Но иногда в класс заходили студенты с других факультетов. Естественно, что не всех своих слушателей я знал в лицо и по фамилии.
Классы тогда еще не были радиофицированы, и симфоническую музыку мы играли в четыре руки. Принес я как-то Третью симфонию Малера. Попробовал сыграть с одним студентом – ничего не вышло. С другим – тоже не получилось. «Неужели никто не сможет этого сыграть?» – обратился я к классу, понимая, впрочем, что задал нелегкую задачу.
«Попробую», – смутившись, сказал незнакомый мне, очень скромный и чуть-чуть нескладный юноша. Он быстрой походкой подошел к роялю, сел рядом со мной за «первую партию». Через несколько тактов я почти перестал понимать, что происходит. Такой талантливой и мастерской игры с листа я еще никогда, кажется, не встречал. Сознаюсь честно: я – профессор! – еле-еле свел концы с концами, чувствуя явное превосходство над собой этого незнакомого студента с огромными руками...
Когда мы доиграли первую часть симфонии, я спросил своего юного партнера: «Как ваша фамилия?» Он опять почему-то смутился и ответил: «Рихтер»...
Марина Влади.
Фрагмент из воспоминаний «Владимир, или прерванный полет».
«Ровесник», 1988, №11.
Я не знала, что ты преклоняешься перед человеком, которым я тоже глубоко восхищена. Я открыла это для себя в тот день, когда ты, сияя, объявил, что нас ждет к чаю Святослав Рихтер. Нечасто бывало, чтоб так светились у тебя глаза. Ты то и дело спрашиваешь у меня, который час, тщательно одеваешься, волнуешься. Ты рассказываешь мне, какую честь оказал нам этот великий пианист, пригласив к себе, потому что он скромен, застенчив, нелюдим и, главное, очень занят, часто на гастролях. Я чувствую, тебе лестно, что твои песни понравились, что твою работу в театре оценили. Это приглашение – своего рода признание. Ты, пасынок города, выросший в огромных дворах старых арбатских домов, поэт-композитор, едва умеющий записать нотами свою музыку, приглашен величайшим пианистом своей страны, невероятно! Я познакомилась с Рихтером в Париже у моей сестры Одиль Версуа, его близкой знакомой и большой поклонницы на протяжении многих лет. Если не считать той мимолетной встречи, я всего лишь восторженная слушательница его концертов и волнуюсь точно так же, как ты.
Будто дети, мы переглядываемся, прежде чем войти в подъезд красивого дома в центре Москвы. Звоним в дверь квартиры. Ты приглаживаешь непослушные волосы и не успеваешь опустить руки, как дверь открывается. Так и застываешь с поднятыми руками. Перед тобой седой гигант с голубыми глазами, он, в свою очередь, протягивает тебе обе руки с такими сильными пальцами, что и представить невозможно, как они могут столь осторожно касаться клавиш и заставлять их звучать. За спиной у него ярко освещенный огромный зал с двумя черными роялями и несколькими табуретками вдоль стены. Рихтер приглашает нас войти. Извиняется, потому что по полу рассыпаны конфетти, разноцветный серпантин цепляется за ноги. Разбросанные на табуретках карнавальные маски напоминают о только что закончившемся празднике.
– Сегодня ночью у меня были все мои товарищи по консерваторскому выпуску, кто, конечно, еще жив после стольких лет! Мы веселились как сумасшедшие, устроили фанты, шарады, а что (со смешком), умеют еще так веселиться теперь? Идемте, супруга нас ждет.
После большого зала маленькая комнатка, где накрыт чай, кажется какой-то экзотической. Красивая женщина в темном шелковом платье здоровается с нами трепетным голосом певицы. Краем глаза вижу, ты покраснел, сцепляешь и расцепляешь пальцы, голос у тебя еще более хриплый, чем обычно, ты волнуешься. Мы пьем из старинных фарфоровых чашек янтарный чай с пирожными, говорим о всяких пустяках, восхитительно незаметно проходит время. Мы счастливы.
Потом, волоча за собой прицепившиеся серпантинки, еще очарованные, мы пешком спускаемся по лестнице.
1985: зал «Плейель», я приду на репетицию Рихтера. Когда мэтр встанет, я подойду, мы долго будем смотреть друг на друга, его сильные руки сдавят мои плечи. Он улыбнется грустно и тихо скажет:
– Нужно всегда быть готовым умереть, это самое главное.

С.Хентова
«Аврора», 1989, №2.
Неудача никогда меня не обескураживала
Святослав Теофилович Рихтер считает себя одесситом, хотя родился в Житомире – здесь прошло его раннее детство. «В семье царил культ природы. Природе поклонялись, ее обожествляли. До семи-восьми лет я верил в эльфов и русалок. Природа для меня была полна таинственности. Любовь к природе сохранил на всю жизнь»*.
Дедушка будущего пианиста был музыкальным мастером и настройщиком фортепиано. У него было двенадцать детей. Один из них – Теофил, отец Святослава, стал профессиональным музыкантом. Учился в Венской академии музыки, провел в Вене около двадцати лет. В памяти Святослава на всю жизнь сохранилось, как отец «хорошо играл на фортепиано, особенно романтические пьесы – Шумана, Шопена». Мать Святослава – Анна Павловна Москалева – «была художественно одарена, хорошо рисовала, любила театр, музыку. По своему характеру напоминала один из персонажей пьесы Булгакова „Дни Турбиных, Елену Турбину. Вообще, когда смотрел этот спектакль, многое ассоциировалось у меня с детством», – вспоминает Рихтер.
В Житомире и другом украинском городе, в Сумах, маленький Святослав прожил в семье дедушки пять лет, а затем до 1937 года его детство, юность и молодость прошли в Одессе. Здесь он закончил семилетнюю школу, здесь определились его музыкальные пристрастия. В доме Рихтеров часто собирались, чтобы поиграть трио, квартеты. По четвергам домашние музыкальные вечера устраивались в квартире профессора Одесской консерватории Тюнеева. По мнению Рихтера, влияние Тюнеева было скорее дружеским, нежели музыкальным в обычном смысле.
Устроившись органистом в оперу, отец постоянно приводил сына на репетиции и спектакли: «Стоя в оркестре или где-либо поблизости, я проходил в оперном театре школу».
Музыку Святослав стал сочинять раньше, чем научился играть. Мягко, незаметно отец поощрял увлечения сына. Первые фортепианные пьесы Святослава – «Вечер в горах», «Утренние птички», «Сон» записаны рукой Теофила Даниловича. Сочинял мальчик довольно много: жанровые картинки – «Дождик», «Море», «Весна», «Заход солнца», «Праздник», «Индийский замок», «Перед танцами», романсы, вальсы, фокстрот, фортепианные сонаты и даже две оперы – сказку «Тщетное избавление» и «Бэла» (музыка последней писалась на текст Лермонтова).
Святослав Теофилович вспоминал, что он «любил сидеть дома и проигрывать с листа оперы – с начала и до конца». В доме была целая нотная библиотека – свыше ста томов: «Все играл, запоминал, играл без конца... Думаю, что многим обязан этой игре оперной литературы». Любую музыку, никогда раньше не слышанную и сложную, он сразу играл так, словно знал ее давно. Рано проявилась у него эта удивительная способность – охватывать произведение целиком, запоминая его тотчас же, почти что после первого проигрывания.
Для друзей он охотно импровизировал на фортепиано. Находилось время и для прогулок с отцом по любимым одесситами местам – Аркадии, Ланжерону.
Систематического обучения фортепианной игре в детстве и юности у Рихтера практически не было: он не посещал ни музыкальную школу, не имел домашнего учителя музыки. «Хотя отец был превосходный музыкант, я за все время взял у него не более десяти систематических уроков. В остальном был предоставлен самому себе. Правда, часто спрашивал у него о том или ином новом для меня произведении. И получал ценные советы. Я был строптивый, не слушался, все пытался делать сам,– в сущности,' меня никто не учил
Помню, папа говорил: „Как ты играешь? Как держишь руки? Что это такое?" А мама возражала: „Оставь мальчика в покое. Пусть играет, как хочет"».
Не леность сказывалась в таком неприятии учения, нет: инстинктивное стремление охранить свой, еще неокрепший творческий «огонек» от академических догм, влияний, непреодолимая тяга к свободному, ничем не скованному музицированию. В близкое время еще один мощный талант – Василий Павлович Соловьев-Седой – тоже до двадцати двух лет будет импровизировать, погружаться в повседневную музыкальную практику, нигде не обучаясь. А Иван Дзержинский, автор знаменитой оперы «Тихий Дон», открывшей эру песенной оперы, уйдет из консерватории, избрав школой саму жизнь. Самостоятельность была знаменем поколения...
Девятнадцати лет Святослав Рихтер стал концертмейстером Одесского оперного театра. Не ограничиваясь пассивной ролью пианиста-аккомпаниатора, он обычно изучал весь клавир наизусть, присутствовал на всех репетициях, знакомился с планом постановки, оформлением, замыслами дирижера.
В это время некоторые сверстники Рихтера – молодые одесские пианисты Эмиль Гилельс, Яков Зак – стали уже знаменитыми. А Рихтера знали лишь в Одессе. Он дал несколько концертов в клубах, и прошли они без широкого отклика.
В 1937 году Рихтер едет в Москву, к Генриху Густавовичу Нейгаузу, прославленному фортепианному педагогу.
«Должен сказать откровенно, – рассказывал Нейгауз, – что учить Рихтера в общепринятом смысле слова мне было нечему. По отношению к. нему я всегда соблюдал лишь позицию советчика... Однажды я попросил Рихтера подготовить к уроку сонату Листа – произведение исключительно сложное. Через некоторое время он сыграл сонату превосходно. Оставалось только дать ему несколько небольших советов да поспорить о трактовке одного эпизода, который показался мне недостаточно драматичным. На все это ушло минут тридцать-сорок. А обычно со своими учениками я работаю над этой сонатой по три-четыре часа на нескольких уроках.
Хочу думать, что мои занятия помогли Рихтеру, но больше всего он помог себе сам, помогла его страстная любовь к музыке».
Рихтер попал в обстановку творческого соревнования. Приходилось браться за чисто технические задачи. Прежде он не любил и никогда специально не играл фортепианных упражнений. Теперь он научился ради поставленной цели заставлять себя делать и то, что ему не нравилось. Нейгауз был им доволен.
Часто он занимался в доме московской художницы Анны Ивановны Трояновской. Приходил к ней вечером, молча садился за фортепиано, играл. А художница рисовала. С той поры сохранились у Анны Ивановны нарисованные ею портреты молодого Рихтера.
«Даже в 1944 году, когда Славе уже было двадцать девять лет, он еще не имел собственного фортепиано, – рассказывала Анна Ивановна. – Я с радостью предоставила ему свой рояль... Время тогда было военное, зима выдалась морозная и голодная. Прямо посреди моей комнаты топилась печурка-времянка, на которой мы варили на ужин картошку».
Невзгоды и неурядицы послевоенного быта преодолевались природным юмором, общительностью Рихтера. Он словно «оттаивал» в дружелюбной обстановке.
На жизнь Рихтер зарабатывал, аккомпанируя певцам, виолончелистам. Заканчивать консерваторию он не торопился.
Первый сольный концерт Рихтера состоялся в июле 1942 года. Пианист играл сочинения Бетховена, Шуберта, Рахманинова, Прокофьева.
В 1945 году Святослав Рихтер выступил на Всесоюзном конкурсе пианистов-исполнителей и завоевал первую премию. Ему было тридцать лет. Поздно, очень поздно приходила к нему известность. Зато он встретил ее сформировавшимся художником, прошедшим большую жизненную школу. Вкусы его сложились, репертуар был огромен.
Рихтеру повезло. На его пути именно в переломные годы встретился композитор, чья музыка, можно сказать, во многом определила артистическую судьбу пианиста. Это был Сергей Сергеевич Прокофьев.
Как-то Рихтер услышал в исполнении Прокофьева его Шестую сонату. «Ничего в таком роде я никогда не слышал. С варварской смелостью композитор порывает с идеалами романтики и включает в свою музыку сокрушающий пульс двадцатого века... Соната заинтересовала меня и с чисто исполнительской точки зрения; я подумал: поскольку в этом роде я ничего никогда не играл, так вот попробую себя и в таком. Нейгауз одобрил. Уезжая на каникулы в Одессу, я взял с собой ноты... учил ее с большим удовольствием. За лето выучил и играл в концерте...
Прокофьев, улыбаясь, прошел через весь зал и пожал мне руку, В артистической возник разговор: „Может быть, молодой музыкант сыграет мой Пятый концерт, который провалился и не имеет нигде успеха?! Так, может быть, он сыграет, и концерт понравится?!"
Я Пятого концерта не знал, но сразу мне стало интересно.
В феврале 1941 года я уезжал в Одессу и взял с собой Пятый концерт.
Через месяц я вернулся в Москву с готовым концертом. Прокофьев хотел меня послушать. Встреча состоялась у Нейгауза, где 'вдвоем с А.Ведерниковым мы дважды проиграли концерт...
Прокофьев остался доволен...
Я был счастлив. В двадцать два года я решил, что буду пианистом, и вот, в двадцать пять лет, играю сочинение, которое никто, кроме автора, не исполнял».
Написав Седьмую сонату, Прокофьев и ее передал для первого исполнения Рихтеру, который выучил ее за четыре дня. А ведь музыка этой сонаты тогда казалась предельно сложной. Вот как Рихтеру представляется содержание Седьмой сонаты, написанной Прокофьевым в разгар войны – в 1943 году: «Соната бросает вас сразу в тревожную обстановку потерявшего равновесие мира. Царит беспорядок и неизвестность. Человек наблюдает разгул смертоносных сил. Но то, чем он жил, не перестает для него существовать. Он чувствует, любит. Полнота его чувств обращается теперь ко, всем. Он вместе со всеми протестует и остро переживает общее горе. Стремительный и наступательный бег, полный воли к победе, сметает все на своем пути. Он крепнет в борьбе, разрастаясь в гигантскую силу, утверждающую жизнь».
Первое исполнение Седьмой сонаты состоялось в Москве, в Октябрьском зале Дома союзов.
Передав Восьмую сонату для первого исполнения Эмилю Гилельсу, Прокофьев Девятую попросил сыграть Рихтера. В знак благодарности за блестящее исполнение композитор и посвятил Рихтеру эту сонату. Он до сих пор считается ее лучшим истолкователем. Помимо сонаты Рихтер часто играет концерты Прокофьева, особенно удачно – Первый, Пятый, играет переложения для фортепиано отдельных номеров из балета «Золушка», цикл пьес «Мимолетности». Когда в истории музыкального искусства появляется композитор, открывающий новые пути, судьба его творчества в значительной мере зависит от того, встретится ли ему исполнитель, который не только полностью примет его творческие идеи, но и воплотит их на концертной эстраде, донесет до слушателя в живом звучании.
Таким соратником, творческим единомышленником Прокофьева стал Святослав Рихтер.
...Концерты – значит беспрерывные занятия, путешествия, переезды с места на место. Как-то Рихтер подсчитал, что в США за два с половиной месяца гастролей он наездил в поездах и на автомашинах двадцать две тысячи километров.
Требовательность Рихтера к себе удивительна. Зал может восторгаться его игрой, а он после концерта, огорченный, говорит: «Нет, пьеса еще не удается». И, терпеливо дождавшись, пока публика разойдется, усаживается за фортепиано, чтобы поработать еще и еще. «Неудача никогда меня не обескураживала. Я не бросал вещь, если она не получалась так, как мне хотелось. Я продолжал работать над нею и играл ее до тех пор, пока она не получалась».
Создавалось впечатление, что Рихтеру нравится все, что написано для фортепиано. Фортепианную литературу он читал как увлекательную книгу, с лихорадочной поспешностью, во всем находя прелесть, интерес, новизну. Так совершенствовалось мастерство, складывалась способность, характерная для великих артистов, которые даже недостатки превращают в достоинства: лишенный систематической учебы, Рихтер создает свою технику, полностью соответствующую его артистической индивидуальности, технику по-рихтеровски неповторимую, исключительно гибкую.
Слушаешь, как Рихтер играет произведения разных композиторов, и каждый раз кажется, что за фортепиано сидят разные пианисты, настолько все меняется, даже его посадка за инструментом.
Мысли и чувства людей, образы природы, события истории, произведения литературы – неисчерпаемое богатство мира подвластно музыке. Познать и выразить его многообразие, стать истинным артистом-исполнителем может лишь человек больших знаний, высоких душевных достоинств – правдивый, искренний, честный.
Неиссякаема потребность Рихтера в знаниях. Читает он очень внимательно. Любит Пушкина, Гоголя, Достоевского, Шолохова, Хемингуэя. Рихтер и сам пишет оригинально, броско, находя без затруднений меткие сравнения и эпитеты.
Есть у него еще одна страсть – живопись. С тем же упорством, с каким он овладевал фортепиано, Рихтер занимался живописью. Сделав несколько довольно завершенных набросков, он решил обратиться за консультацией к известному московскому художнику Роберту Фальку. Фальк признал у. пианиста талант живописца и охотно дал ему несколько уроков. Вскоре друзья Рихтера организовали маленькую выставку его работ на квартире Нейгауза.
Картины свои Рихтер пока не показывает – считает, что не достиг в живописи должного уровня. «Нужно время, – говорит Святослав Теофилович, – а его у меня нет: музыка забирает все...»
Даже в наш век, когда выдающееся пианистическое мастерство перестало быть редкостью, можно назвать лишь два-три имени, вызывающих всеобщее восхищение и интерес. Рихтера нередко называют пианистом века, чтобы подчеркнуть: он – один из величайших пианистов современности.
Когда играет Рихтер, фортепиано обретает способность человеческой речи: слова простые, но каждое полно смысла глубокого,, сокровенного и открывает нечто очень важное в человеческой душе Вероятно, это и есть тот «подтекст», тот истинный смысл искусства, о котором так много говорили Станиславский, Чехов, Крамской.
Рихтер хочет сделать музыку всем понятной, для всех необходимой, играет не только для подготовленной аудитории, не только в филармонических залах. Он уезжает в маленькие города, играет для неискушенных слушателей, там, где совсем редко или никогда не бывают знаменитые артисты, в рабочих поселках, в сельских клубах. Как чуткий артист Рихтер отвечает стремлению слушателей отойти от гигантомании больших концертных залов: он возвращает исполнительству столь необходимую атмосферу доверительности, непосредственности контакта и душевных откликов, свободного музицирования. Ему хочется объединить, слить воздействие разных видов искусствa. В этом смысл организованных им Декабрьских музыкальных вечеров в Музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. Однажды Рихтер выбрал для своих концертов во французской провинции овин – строение, в котором сушат снопы перед молотьбой. Овин освободили oт сена, поставили рояль; пятисотлетней давности бревенчатые стены создали идеальную акустику. Но мешал шум самолетов: рядом находился военный аэродром. Тогда жители обратились к военному командованию, и оно на время отменило полеты. «Советскому пианисту удалось то, что не удается другим, – говорили французы. – Он заставил силой своего искусства замолчать оружие...»
------------------------------------------------------------
*Все высказывания Святослава Рихтера цитируются по его «Автобиографическим признаниям» («Вопросы теории и истории исполнительства», М., Советский композитор, 1983), статье «О Прокофьеве» (сборник «Прокофьев С.С. Материалы, документы, воспоминания», изд. 2-е. М., Музгиз, 1961), а также по записям бесед автора статьи с Генрихом Нейгаузом.
Л. КАНЕВСКИЙ.
«Музыкальная жизнь», 1989, №16
СВЯТОСЛАВ СТАНОВИТСЯ СВЕТИКОМ
Картинка из жизни середины двадцатого столетия – встреча в маленьком южном городке советского гражданина по имени Святослав Рихтер
с его матерью, которая, как он считал, умерла около двадцати лет назад
История этого очерка – не вполне обычна. Впервые он появился на свет в далеком уже 1962 году, в октябрьской книжке популярного американского журнала «Хай фиделити», который тогда (в отличие от нынешнего времени) немалую часть своих страниц посвящал не только рекламно-коммерческим материалам, но и актуальным проблемам музыкальной жизни. Можно лишь представить себе, с каким волнением любители музыки в США и других странах воспринимали драматичный и трогательный эпизод из жизни советского пианиста, которого уже тогда – за считанные годы признали одним из величайших артистов мира: ведь фигура Рихтера была еще овеяна ореолом особой таинственности – лишь за несколько лет до публикации этого очерка пианисту было наконец разрешено концертировать на Западе...
В ту пору, однако, статья эта не стала достоянием советских читателей. И вот недавно, весной нынешнего года ее автор – известнейший американский критик Пол Мур после длительного перерыва сам побывал в СССР и любезно предложил материал вниманию редакции. Нам показалось, что хотя от описываемых здесь событий нас отделяет почти три десятилетия, очерк Мура не потерял своей увлекательности. Вот почему мы и предлагаем его вниманию читателей «Музыкальной жизни».
Так как знаменитый советский пианист Святослав Рихтер никогда не летает на самолете («Для чего нужно путешествовать на такой сумасшедшей скорости?»), а все поезда, на которых он путешествует из Москвы в западном направлении, обязательно следуют через Берлин, где я живу, то мне довольно часто приходилось встречаться с ним и с его супругой, лирическим сопрано Ниной Дорлиак. Впервые мы увиделись в 1956 году в Праге, поближе познакомились в Москве в 1958 году, и с тех пор находимся в постоянном контакте друг с другом. Обычно наши встречи в Берлине протекают в купе «Московского экспресса», который стоит в Восточном Берлине, на «Остбанхоф», около часа. Там, или стоя на платформе, если это позволяет погода, мы обмениваемся последними новостями об общих знакомых, планами на будущее.
Рихтеры обычно не путешествуют в одиночестве. По установившейся советской практике их, как правило, сопровождает джентльмен, который определяется иным словом на Западе, хотя Рихтеры неизменно называют его своим «секретарем». В отличие от превалирующего на Западе и несколько предвзятого мнения, в такой «эскорт» входит не какой-то заурядный партийный функционер и не громила из КГБ, а человек, занимающий какой-нибудь важный административный пост в советском музыкальном мире. Истинная природа служебных обязанностей секретаря остается туманной, но, вероятно, Министерство культуры, которое столь заботливо опекает своих артистов, словно они – хрупкие статуэтки из Дрезденского фарфора, считает, что если стрессы и шокирующее воздействие чуждой культуры и окружающей среды становятся слишком невыносимыми и дезориентирующими для темперамента артиста, то присматривающий за ним человек из высших эшелонов управления обязательно найдет нужный выход и окажет вовремя помощь
Как мы заранее договорились, я в то утро поехал на «Остбанхоф» повидать чету Рихтеров, которая через Берлин отправлялась в свое первое британское турне. После обычного для русских эмоционального взрыва приветствий мы расселись на плюшевых диванах их просторного купе, самого большого в вагоне. Все пространство было заполнено вазами с цветами, правда уже слегка увядшими, два дня назад провожающие принесли их в Москве к поезду; а на одном из диванов лежала соната Шуберта в советском издании, которую Рихтер штудировал. Их секретарь в этой поездке, Афанасий Пономарев – директор Ленинградской филармонии и давний друг Рихтеров, просунул голову в дверь, чтобы поздороваться со всеми, и, пожав руки, вернулся в свое купе.
Закончив обмен новостями об общих знакомых, Рихтеры вдруг замолчали и стали переглядываться между собой с видом людей, которым явно известен какой-то очень важный секрет, и они все сомневаются: посвятить в него третьего или нет.
«Знаете, мы едем в Англию, – совсем без надобности сказал Рихтер. – Мы там проведем несколько недель, а затем отправимся поездом через Вену в Румынию, где намерены провести отпуск на побережье». Они вновь обменялись улыбками. «Но никто, точнее, почти никто, не знает, что перед отъездом из Москвы мы получили въездную визу в Западную Германию на неделю. Так что после Лондона мы намерены сесть на «Восточный экспресс» в Париже, но сойти в Штутгарте, а затем, – он прямо весь расплылся, – мы проведем несколько дней с моей матерью».
Хотя никто из нас не упомянул об этом, но убежден, все трое прекрасно помнили тот разговор, что состоялся три года назад в Москве, когда я спросил Рихтера, живы ли еще его родители, и Рихтер подчеркнуто спокойно ответил: «Нет, они оба умерли».
Здесь я должен вернуться к причине того, почему же Рихтеры решили посвятить именно меня в свою тайну в это утро на Восточном вокзале. Три года назад, после того, как Рихтер без всяких колебаний сказал, что его родители умерли, мне случилось услышать, в свою очередь, об одной даме из Западного Берлина, которая получила письмо из Западной Германии от некоей фрау Рихтер, называвшей себя «матерью пианиста Святослава Рихтера». В письме содержалась просьба прислать, если только возможно, несколько пластинок Святослава Рихтера. Я осведомился, пытался ли кто-нибудь лично повидаться с фрау Рихтер и выяснил, что один человек пробовал это сделать, но она утверждала, будто является не более чем дальней родственницей пианиста. Я запомнил название этого городка, который находился в районе Штутгарта*.
Несколько месяцев спустя, путешествуя по этим местам, я решил туда заскочить. Раздобыл адрес и увидел бывший особняк, а ныне двухэтажный дом, разделенный на четыре квартиры. Дом стоял перед большим городским парком с превосходно ухоженными газонами, деревьями и цветами, а рядом с домом бежал небольшой ручеек, укрытый зеленью берез...
Позвонив в дверь, я услышал, как прямо над моей головой на мгновение приоткрылось, а затем снова закрылось окно: явно меня кто-то разглядывал. Затем послышался зуммер и я открыл дверь. Посередине внутренней лестницы стоял невысокий пожилой человек в жилетке и в шляпе. Я было начал объяснять, кто я такой, держа в руке американский паспорт на случай, если ему вздумается на него взглянуть. Но вдруг он неожиданно обернулся и взволнованно крикнул кому-то там, наверху: «Анни! Анни! Этот Пол Мур здесь!» Пораженный этим, я вдруг увидел, как из квартиры вышла почтенная седовласая женщина, вытирающая запачканные мукой руки о фартук; ее глаза сияли. Я возобновил свои объяснения, но она тоже перебила меня, с улыбкой сказав: «Проходите, мы знаем, кто вы такой».
Мое недоумение прояснилось, когда она сообщила мне, что родственница, живущая в Америке, прислала ей октябрьский номер «Хай фиделити» за 1958 год, в котором была помещена моя статья о Рихтере, – первая статья о нем, появившаяся на Западе. Его мать сказала: «С тех пор, как мы ее увидели, мы все время молились о встрече с вами. У нас не было никаких контактов со Славой с 1941 года, так что даже возможность повидать кого-то, кто видел его самого, для нас была настоящей сенсацией».
Скромная двухкомнатная квартирка, по сути дела, оказалась музеем Святослава Рихтера. Все стены были покрыты его фотографиями с детства и до зрелых лет. На одной из них он был изображен загримированным под Ференца Листа, роль которого ему довелось однажды сыграть в советском фильме о Михаиле Глинке. Тут же висели цветные акварели домов Рихтеров в Житомире и в Одессе, а также угла в одесском доме, где стояла его кровать. Один из снимков юного Славы в шестнадцатилетнем возрасте доказывает, что в молодости, до того, как стали постепенно исчезать его белокурые волосы, он был поистине поразительно красив. Здесь также имелась фотография Женни Линд – дальней родственницы фрау Рихтер. Хозяйка дома рассказала, что в ее сыне смешана русская, немецкая, польская, шведская и венгерская кровь. Она показала мне рукопись его первых сочинений для фортепиано, написанных в детстве, и расшифровала русские ремарки, сделанные детским почерком на полях.
«Но мы даже не предложили вам что-нибудь выпить!» – воскликнула фрау Рихтер. Она приготовила чай, и мы сели за стол, чтобы поговорить.
...В 1937 году Слава оставил Одессу и отправился в Москву, чтобы заниматься у профессора Генриха Нейгауза, который сегодня признается, что услыхав впервые Рихтера в своем классе, он наклонился к другому ученику и прошептал: «По-моему, это гениальный музыкант». Когда Гитлер напал на Советский Союз, мать Рихтера гостила у сына в Москве, но она сразу же возвратилась к мужу в Одессу. Слава намеревался последовать за ней, но потом они получили от него телеграмму с известием, что он задерживается на некоторое время. «Затем связь наша с ним оборвалась, – сказала мать. – С тех пор и до сегодня это последние слова, которые я получила непосредственно от сына».
Фрау Рихтер тяжело перевела дыхание. «Простите меня, – сказала она, – я страдаю астмой». После молчания, длившегося вероятно минуту, она продолжила: «Отца Славы арестовали вместе с примерно шестью тысячами других одесситов, носивших немецкие фамилии. Таков был приказ, полученный от Берии. Мой муж ничего предосудительного не совершал, ничего. Он был просто музыкантом, я тоже; большинство наших предков и родственников были либо музыкантами, либо артистами, и мы никогда не занимались политической деятельностью. Единственное, в чем его могли обвинить – в давнем 1927 году он давал уроки музыки в Немецком консульстве в Одессе. Но при Сталине и Берии этого было вполне достаточно, чтобы его арестовать и посадить в тюрьму». Глянув в окно, она помедлила, ожидая, когда к ней вернется дыхание: «Потом они его убили».
«Когда войска «оси» дошли до Одессы, то город был оккупирован, в основном, румынами; потом они начали отступать, мы с моим вторым мужем ушли вместе с ними. Увезти с собой многое было невозможно, но я захватила все, что смогла, связанное с воспоминаниями о Славе. Покинув Одессу, мы жили в Румынии, в Венгрии, потом в Польше, а затем в Германии. Мужу предложили место учителя в Штутгарте, но к тому времени, покуда мы туда добрались, тамошнюю Музыкальную академию разбомбили, так что иммиграционные власти послали нас сюда – временно. С тех пор мы здесь и живем. Муж дает уроки музыки». Она жестом указала на небольшое пианино. Обстановка в квартире была скромной, но аккуратной и опрятной. Телефона не было.
Мы поговорили еще немного. Фрау Рихтер в основном пыталась выудить из меня любые, самые незначительные новости о Славе, или, как она иногда называла его, Светике, что в переводе означает «маленький свет». Судя по всему, о некоторых вещах она была вполне информирована, и, когда я высказал это, она улыбнулась и сказала, что родственники шлют им из Америки все, что появляется в тамошней прессе о Славе. Она спросила, когда я снова увижу Славу, но я предложил ей тогда – в 1958 году – передать ему с оказией ее письмо, при первой же возможности.
Письмо фрау Рихтер оказалось маленькой, безобидной запиской, написанной по-немецки (позже я удивился этому, так как узнал, что обычно между собой они разговаривали по-русски); оно не содержало никаких имен или других «наводящих» деталей. Приветствие звучало так: «Mein uber alles Geliebter!» А завершалось все словами «Deine Dich liebende Anna». Она также передала мне три или четыре фотокарточки. На письме не указывался обратный адрес.
Через несколько месяцев я передал это письмо одной женщине – совершенно надежному западному другу, – которой предстояла поездка в Москву, и попросил ее собственноручно опустить письмо в почтовый ящик Рихтера.
В должное время она сообщила мне из Копенгагена, что поручение выполнено. Судя по всему, Рихтер действительно получил это письмо и, таким образом, его контакт с матерью, которая, как он считал, давно умерла, был восстановлен спустя почти двадцать лет. Это произошло в 1959 году, за несколько месяцев до того, как Рихтер совершил свою первую поездку на Запад, в Финляндию.
Первая встреча сына с матерью состоялась осенью 1960 года, когда американские родственники пригласили престарелую чету в Нью-Йорк, где предстоял дебют знаменитого пианиста. Фрау Рихтер отправилась к Юроку: «Мне пришлось так тщательно доказывать свою личность, словно этот Юрок был сотрудником полиции». Но Юрок знал, как нервничает Рихтер, и воссоединение состоялось только после его первого сольного концерта в Нью-Йорке. Это произошло во Флашинге, на Лонг-Айленде, в доме натурализованных американских родственников. По вполне надежным сведениям, сопровождавший Рихтера на сей раз секретарь г-н Белоцерковский спросил его, хотел бы он добиваться реабилитации отца. Рассказывают, что Рихтер с железным самообладанием, ответил: «Как можно реабилитировать невинного человека?»
Перед завершением американского турне Белоцерковский передал фрау Рихтер и ее мужу личное приглашение от министра культуры Фурцевой посетить Москву в качестве ее личных гостей, – приехать на какое-то время или даже, если будет желание, остаться там насовсем, но супруги ответили лишь, что они это обдумают.
И вот два года спустя на железнодорожном вокзале в Восточном Берлине, когда Рихтер с женой взволнованно объявили о своих планах встретиться в Западной Германии с матерью, – я уверен, все мы в ту минуту вспомнили о только что описанных событиях. Во всяком случае, я тут же предложил встретить Рихтеров в Штутгарте по возвращении их из Англии и предоставить в их распоряжение свой автомобиль и себя в качестве шофера, если только я не покажусь слишком назойливым. Рихтер широко улыбнулся, воскликнул по-русски: «Ну, конечно!»
Когда подошло время, я приехал в Штутгарт за ночь до ожидаемого прибытия туда Рихтеров и, предварительно договорившись, провел вечер с Константином Метаксасом, официальным представителем фирмы «Дойче Граммофон», при содействии которого были выпущены впервые на Западе записи Рихтера (сделанные в Варшаве в 1959 году). Г-н Метаксас сам только что прибыл из Лондона и был полон впечатлений о подробностях английского турне Рихтера. Он вообще находился в превосходном расположении духа, так как Рихтер записал там небольшую сольную программу для «Дойче Граммофон», и все прошло очень удачно.
На следующее утро, ни свет ни заря, Метаксас с женой и я отправились на вокзал встречать поезд из Парижа. Супруги прибыли вовремя, везя с собой большой багаж, включавший картонную коробку, в которой, как с усмешкой объяснила Нина Дорлиак, покоился превосходный цилиндр, без которого, как решил Слава, - он просто не может появляться в Лондоне. С такой же дружелюбной насмешкой Рихтер продемонстрировал длинный круглый пакет, завернутый в коричневую бумагу: по его словам это был торшер, который Нина была намерена тащить с собой из Лондона до Москвы через Париж, Штутгарт, Вену и Бухарест. Приветствуя всех нас вслед за Рихтерами, Пономарев занялся подсчетом багажа, причем его лицо становилось все более озабоченным, и он ворчал что-то по-русски. Наконец повернулся к Нине в ужасе и сообщил, что одно место багажа пропало. Это услышал Рихтер, но тут же вновь беззаботно повернулся к нам и продолжал, не теряя улыбки на лице, разговор; пришлось Нине самой заняться пропажей и установить, что именно исчезло в пути.
«Конечно, – сказала она, поддаваясь на мгновенье раздражению, – я точно помню, где Вы это оставили».
«Я оставил?» – переспросил Рихтер, и его глаза расширились от негодования.
«Ничего, – сказала Нина успокаивающе. – Можно послать телеграмму».
Не без труда мы вшестером разместились со всем багажом в мерседесе Метаксаса и моем ситроене. Рихтер предпочел ехать со мной, поскольку, как я к своему удивлению, услышал, у него тоже есть в Москве ситроен, и он хотел со мной обменяться впечатлениями об этой машине. «Мне прислала его фирма «Пате-Маркони», – небрежно сказал он. – Они хотели выпустить пластинку с трансляционной записью моего сольного концерта и поинтересовались, что я хотел бы получить в виде «авторского гонорара». Я ответил: «Ситроен ДС-19».
За окном мелькал пышный сельский пейзаж Южной Германии, и беззаботность Рихтера меня крайне интриговала. Большинство людей, считающих себя связанными кровными узами с Германией, обычно по сему случаю начинают говорить о чем-то возвышенном, о «die Heimat», о родной почве, и так далее. Однако, вот рядом со мной сидит человек по фамилии Рихтер, который впервые (если не считать транзитные проезды) в Германии; мило болтает и бросает небрежные взгляды на пролетающий за окном пейзаж, словно он в этой стране турист – не больше. Я понял, что бессознательно ожидал от него поведения обычного «Heimkerer», то есть человека, приехавшего к себе домой, на родину, но он был совершенно иным: он был советским гражданином, просто посетителем здесь, не больше. В какой-то момент он действительно погрузился в молчание, но это не говорило о заметной смене настроения. Понаблюдав минуту-другую пейзаж, он положил руку мне на плечо, улыбнулся, и, вместо объяснения, сказал четыре слова, которые мне предстояло слышать неоднократно в течение пяти последующих дней: «Так много новых впечатлений».
В дороге мы говорили о музыке только один раз, когда была затронута тема додекафонии. Рихтер сказал, что он восхищается Шёнбергом, в меньшей степени Веберном, а поствебернистов вовсе не знает. (Минувшим летом, в июне, когда «Лулу» Берга была поставлена в венском театре «Ан дер Вин», Рихтер был там, сидел в первом ряду на премьере и хлопал добрых полчаса после того, как занавес опустился.) Он поразил меня, сообщив, что сыграл в Москве фортепианный квартет Аарона Коплэнда. «Очень интересный композитор, – заметил он. – Надеюсь также выучить его Фантазию для фортепиано». На вопрос о Стравинском, он сказал: «Понимаю, что это – настоящий позор, но я еще не разучил ни одной его пьесы».
...Где-то по дороге машина Метаксаса сделала неверный поворот, и в результате мы с Рихтером приехали к месту назначения на добрых четверть часа раньше других. У меня, конечно, не было никакого намерения вторгаться в дом в момент воссоединения его с матерью. Но даже в эти минуты он, казалось, испытывал угрызения из-за того, что вынужден был оставить меня одного; все его поведение было извиняющимся и слегка нервным, когда он, выбравшись из машины, неуверенной походкой зашагал к дому. Сосед, копавшийся в это время на своей клумбе, без особого интереса взглянул на проходящего мимо Рихтера.
Примерно минут через десять окошко в квартире распахнулось и Рихтер, высунув голову, позвал меня подняться наверх... Лицо матери Славы выглядело преображенным, даже просветленным, выражало чувства матери, дождавшейся, наконец, возвращения блудного сына. И хотя она видела меня всего второй раз в жизни, но обняла с истинно русской теплотой.
Фрау Рихтер провела сына по квартире и показала ему те картины, которые ей удалось спасти из их старого гнезда в Одессе. Рихтер рассеянным взглядом рассматривал карандашный рисунок своего старого дома в Житомире и другого, в Одессе. Когда мать принесла рукописи его первых фортепианных пьес, он впился в них взглядом, а пальцы правой руки играли их в воздухе; он покачивал головой под напором охвативших его далеких воспоминаний. В эту минуту пискнула какая-то домашняя птичка на кухне. Рихтер прямо подскочил на месте и словно выкатился из комнаты, воскликнув: «Я хочу посмотреть на птичку!». Складывалось впечатление, что он старался вобрать в себя, ассимилировать всю атмосферу, царящую в доме матери, и сделать это быстро, одним мощным чувствительным порывом.
Мягко, со всепрощающей улыбкой фрау Рихтер сказала: «Он счастлив, словно мальчишка».
Но вот приехал, наконец, автомобиль Метаксасов, и жена Рихтера припала к материнской груди с прочувственной, сердечной русской нежностью.
Хозяйка дома требовала, чтобы все непременно остались на обед, но мы, трое непрошенных гостей, покинули их и отправились в свой отель, где и оставались в дальнейшем, за исключением тех моментов, когда в нас возникала нужда. Через пару дней Пономарев и чета Метаксасов уехали, прибыл Жак Лейзер, представитель британской «И-Эм-Ай» в Париже. Он устроил нам билеты на «Тангейзера» на Байрейтском фестивале, и мы отвезли Нину, Славу и его мать туда на один вечер. Пока мы там гуляли во время традиционно продолжительных в Байрейте антрактов, единственным человеком, узнавшим Рихтера, оказался какой-то чешский музыкальный функционер, познакомившийся с ним в Праге.
После того, как окончательно опустился занавес. Рихтер вместе с Лейзером попытались проникнуть за сцену, чтобы поблагодарить Виланда Вагнера, но упрямый швейцар-баварец пресек все их попытки с устрашающей решимостью. Я засыпал в эту ночь, размышляя о том, к каким изысканным выражениям прибегнет Виланд Вагнер, когда узнает, кого не пустил за сцену его верный швейцар.
На следующий день Лейзер отправился в Зальцбург, а я отвез семью Рихтеров домой, где им предстояло провести последний вечер вместе. Обратное путешествие из Байрейта протекало неторопливо, и не могло сравниться с поездкой туда, которую русское представление о времени превратило в какой-то поспешный и лихорадочный пробег. Вновь мне было любопытно увидеть, будет ли Рихтер в пути испытывать те псевдоатавистические приступы относительно «die Heimat», которым подвержены многие выходцы из Германии. И снова он не проявлял ни малейших признаков того, что отождествляет себя с этой землей, с этим народом. Мы обедали на открытой террасе, возвышавшейся над древними строениями «Бурга» в Нюрнберге, а после полудня остановились в очаровательном древнем городке Ротенбург-об-дер-Таубер; обе эти достопримечательности рассчитаны на пробуждение у любого путешественника скрытых в нем душевных вибраций от соприкосновения с «немецкой романтикой», но для Рихтера они оказались не более чем парой из «столь многих новых впечатлений». Он, как и я, был здесь просто очередным иностранцем, любующимся видами этой причудливой старинной Германии.
Само собой разумеется, время летело. В те дни, когда Рихтер гостил у матери, он, казалось, разделял свое время между общением с ней и долгими ознакомительными прогулками по небольшому городку. Он казался человеком, нуждающимся в определенной дозе одиночества, и, когда такие моменты наступали, то просто исчезал. Время от времени я видел Нину, погруженной в свежую газету, но Рихтер, несмотря на высокую напряженность, царившую в различных политических сферах на той неделе, казалось, был абсолютно безразличен к новостям из внешнего мира, и насколько я мог судить, он так ни разу и не присел за фортепиано заниматься. Это лишний раз подтверждало сказанное им однажды в разговоре со мной – что он занимается только тогда, когда испытывает в этом внутреннюю потребность, а иногда по несколько месяцев вовсе не прикасается к инструменту.
За исключением поездки в Байрейт, я видел Рихтеров большей частью за столом либо когда фрау Рихтер приглашала нас к себе и угощала настоящей русской едой, или когда кто-нибудь из нас приглашал всех в местный ресторан. И в том, и в другом случае Рихтер предпочитал не появляться вовсе, когда бы наша группа ни встречалась, а все расспросы неизменно вызывали один ответ: он просто отправлялся погулять. Обычно он возвращался некоторое время спустя из своих путешествий в новом лондонском наряде (его любимый костюм состоял из голубого замшевого пиджака, вязаной спортивной рубашки, голубых спортивных брюк и голубых сандалий) и подробно описывал нам те новые уголки города, которые ему удалось открыть. «Так много новых впечатлений», – заканчивал он с удовлетворением.
Даже до приезда Рихтера, для обитателей этого маленького городка перестало быть тайной, что у пожилой дамы в доме возле ручья есть сын, который считается очень важной персоной в Москве. Когда в 1961 году Рихтер был удостоен Ленинской премии, весть об этом распространилась по всему городку, и в результате его мать стала мишенью безосновательных и грубых обвинений из-за «сына-коммуниста». Во время визита сюда Рихтеров, вполне естественно, весь город узнал, что какая-то пара из Москвы остановилась в отеле, – ведь они должны были заполнить регистрационные анкеты, указать свою национальность, номера паспортов и т. д. – но за все время их пребывания там, никто в городе, кроме наиболее близких друзей его матери, не проявил абсолютно никакого интереса к их присутствию, не выразил даже легкой в связи с этим озабоченности.
Эти друзья сами время от времени заходили в дом, чтобы пожать руку Славе или Нине, и сказать «добро пожаловать», а дважды их приглашали в гости всех вместе. В первый раз это была послеобеденная встреча в небольшом саду, в окружении цветов и овощей, неподалеку от их дома. Когда мы туда приехали, там уже была приятельница фрау Рихтер, какая-то латышская женщина, тоже беженка. Сняв с себя туфли и чулки и надев какое-то потрепанное платье, она работала прямо-таки в поте лица мотыгой, которую отбросила в сторону, когда мы появились. Она выглядела так, словно сама только что выросла из земли. Фрау Рихтер, вероятно, была несколько смущена такой приземленностью первого впечатления, поскольку, представив нас, она прошептала: «Это очень культурная дама, она прежде была весьма состоятельной...» Когда немногие приглашенные гости прибыли, чай был накрыт на столе, под открытым небом.
Вторая встреча – единственная более или менее представительная – была назначена на вечер после возвращения из Байрейта. Все самые близкие друзья дома и их старшие дети получили приглашение на вечер с пивом и колбасой. Когда мы вернулись после путешествия, длившегося весь день, гости собрались в дворике и, казалось, были слегка озабочены чем-то. Как выяснилось, приехали два человека из посольства.
Мы посмотрели в ту сторону, откуда двое благообразных и хорошо одетых мужчин шли нам навстречу из советского автомобиля, который я определил как «Волгу». Когда они разговаривали с Ниной и Святославом, один из Друзей фрау Рихтер тихо шепнул мне: «Они еще вчера приехали из Бонна, из посольства, казалось, были ужасно удивлены, не обнаружив здесь ни Славы, ни Нины. Переночевав в Бад-Каннштадте после примерно трехчасовой беседы, они вернулись сегодня и с тех пор ожидают».
Местные жители с любопытством разглядывали двух визитеров (третий, шофер, остался в «Волге»), словно они свалились сюда с Марса, но выражение лиц зрителей ясно показывало, что никто из них не мог разобрать, о чем идет разговор по-русски. Сами посетители, выглядевшие достаточно представительно и, казалось, совершенно не замечавшие пожиравшую их глазами толпу, сказали, что хотели только поговорить с Рихтером и его женой всего несколько минут. Когда Рихтер ответил, что вначале он хотел бы отправиться к себе в отель, чтобы привести себя в порядок и переодеться, один из них вежливо предложил ему «Волгу» с шофером. Но Рихтер с такой же вежливостью отклонил предложение и сказал, что они доедут с нами. Рихтеры и я проехали небольшую дистанцию до отеля в полном молчании. Когда, наконец, я спросил, ожидали ли они этого визита, они лаконично ответили: «Нет».
Несколько минут спустя мы поехали обратно, опять в полном молчании. Гости уже вошли в дом, а русские посетители ожидали нас на скамейке в парке напротив. Выйдя из машины, Нина сказала мне: «Вы отправляйтесь в дом. Мы придем, как только поговорим с этими двумя господами».
Когда я поднялся в квартиру, фрау Рихтер казалась вполне спокойной. «На вид они вполне приятные люди, – приговаривала она, готовя что-то на кухне. – Светик с Ниной должны были бы пригласить их в дом».
Всего несколько минут спустя Рихтеры вернулись и с ними никого не было. Наступившая тишина помогла мне осознать, что до этого момента все говорили на каких-то напряженных полутонах. Нина, вероятно, почувствовала, что все ждали ее рассказа о случившемся, и хотя она старалась говорить небрежно и вполне естественно, все напряженно вслушивались. «Ужасно было мило с их стороны, – сказала она. – Там, в посольстве, узнали, что Пономарев мог остаться здесь только одну ночь, и не сможет оказать нам помощь при отъезде. Они проделали весь этот неблизкий путь из Бонна сюда только чтобы осведомиться, не нуждаемся ли мы в чем-нибудь, не могут ли они оказать нам посильную помощь. Мы сказали им, что все в порядке, – билеты на поезд есть, тапочки уложены и т. д., и теперь они уже на пути в Бонн. Это действительно очень заботливо со стороны нашего посольства».
Молчавшие гости облегченно вздохнули, и тишина вскоре снова уступила место оживленной беседе. Кто-то спросил Рихтера, понравилась ли ему постановка «Тангейзера» в Байрейте. В той же манере, как и не раз потом на протяжении всего вечера, он, помедлив секунду, ответил: «Да, в целом да».
Собралось человек пятнадцать-двадцать. Там был домашний доктор с женой, а также одна из ближайших подруг фрау Рихтер, вдова владельца кондитерской лавки, которая привела с собой двух сыновей; один из них брал уроки музыки у мужа фрау Рихтер. Была здесь и та латышская дама, на этот раз в прекрасных туфлях, опрятно одетая. Многие из присутствовавших говорили на немецком, сильно окрашенном местным швабским диалектом.
Они не были утонченными людьми, и им никогда не пришла бы в голову мысль просить артиста такого ранга, как Рихтер, прервать этот приятный вечер отдыха, чтобы сыграть что-то гостям, пусть даже на лучшем концертном фортепиано. Это были простые люди, без комплексов, обычные обитатели маленького городка, большинство из которых обладали либо небольшой музыкальной культурой, либо не имели ее вовсе. Но всех их зримо распирало желание услышать Святослава Рихтера прямо здесь, на скромном пианино. Вопрос заключался лишь в том, кто же осмелится попросить его об этом.
Наконец, я увидел, как одна из присутствующих женщин подзывает к себе своего подростка-сына и что-то шепчет ему на ухо. Он, казалось, неуверенно протестовал, но мать была тверда. Юноша решительно подошел к Рихтеру, заикаясь, пробормотал, что берет уроки музыки у профессора, и попросил Рихтера сыграть какую-нибудь коротенькую вещицу, любую, на его вкус, для собравшихся.
Каждому пианисту известно, что за пытка добиваться хорошего исполнения на любом инструменте, который уступает действительно чуткому концертному роялю; добавьте еще репутацию Рихтера как человека бескомпромиссного. Но он не колебался ни одной секунды, сразу ответив на такую беспардонную просьбу. Встал со своего места, улыбнулся всем присутствовавшим, но особо своей матери, и сказал: «Aber naturlich!» (Ну конечно!).
Он начал первую часть бетховенской сонаты ре-минор, опус 31, №2 и мне не терпелось узнать, сыграет ли он все сочинение. Он сделал это. Когда он кончил, то последовали такие аплодисменты, которые обычно слышатся от людей, отдающих себе отчет в том, что они хлопают в маленькой комнатке, в непосредственной близости от исполнителя. Никто не посмел бы просить Рихтера исполнить что-нибудь еще, да никто более в этом и не нуждался. Когда же возбуждение улеглось, сменившись убежденностью, что он будет играть еще, Рихтер, сделав крутой поворот, вдруг разом, резко перешел к «Балладе» Шопена ля-бемоль мажор, за которой последовало «Скерцо» до-диез минор. Он завершил исполнение музыкой Дебюсси – его «Парусами» и «Островом радости», от которого даже на этом небольшом фортепиано по коже поползли мурашки. Это было удивительное чувство – сидеть у конца клавиатуры в то время, когда он играл. Он стал в буквальном смысле слова одержимым. Его глаза закатились, дыхание стало тяжелым, и он, казалось, совершенно забылся в каком-то самогипнозе, забыл обо всем на свете кроме музыки и стоящего перед ним инструмента... В течение всего этого сольного концерта его мать находилась в соседней комнате, с легчайшей из улыбок на лице, сидя рядом с Ниной, которая держала ее за руку, улыбаясь и слушая.
По стандартам небольшого городка уже было достаточно поздно, когда Рихтер кончил играть, и после диктуемого приличиями небольшого перерыва люди постепенно начали расходиться. По выражению их лиц в момент, когда они прощались с Рихтером, становилось очевидно, что он для них был чем-то почти немыслимым, но я спрашивал себя, действительно ли они до конца осознавали, кто же он на самом деле. Трудно было судить об этом, глядя в ту минуту на него самого. Ответ на мои размышления дал один из гостей, крепкого телосложения человек с солидными манерами. «Герр Рихтер, – сказал он, сжимая обеими руками громадную руку пианиста, – герр Рихтер, я знаком с одним из концертных импрессарио в Штутгарте, не близко, конечно, но все же я его знаю. В любое время, когда вы сможете вернуться сюда, вам стоит только дать мне знать, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедить его организовать ваш концерт, чтобы вы смогли сыграть в Штутгарте». Рихтер сердечно поблагодарил его и дружески похлопал по руке.
На следующее утро – последнее утро этого визита – Нина в одиночестве отправилась по магазинам, а Рихтер попросил меня помочь ему сделать собственные покупки. На нем были кожаные шорты, приобретенные несколько дней назад, спортивная рубашка с короткими рукавами и голубые сандалии, купленные в Лондоне; он выглядел молодо, даже почти по-мальчишески, был похож на кого угодно в мире, только не на великого пианиста. Мы тщетно пытались приобрести какие-то запчасти для ситроена, которые Нюрнберг сюда не доставил, но зато нам удалось купить двадцать маленьких внутренних замочков для ящиков шкафа. «Для моего кабинетного шкафа, который делают в Москве, – пояснил он. – Я сам сделал эскиз. У меня никогда в жизни не было шкафа с достаточным числом выдвижных ящиков». Мы также купили, а точнее заказали громадное количество вязкой тяжелой светло-зеленой краски для полов строившейся подмосковной дачи. (Нина позже призналась мне: «На нее уходят все наши деньги – концерты, граммофонные записи, Ленинская премия, все на свете...»). Когда продавец сказал, что потребуется несколько дней, чтобы ее получить, Рихтер заплатил по счету и сказал: «Ладно, мама перешлет мне ее». Затем мы, подхватив нарисованную им пастелью картину, которую он привез в подарок матери из Москвы, отправились в местную мастерскую, чтобы сделать для нее рамку. Это был какой-то городской пейзаж, хотя непонятно, какого именно города. «Это небольшой уголок Москвы, который я особенно люблю, – сказал он. – Конечно, он не совсем таков в натуре, я рисовал его по памяти, но я себе таким его мысленно представляю». Очевидно, ему очень приятно было думать об этом. Тщательно нюансированные краски заставили меня вспомнить полотна Сислея.
Хотя у нас почти не оставалось времени, он все же захотел во что бы то ни стало купить цветов для тех пятерых женщин, которые накануне побывали в доме его матери в гостях. В том магазине, куда нас послали, оказался необычайно богатый выбор, и Рихтер, хотя уже было поздно, не жалел времени для обдумывания решения. Он действовал по такому методу: восстанавливал в памяти образ каждой из женщин в отдельности, концентрируя все свое внимание на ней, на том впечатлении, которое она произвела на него, а затем совершал соответствующую покупку. В конечном итоге он был удовлетворен своими покупками – цветы полностью заполнили громадную картонку размером чуть ли не в гроб. А особое удовольствие, судя по всему, ему доставляло одно, пойманное им вдохновение: для той латышской женщины, которую он впервые увидел босой, работавшей в поте лица, он купил ветку нежных орхидей. Когда мы вернулись домой, с превеликим трудом удалось убедить его, что не остается времени, чтобы самому, лично, преподнести букеты. Он абсолютно серьезно попросил мать объяснить дамам, что такое нарушение этикета произошло с его стороны отнюдь не намеренно.
После последнего семейного обеда Рихтеры поехали в отель, где я их ждал, вызвав такси для багажа. Вначале мы заполнили весь багажник, а затем и все пространство автомобиля почти до потолка. Сами же мы впятером уселись в мою машину и поехали впереди такси, причем муж фрау Рихтер нервно посмеивался и болтал без умолку всю дорогу. Вдруг он неожиданно спросил: «Светик, в твоем паспорте все еще значится, что ты немец?» Мне была известна советская практика указывать этническое происхождение каждого гражданина (например – «еврей»), но мне никогда и в голову не приходило, что подобным образом идентифицируются и выходцы из Западной Европы.
Рихтер немного настороженно, словно не зная к чему тот клонит, ответил: «Да-а».
«О, это хорошо! – рассмеялся довольный старик. – Это очень хорошо! Но в следующий раз, когда ты приедешь в Германию, у тебя должно быть непременно немецкое имя, – к примеру Хельмут, или что-нибудь в этом роде».
Рихтер снисходительно улыбнулся, но, обменявшись втихомолку взглядами с женой, решительно произнес: «Имя Святослав вполне меня устраивает». В эту минуту я подумал о словах известного советского музыканта, который за несколько лет до этого сказал мне: «Не обманывайтесь на сей счет, Слава Рихтер – насквозь русский человек, насквозь. Он не мог бы жить вдали от России, как и Борис Пастернак». Вспомнился мне и ответ фрау Рихтер, когда пару дней назад я спросил ее, есть ли у нее какое-то предчувствие, что возможно, ее сын в один прекрасный день не вернется в Москву из заграничной поездки. Она ответила: «Нет, никогда», а потом добавила: «И мне кажется, что он прав. Музыкантов гораздо больше чтут и ценят там, нежели здесь».
По прибытии на железнодорожный вокзал в Штутгарте произошла краткая русская вспышка, когда Нина вдруг обнаружила, что оставила свою бесценную записную книжку в ящике стола в отеле. Рихтер тут же начал, распаляясь, составлять «каталог» всех вещей, которые Нина ухитрилась потерять во время всех их совместных путешествий. Но постепенно он отошел.
Водитель такси отправился за носильщиками, а мы пошли в привокзальный ресторан. Официантка была груба с нами, что дало нам возможность пошутить по этому поводу и немного скрасить наше настроение, становившееся все более элегическим перед разлукой. Фрау Рихтер пыталась внушить сыну, как важно для нее получать от него весточки. Но я сомневался в эффективности ее просьб: Нина как-то сказала мне со смехом, что за все эти годы, что они знают друг друга, Слава посылал ей множество телеграмм, но никогда не писал ни одного письма, даже открытки.
У Рихтера были твердые планы гастролей во Франции, Италии и Австрии, но все это – в довольно отдаленном будущем. А у матери больное сердце, к тому же еще и астма, в таком состоянии все планы на будущее – лишь цель, на достижение которой можно надеяться, но не реально рассчитывать. (Рихтер больше не виделся с матерью после того полудня. Когда состоялся его венский дебют в июне этого года, мать вынуждена была оставаться в больнице после очередного инфаркта.)
Наконец нам принесли заказанные пирожные и чай, но Рихтер вдруг утратил интерес к своей порции, внезапно встал и заявил, что хочет прогуляться в последний раз перед поездом. Даже в такой момент для него было немыслимо оставаться в обществе больше нескольких минут. Его супруга взяла на себя всю тяжесть застольных разговоров, но делала это без особого энтузиазма. Мать пыталась не терять улыбки, но продолжать разговор было уже выше ее сил.
Когда Рихтер вернулся с прогулки, подоспело время отправляться на платформу. Таксист уже погрузил весь багаж в купе. Рихтер с женой поднялись в вагон и появились у открытого окна своего купе. Я попрощался с ними и отошел на несколько метров в сторону, к шоферу такси, оставляя Рихтеров наедине. Но когда поезд тронулся, они больше не могли разговаривать, я подбежал к ним. Мы все дружно махали руками и посылали воздушные поцелуи. Фрау Рихтер, печально улыбаясь, прошептала, как бы про себя: «Ну вот, кончился мой сон».
Когда поезд медленно начал выползать со станции, по лицу Нины можно было догадаться, что с ней что-то стряслось. На мгновение она исчезла, затем голова ее появилась в окне опять, она сложила руки в рупор и неистово закричала – достаточно громко, чтобы мы могли еще разобрать ее слова: «Слава забыл свой цилиндр в отеле».
После прощания с сыном, мать, выйдя на улицу, села в такси, и шофер занял место за рулем. Через открытое окно она сказала: «Завтра нужно сходить в отель и взять там шляпу Светика и записную книжку Нины, чтобы отослать это им». На ее лице блуждала какая-то неопределенная, но уже несколько менее печальная улыбка. «И, кроме того, нужно позаботиться еще об этой зеленой краске для его дачи». Это, казалось, весьма ее ободрило. Фрау Рихтер натянула кружевные перчатки, и машина тронулась...
Перевел с английского Л. КАНЕВСКИЙ
Софья Михайловна Хентова.
Из книги “Любимая музыка”. Изд. “Музична Украина”, Киев, 1989.
Святослав Рихтер
Святослав Рихтер — одессит, хотя родился он в Житомире, где прошло его раннее детство, о котором он рассказывает с добрым чувством: «Раннее детство в Житомире — лучшее время. Оно овеяно сказками, поэзией. Была близость к природе, общение с ней; родные были лесоводами... В семье царил культ природы. Природе поклонялись, ее обожествляли. До семи-восьми лет я верил в эльфов и русалок. Природа для меня была полна таинственности. За каждым ее проявлением я усматривал духов; жил в мире сказок... Все это дало мне много, очень много. Любовь к природе сохранил на всю жизнь».
Дедушка будущего пианиста был музыкальным мастером и настройщиком фортепиано. У него было двенадцать детей. Один из них Теофил стал профессиональным музыкантом, учился в Венской академии музыки, провел в Вене около двадцати лет. В памяти Святослава на всю жизнь сохранилось, как отец «хорошо играл на фортепиано, особенно романтические пьесы — Шумана, Шопена. В молодости, как пианист, давал концерты. Но панически боялся эстрады и из-за этого так и не стал концертирующим пианистом. Превосходно владел органом, часто на нем импровизировал. Его импровизации приходили слушать многие...»
Мать Святослава — Анна Павловна Москалева «была художественно одарена, хорошо рисовала, любила театр, музыку. По своему характеру напоминала один из персонажей пьесы Булгакова «Дни Турбиных» — Елену Турбину. Вообще, когда смотрел этот спектакль, многое ассоциировалось у меня с детством»,— так вспоминал Рихтер.
В Житомире и другом украинском городе — Сумы маленький Святослав прожил в семье дедушки пять лет, а затем до 1937 года его детство, юность и молодость прошли в Одессе. Здесь он закончил семилетнюю школу, начались его музыкальные увлечения. В доме Рихтеров часто собирались, чтобы поиграть трио, квартеты. По четвергам домашние музыкальные вечера устраивались в квартире профессора Одесской консерватории Б. Тюнеева. Как считал Рихтер, со стороны Тюнеева «было скорее дружеское влияние, чем музыкальное воспитание в обычном смысле. Человек он был интересный, широкообразованный, едкий на критические замечания...»
Устроившись органистом в оперу, отец постоянно приводил сына на репетиции и спектакли: «Стоя в оркестре или где-либо поблизости, я проходил в оперном театре школу».
Музыку Святослав стал сочинять раньше, чем научился играть. Мягко, незаметно отец поощрял увлечения сына. Первые фортепианные пьесы Святослава — «Вечер в горах», «Утренние птички», «Сон» записаны рукой Теофила Даниловича. Сочинял мальчик довольно много: жанровые картинки — «Дождик», «Море», «Весна», «Заход солнца», «Праздник», «Индийский замок», «Перед танцами», романсы, вальсы, фокстрот, фортепианные сонаты и даже две оперы — сказку «Тщетное избавление» и «Бэла», причем либретто отсутствовало и писалась музыка на текст М. Ю. Лермонтова.
Повествуя о своем детстве, Святослав Теофилович подчеркивает: «Я любил сидеть дома и проигрывать с листа оперы — с начала и до конца». В доме была целая нотная библиотека — свыше 100 томов: «Все играл, запоминал, играл без конца... Думаю, что многим обязан этой игре оперной литературы». Любую музыку, никогда раньше не слышанную и сложную, он сразу играл так, словно знал ее давно. Рано проявилась у него эта удивительная способность — охватывать произведение целиком, запоминая его тотчас же, почти что после первого проигрывания.
Для друзей он охотно импровизировал на фортепиано, поражая их своеобразием и смелостью фантазии. Находилось время и для прогулок с отцом по одесским окрестностям — Аркадии, Ланжерону. Вспоминая их, Рихтер, говорил, что «с самых ранних лет любил действие».
Систематического обучения фортепианной игре в детстве и юности фактически не было: он не посещал музыкальную школу, не имел домашнего учителя музыки. «Хотя отец был превосходный музыкант, я за все время взял у него не более десяти систематических уроков. В остальном был предоставлен самому себе. Правда, часто спрашивал его о том или ином новом для меня произведении. И получал ценные советы.
Я был строптивый, не слушался, все пытался делать сам,— в сущности меня никто не учил.
Помню, папа говорил: «Как ты играешь? Как держишь руки? Что это такое?». А мама возражала: «Оставь мальчика в покое. Пусть играет как хочет».
Девятнадцати лет Святослав Рихтер стал концертмейстером Одесского оперного театра. Не ограничиваясь пассивной ролью пианиста-аккомпаниатора, он обычно изучал весь клавир наизусть, присутствовал на всех репетициях, знакомился с планом постановки, оформлением, замыслами дирижера. Изумительная память Рихтера удерживала сотни страниц музыки.
В это время некоторые сверстники Рихтера — молодые одесские пианисты Эмиль Гилельс, Яков Зак стали уже знаменитыми. А Рихтера знали лишь в родном городе. Он дал несколько концертов в клубах, без широкого отклика.
В 1937 году было решено: Святослав поедет в Москву, к Нейгаузу.
О первой встрече с Рихтером Генрих Густавович Нейгауз вспоминал так: «Студенты попросили послушать молодого человека из Одессы, который хотел бы поступить в консерваторию в мой класс.
- Он уже окончил музыкальную школу? — спросил я.
- Нет, он нигде не учился.
Признаюсь, ответ этот несколько озадачивал. Человек, не получивший музыкального образования, собирался поступать в консерваторию!.. Интересно было посмотреть на смельчака.
И вот он пришел. Высокий, худощавый юноша, светловолосый, синеглазый, с живым, удивительно привлекательным лицом. Он сел за рояль, положил на клавиши большие, мягкие, нервные руки и заиграл.
Играл он очень сдержанно, я бы сказал, даже подчеркнуто просто и строго. Его исполнение сразу захватило меня каким-то удивительным проникновением в музыку. Я шепнул своей ученице: «По-моему, он гениальный музыкант».
После Двадцать восьмой сонаты Бетховена юноша сыграл несколько своих сочинений, читал с листа. И всем присутствующим хотелось, чтобы он играл еще и еще...
С этого дня Святослав Рихтер стал моим учеником».
Нейгауз ориентировал Рихтера на исполнительство, и Рихтер всецело поверил ему. Не избалованный в юности признанием и участием, он потянулся к педагогу-художнику, оказавшемуся именно тем учителем, какой единственно и мог подойти Рихтеру,— разносторонне одаренным, ненавязчивым, умевшим ждать и верить, бережно, чутко направляя усилия ученика, пробуждая в нем желание играть на эстраде, вкус к артистической деятельности и связанное с этим стремление к законченности, совершенству игры.
Как же занимался Нейгауз со Святославом Рихтером?
«Должен сказать откровенно,— рассказывал Генрих Густавович,— что учить Рихтера в общепринятом смысле слова мне было нечему. По отношению к нему я всегда соблюдал лишь позицию советчика... Однажды я попросил Рихтера подготовить к уроку сонату Листа — произведение исключительно сложное. Через некоторое время он сыграл сонату и сыграл превосходно. Оставалось только дать ему несколько небольших советов да поспорить о трактовке одного эпизода, который показался мне недостаточно драматичным. На все это ушло минут тридцать — сорок. А обычно со своими учениками я работаю над этой сонатой по три — четыре часа на нескольких уроках.
Хочу думать, что мои занятия помогли Рихтеру, но больше всего он помог себе сам, помогла его страстная любовь к музыке».
«Гениальный музыкант!» — это мнение Нейгауза скоро стало известным в консерватории, блиставшей тогда первоклассными пианистами.
Рихтер попал в обстановку творческого соревнования. Приходилось браться за чисто технические задачи. Прежде Рихтер не любил и никогда специально не играл фортепианных упражнений. Гораздо интересней было разучивать новые сочинения или проигрывать вместе с друзьями оперы, симфонии, квартеты. Однако Рихтер умел теперь ради поставленной цели заставить себя делать и то, что ему не нравилось. Нейгауз был им доволен.
Шла война. Жилось очень трудно. Рихтер ютился у товарищей, занимался ночами. Он поражал редкой способностью работать в любой обстановке. Стоило ему прикоснуться к инструменту, как он забывал обо всем на свете и мог играть по восемь-десять часов ежедневно.
Часто он занимался в доме московской художницы Анны Ивановны Трояновской. Приходил к ней вечером, молча садился за фортепиано, играл. А художница рисовала. С той поры сохранились у Анны Ивановны нарисованные ею портреты молодого Рихтера.
«Даже в 1944 году, когда Славе уже было двадцать девять лет, он еще не имел собственного фортепиано,— рассказывает Анна Ивановна.— Я с радостью предоставила ему свой рояль...»
По-прежнему Рихтер зарабатывал на жизнь, аккомпанируя певцам, виолончелистам. Заканчивать юнсерваторию не торопился. Не считаясь со временем, работал в кружке ознакомления с музыкальной литературой, где переиграл едва ли не всю симфоническую музыку и более ста опер. Он был душой этого необычного кружка, объединявшего пытливых, инициативных студентов, не замыкавшихся в рамках одной музыкальной специальности.
Первый самостоятельный сольный концерт Рихтера был назначен на 19 октября 1941 года. Фашистские войска наступали на Москву. Концерт отложили. Он состоялся в июле 1942 года. Пианист играл сочинения Бетховена, Шуберта, Рахманинова, Прокофьева.
В 1945 году Святослав Рихтер выступил на Всесоюзном конкурсе пианистов-исполнителей и завоевал первую премию.
Поздно, очень поздно приходила к нему известность. Зато он встретил ее вполне сформировавшимся художником, прошедшим большую жизненную школу. Вкусы его сложились, репертуар был огромен.
Рихтеру повезло. На его пути именно в переломные годы встретился композитор, чья музыка, можно сказать, во многом определила артистическую судьбу пианиста. Это был С. С. Прокофьев.
Впоследствии Рихтер сам подробно и образно рассказал о встречах с Прокофьевым и своем отношении к его творчеству.
«Однажды папа взял меня с собой — в консерваторском зале должен был выступать Прокофьев. Это был один из зимних дней. В зале были сумерки. К публике вышел длинный молодой человек с длинными руками. Он был в модном заграничном костюме, короткие рукава, короткие штаны,— и, вероятно, поэтому казалось, что он из него вырос...
Помню, мне показалось очень смешным, как он кланяется. Он как-то переламывался — чик! Притом глаза его не изменяли выражения, смотрели прямо и потому устремлялись куда-то в потолок, когда он выпрямлялся. И лицо его было такое, как будто оно ничего не выражало. Потом играл... Для меня это было очень необычным и сильно отличалось от того, что я раньше слышал. По глупости и по детскости мне казалось, что все им сыгранное похоже одно на другое (такими же похожими друг на друга казались мне тогда и сочинения Баха)...
Потом я ничего о нем не знал. Нет, я знал со слов музыкантов, что существует такая «Классическая симфония». Что «Классическая симфония» хорошая, очень хорошая. Что она — образец для новых композиторов.
И еще, что одесский композитор Вова Фемелиди, написавший оперу «Разлом» и балет «Карманьола», находится под влиянием Прокофьева. Впоследствии я сам в этом убедился, но тогда он мне казался оригинальным. И все. О самом Прокофьеве я ничего не знал. Можно было подумать, что он «вышел из моды» и забыт...
Так, вне Прокофьева, прошло десять лет».
Сочинением, которое помогло Рихтеру понять музыку Прокофьева, был Первый Скрипичный концерт. «Я влюбился в концерт, еще не зная скрипичной партии. Я просто слушал, как А. Ведерников учил аккомпанемент. С этих пор каждое сочинение Прокофьева, которое я узнавал, я воспринимал с удивленным восхищением и даже с завистью».
Как-то Рихтер услышал в исполнении Сергея Прокофьева его Шестую сонату. «Ничего в таком роде я никогда не слышал. С варварской смелостью композитор порывает с идеалами романтики и включает в свою музыку сокрушающий пульс двадцатого века... Соната заинтересовала меня и с чисто исполнительской точки зрения; я подумал: поскольку в этом роде я ничего никогда не играл, так вот попробую себя и в таком. Нейгауз одобрил. Уезжая на каникулы в Одессу, я взял с собой ноты... учил ее с большим удовольствием. За лето выучил и 14 октября играл в концерте...
Прокофьев, улыбаясь, прошел через весь зал и пожал мне руку. В артистической возник разговор: «Может быть, молодой музыкант сыграет мой Пятый концерт, который провалился и не имеет нигде успеха?! Так, может быть, он сыграет, и концерт понравится?!»
Я Пятого концерта не знал, но сразу же мне стало интересно...
В феврале 1941 года я уезжал в Одессу и взял с собой Пятый концерт.
Через месяц я вернулся в Москву с готовым концертом». Исполнение Рихтера полностью удовлетворило композитора. Написав Седьмую сонату, он поручил ее премьеру Святославу Рихтеру. Пианист выучил произведение за четыре дня и сыграл в Москве, в Октябрьском зале Дома Союзов.
Передав Восьмую сонату для первого исполнения Гилельсу, Прокофьев Девятую попросил сыграть Рихтера. В знак благодарности за блестящее исполнение композитор и посвятил Рихтеру эту сонату. Он до сих пор считается ее лучшим истолкователем. Помимо сонат, Рихтер часто играет концерты Прокофьева, особенно удачно — Первый, Пятый, играет переложения для фортепиано отдельных номеров из балета «Золушка», цикл пьес «Мимолетности».
Когда в истории музыкального искусства появляется композитор, открывающий новые пути, судьба его творчества в значительной мере зависит от того, встретится ли ему исполнитель, который не только полностью примет его творческие идеи, но и воплотит их на концертной эстраде, донесет до слушателя в живом звучании.
Таким соратником, творческим единомышленником Прокофьева стал Святослав Рихтер.
Концерты — значит беспрерывные занятия, путешествия, переезды с места на место. Как-то Рихтер подсчитал, что в США в 1960 году за два с половиной месяца он наездил в поездах двадцать две тысячи километров.
Требовательность Рихтера к себе удивительна. Зал может восторгаться его игрой, а он после концерта, огорченный, говорит: «Нет, пьеса еще не удается». И, терпеливо дождавшись пока публика разойдется, усаживается за фортепиано, чтобы поработать еще и еще. «Неудача никогда меня не обескураживала. Я не бросал вещь, если она не получалась так, как мне хотелось. Я продолжал работать над нею и играл ее до тех пор, пока она не получалась».
Несколько лет назад на Рижской киностудии снимался фильм «Святослав Рихтер». Корреспондент, присутствовавший на съемках, вспоминает: «Рихтер исполняет «Блестящие вариации» Шопена. На вас обрушивается шквал звуков. Вами овладевает ощущение восторга. А Рихтер в это мгновение снимает руки с клавиатуры, оборачивается и говорит:
— Нет, это плохо. Начнем сначала».
Было время, когда пианист жадно накапливал репертуар. Он даже избегал играть дважды одно и то же. Сочинение выучивалось стремительно, буквально за несколько дней, и сразу же исполнялось в концертах. Замечательная память и сосредоточенность помогали быстрому освоению сложных произведений — сорока восьми прелюдий и фуг «Хорошо темперированного клавира» Баха, сонат Бетховена, сочинений современных авторов — Бартока, Шимановского. Создавалось впечатление, что Рихтеру нравится все, что написано для фортепиано. Фортепианную литературу он читал, как увлекательную книгу, с лихорадочной поспешностью, во всем находя прелесть, интерес, новизну.
Репертуарное обогащение имело для Рихтера большое значение. Совершенствовалось мастерство. Но не нужно думать, что мастерство давалось ему легко. Ведь у него не было школы, приобретаемой с детства. Однако и здесь мы встречаемся со способностью великих артистов даже недостатки превращать в достоинства — лишенный систематической учебы, Рихтер создает свою технику, полностью соответствующую его артистической индивидуальности, технику совершенную, по-рихтеровски неповторимую, исключительно гибкую.
Слушаешь, как Рихтер играет разных композиторов, и каждый раз кажется, что за фортепиано сидят разные пианисты, настолько все меняется, даже посадка за инструментом.
Мысли и чувства людей, образы и настроения природы, события истории, произведения литературы — неисчерпаемое богатство мира подвластно музыке. Познать и выразить ее многообразие, стать истинным артистом-исполнителем может лишь человек больших знаний, высоких душевных достоинств — правдивый, искренний, честный. Нейгауз так характеризовал Рихтера: «Более двадцати лет близко знаю я Святослава Рихтера. На моих глазах из безвестного студента он превратился в пианиста с мировым именем. Но в жизни он остался таким же, каким мы все его знали... Он честен и принципиален в отношениях с людьми, верен в дружбе, глубоко и безраздельно предан своему искусству. Удивительна его непритязательность, его скромность. Никому не рассказывает он о своих успехах, не хвалится рецензиями. Даже привычки у него сохранились прежние, студенческие. По-прежнему любит пешеходные и лыжные прогулки, исхаживая иногда по нескольку десятков километров в окрестностях Москвы».
Неиссякаема потребность Рихтера в знаниях. У него большая библиотека музыкальной и художественной литературы. Читает он очень внимательно, отмечая интересные места. Любит Пушкина, Гоголя, Достоевского, Шолохова, Хемингуэя. Рихтер и сам пишет оригинально, броско, находя без затруднений меткие сравнения и эпитеты.
Через всю жизнь он пронес любовь к театру. И если вам доведется смотреть музыкальный кинофильм «Глинка», вы наверняка обратите внимание на интересный эпизод: Ференц Лист играет «Марш Черномора» Глинки. Роль Листа в фильме исполняет Святослав Рихтер.
Есть еще одна страсть у него — живопись. Эта сторона дарования обнаружилась сравнительно поздно и неожиданно. Как-то Рихтер повредил себе палец, несколько месяцев не мог играть. Без дела он сидеть не привык. Отдых всегда заключался для него в смене рода работы.
Дальние прогулки, радость от чудесных видов Подмосковья, воспоминания о палящем крымском солнце и прозрачных рассветах на вершинах гор, куда Рихтер поднимался с альпинистами,— все это привело к желанию запечатлеть свои настроения, картины природы.в красках.
С тем же упорством, с каким он овладевал фортепиано, Рихтер овладевал искусством художника.
Сделав несколько довольно завершенных набросков, Рихтер решился обратиться за консультацией к известному московскому художнику Роберту Фальку. Фальк признал у пианиста талант живописца и охотно дал ему несколько уроков. Вскоре друзья Рихтера организовали маленькую выставку его работ на квартире Нейгауза. Не только Фальк, но и другие художники заинтересовались этими опытами. «Мне не раз приходилось слышать от знакомых художников,— рассказывал Генрих Густавович,— что если бы Рихтер профессионально занялся живописью, он достиг бы в ней таких же, высот, каких достиг в области пианизма. Он и сейчас пишет очень много и мечтает в будущем отдаться живописи».
Картины свои Рихтер пока не показывает — он считает, что не достиг в живописи должного уровня. «Нужно время,— говорит Святослав Теофилович.— А его у меня нет: музыка забирает все. Мне хочется писать, но не так, чтобы повторять свои прежние опыты. А как— это могла бы решить только работа».
Из художников далекого прошлого Рихтеру ближе всего Леонардо да Винчи, Рафаэль, Веласкез, из русских художников он ценит Александра Иванова, Серова, Левитана.
Когда в Москве выставлялись картины Дрезденской галереи, спасенные во время войны советскими воинами, Рихтер приходил на выставку ежедневно и подолгу изучал интересующие его полотна.
Даже в наш век, когда фортепианная игра получила широчайшее распространение, и выдающееся пианистическое мастерство перестало быть редкостью, можно назвать лишь два-три имени, вызывающих такое восхищение и интеpec. Пианистом века нередко называют сейчас Рихтера, чтобы подчеркнуть: он — один из величайших пианистов современности.
«Играет ли он Баха или Шостаковича, Бетховена или Скрябина, Шуберта или Дебюсси,— замечал Нейгауз,— каждый раз слушатель слышит как бы живого, воскресшего композитора, каждый раз он целиком погружается в огромный, своеобразный мир автора».
Рихтер исполняет едва ли не все, что написано для фортепиано. Он сам говорит, что его любимый композитор тот, над произведением которого он в данный момент работает. О таких исключительных артистах можно сказать: они обладают даром артистического перевоплощения.
Когда речь идет о драматических актерах, понять, что такое дар перевоплощения, нетрудно. Знаменитый советский актер Николай Черкасов играл в кинофильме «Депутат Балтики» роль профессора Полежаева, очень старого человека, знаменитого ученого. А в фильме «Дети капитана Гранта» он создал трогательный образ Паганеля — милого чудака, распевающего песенку, которая полюбилась многим:
Жил отважный капитан, Он объездил много стран...
Полежаев и Паганель — совсем разные люди по возрасту, внешности, занятиям, характеру, привычкам. Играл же их один актер — Черкасов, и играл так, что вы самого-то Черкасова не могли узнать, столь искусно он перевоплощался в совершенно противоположные художественные образы.
Для пианиста перевоплотиться — значит почувствовать, понять, суметь передать слушателям особенности разных сочинений, то, что называют стилем разных авторов. Музыка Бетховена не похожа на музыку Мусоргского, музыка Баха едва ли имеет много общего с музыкой Прокофьева.
Композитор, записывая свое произведение, нотными знаками фиксирует замысел, созревший в его воображении. Пианист внимательно изучает нотную запись и таким образом представляет то, что хотел выразить композитор, какие чувства, мысли вложил он в сочинение.
Все было бы, конечно, просто, если бы имелась возможность точно и исчерпывающе подробно записать в нотах намерения автора. Но в том-то и трудность, что нотные знаки не могут с абсолютной точностью передать все, что задумано, и те обозначения, которыми композиторы пользуются, приблизительны, условны.
В истолковании нотной записи решающее значение приобретает талант исполнителя, его чутье, опыт, знание стилей, общая культура, индивидуальные особенности игры.
Святослав Рихтер умеет поразительно ясно и убедительно найти соотношение оттенков, темп, которые наиболее точно соответствуют данному произведению. Работая за фортепиано, пианист каждый раз настолько глубоко проникает в замысел композитора, что, действительно, как писал Нейгауз, слушаешь Рихтера, словно живого автора. Артист четко определяет свое кредо: «Я хочу прежде всего познавать музыку. Меня интересует сама музыка. Я — слуга музыки».
Классика составляет фундамент репертуара Рихтера. Немногие современные пианисты играют в таком изобилии сочинения Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена. Причем Рихтер играет произведения, которые в концертах звучат редко, например, Третью, Двенадцатую, Двадцатую сонаты Бетховена, его же вариации и фугу на тему из балета «Творения Прометея». Пианист старается обратить внимание слушателей на забытые или недооцениваемые сочинения, расширить знание музыки. Вместе с тем, он исполняет и произведения популярные, составляющие вершину фортепианного творчества Бетховена,— сонаты «Патетическую» — Восьмую и «Аппассионату» — Двадцать третью.
В высказываниях Рихтера о бетховенской музыке — собственный артистический опыт, полезный для всех, кто играет Бетховена на концертной эстраде: «Люблю больше всего Первый концерт. Когда я слышу оркестровое вступление, меня охватывает чувство ни с чем не сравнимое, будто открылось нечто светлое, прекрасное...
Не думаю, чтобы на протяжении одной части в бетховенских сонатах надо было бы часто менять темп. Движение не должно здесь произвольно ускоряться. Музыка многое теряет от подобных темповых смен. Иногда это происходит из-за того, что пианисты, играя, не сразу находят нужное настроение, не сразу входят в образ,— а темп с этим всегда связан. Но часто ускорения происходят у пианистов совсем по другой причине, в сравнительно легких местах. Именно их почему-то начинают играть быстрее. Этого я решительно не приемлю. Для меня это — свидетельство неполноценности, художественной слабости, вялости, да, именно вялости, хотя, казалось бы, более быстрый темп должен производить обратное впечатление.
Ранние сонаты Бетховена очень люблю. Они свежи, смелы, овеяны молодостью, непосредственны и неповторимо индивидуальны. Особенно близки мне Третья, Седьмая, Одиннадцатая сонаты, в чем-то они мне даже ближе гениальных последних сонат.
Разумеется, я очень люблю и Патетическую, и Аппассионату... Это сонаты замечательные, совершенно особые. Я их неоднократно играл, причем. Аппассионату всегда с опаской — соната труднейшая и, несмотря на всю популярность, своего рода «сфинкс».
Удивляюсь тем пианистам, которые включают в программу одного концерта и Патетическую, и «Лунную», и Аппассионату. Ведь эти сонаты требуют такой отдачи, такого интеллектуального и эмоционального напряжения, что исполнить их подряд по-настоящему хорошо, полноценно, попросту невозможно.
В Аппассионате, как мне кажется, все происходит ночью. Здесь и ночное предгрозье, и мерцание звезд, и нечто космическое (в финале) — голоса, перекликающиеся в пространстве.
Каждое динамическое указание Бетховена — плод гениального замысла. Оно должно быть осознано и точно исполнено. Это не педантизм, а необходимость. И это нисколько не сковывает инициативы, а, наоборот, ее пробуждает».
Очень любит Рихтер музыку Баха. Сорок восемь прелюдий и фуг из «Хорошо темперированного клавира» и Концерт ре минор он сыграл сразу после окончания консерватории, вместе с пианистом Анатолием Ведерниковым записал на пластинки Концерт Баха до мажор для двух фортепиано с оркестром.
Сам Рихтер считает: «Бах больше, чем какой-либо другой композитор, допускает различные истолкования. Только тогда, когда я выучил сорок восемь прелюдий и фуг Баха, я ощутил все очарование и богатство баховской музыки. С годами мир Баха стал мне родным...».
В игре Рихтера, исполняющего музыку Баха, вы слышите, говоря словами исследователя — музыканта и врача Альберта Швейцера, «радость, скорбь, плач, жалобы, смех; но все это преображено в звук так, что переносит нас из мира суеты в мир покоя, будто сидишь на берегу горного озера и в тишине созерцаешь горы, леса, облака в их непостижимо глубоком величии».
Франц Шуберт—младший современник Бетховена, умерший совсем молодым, в возрасте тридцати одного года. За короткую жизнь он создал сотни вдохновенных произведений, в том числе двадцать одну фортепианную сонату, но так и не добился признания.
Шубертовские сонаты требуют особой тонкости, непринужденности исполнения — импровизационности, когда создается впечатление, что произведение сочиняется непосредственно на эстраде. Сам Шуберт обычно играл сонаты в тесном кругу друзей — ценителей искусства и едва ли рассчитывал на исполнение в концертных залах, где требуются немалые масштабы звучности, яркие краски и контрасты.
Рихтеру музыка Шуберта дорога непосредственностью, свежестью чувств, простотой, естественной красотой мелодий, народным юмором. Ему близки ее наивность и простодушие.
Охотно музицируя в дружеской среде, Рихтер хорошо ощущает особенности той непринужденности формы музыкального общения, которая была распространена во времена Шуберта и отразилась на фортепианном творчестве композитора. Поэтому и при исполнении шубертовских сонат Рихтером слушатели словно становятся его собеседниками. Создается впечатление доверительного разговора, музыкального рассказа, в котором особенно пленяет напевность игры, красота завораживающе нежного звучания инструмента. Природа звучит в этой музыке. Но если у Бетховена, в Патетической или Аппассионате — буря, шум водопадов, то у Шуберта — покой весеннего утра, ласковое солнце.
Отбирая для концертного исполнения сочинения современных композиторов, пианист требует, чтобы они находились на уровне классических образцов.
В пятидесятые годы у Шостаковича возникла идея написать цикл прелюдий и фуг, показывающих, что традиции Баха продолжают питать и современную музыку, что сложная форма фуги — произведения, основанного на проведении чаще всего одной темы во многих голосах по строгому, заранее определенному плану,— отнюдь не устарела. Бах написал сорок восемь прелюдий и фуг, Шостакович ограничился двадцатью четырьмя. В этом сочинении Шостаковича вступительные пьесы-прелюдии иногда контрастируют, но чаще сходны по характеру с соответствующими фугами. Темы ряда фуг — песенные. Во всем цикле ощущается русский колорит. И вот что примечательно: именно фуги, основанные на темах народного склада, лучше всего получились у Рихтера, больше всего понравились ему.
Если вам доведется услышать, например, запись Прелюдии и фуги соль мажор Шостаковича, она наверняка покажется вам былинной картинкой, с поступью русских богатырей, народными присказками. Другая, фа-минорная прелюдия и фуга истолкована пианистом, как лирическая народная песня. Несмотря на значительные масштабы некоторых фуг, на сложные композиторские приемы, применяемые Шостаковичем, фуги в исполнении Рихтера воспринимаются, как живое течение музыки, за которым увлекательно следить; фантазия рождает бесчисленное множество художественных образов, представлений.
Музыка Шостаковича сыграла огромную роль в отношении Рихтера к искусству двадцатого века: «Сила его трагизма меня всегда покоряла. Особенно люблю Восьмую симфонию. Это — одно из лучших сочинений нашего века и наряду с Пятой — вершина Шостаковича».
Хотя в репертуаре пианиста немногие сочинения Шостаковича, но каждое рихтеровское исполнение оставляет неизгладимое впечатление. Такое сохранилось у слушателей и после концерта во Львове в сентябре 1982 года, когда Рихтер вместе с альтистом Юрием Башметом сыграл последнее произведение Шостаковича — Альтовую сонату.
Рихтер любит Львов. Он подружился с композитором и дирижером Николаем Филаретовичем Колессой, который познакомил Святослава Теофиловича с архитектурой старинного города. Вместе они много ходили по львовским улицам, побывали в Шевченковском Гае, вместе концертировали — во Львове исполнили Первый концерт Бетховена, в Киеве — Первый концерт Чайковского.
В интересе Рихтера к творчеству Кароля Шимановского имело значение влияние Генриха Нейгауза. Шимановский приходился Нейгаузу двоюродным братом. Они вместе учились в Елизаветграде (ныне Кировоград) в музыкальной школе отца Нейгауза. Позднее Шимановский переехал в Польшу, написал немало талантливых, но сложных музыкальных произведений.
В 1954 году Рихтер должен был отправиться на гастроли в Польшу. Ему захотелось включить в программу концертов произведения польского автора, как знак уважения к искусству польского народа. Рихтер выбрал Вторую сонату Шимановского. Исполнение ее в Польше прошло с успехом. Возвратившись в Москву, пианист сыграл сонату в Большом зале консерватории, убедив слушателей в художественной значимости сочинения.
Спустя четыре года в Москве в исполнении Рихтера впервые прозвучал Второй концерт Белы Бартока.
Еще в молодости Барток так определил свое призвание: «Я... в продолжение всей своей жизни, всегда, постоянно и всевозможными средствами буду верен единственной цели — верно служить венгерской нации и венгерской родине». Фашисты, захватив Венгрию, преследовали композитора за его прогрессивные убеждения. Он вынужден был покинуть любимую родину и уехал в США.
Гордый, принципиальный художник не хотел угождать вкусам буржуазной публики, и потому произведения Бартока звучали в Америке редко. Барток бедствовал. Артур Рубинштейн, живший в те годы в Нью-Йорке, рассказывал автору этой книги, что музыканты тайно от Бартока собирали для него деньги. Умер Барток в 1945 году, так и не успев возвратиться на освобожденную от фашистов родину.
В послевоенные годы интерес к сочинениям Бартока стал возрождаться. Венгерские артисты, гастролируя в разных странах, широко исполняли его произведения. Когда выдающийся дирижер Янош Ференчик приехал в Москву, солистом в концерте венгерской музыки выступил Святослав Рихтер, сыгравший Второй фортепианный концерт Бартока. Слушателей потрясла игра Рихтера, его проникновение в венгерские особенности мелодии, ритма, фортепианных красок. Рихтер считает, что хотя в этом концерте заметны следы влияния Стравинского, Листа, отчасти даже Шумана, это — лучший фортепианный концерт Бартока, и добавляет: «Логика Бартока настолько необычна, что никогда не знаешь, как развернутся у него события. Каждый раз его вещи приходится учить как бы заново».
В репертуаре пианиста еще одно сочинение Бартока — «Пятнадцать венгерских крестьянских песен». Подобно тому, как соната Шимановского впервые в исполнении Рихтера прозвучала на родине ее создателя — в Польше, так и «Пятнадцать песен» Рихтер впервые сыграл в Венгрии. Слушатели поразились: пианист никогда не жил в их стране, не изучал ее песен, но очень тонко и чутко передал колорит венгерских напевов.
Когда играет Рихтер, фортепиано приобретает способность человеческой речи: слова простые, даже обыденные, но каждое слово полно смысла глубокого, сокровенного и открывает нечто очень важное в человеческой душе. Вероятно, это и есть тот «подтекст», тот истинный смысл искусства, о котором так много говорили артисты, писатели, художники — Станиславский, Чехов, Крамской.
Доверие к музыкальной отзывчивости слушателей отличает артиста. Всмотритесь, как выходит он на эстраду — деловито и спокойно, как усаживается за фортепиано, потирая руки. Кажется, что он собирается играть для себя, что он равнодушен к отклику зала. Но это не так. Рихтер, по его собственным словам, судит о слушателях «не по аплодисментам и вызовам, которые нередко бывают данью вежливости, и не по лестным отзывам прессы..., а по той «немой», но так знакомой каждому исполнителю глубокой реакции слушателей, по тем... трепетным сердечным нитям, которые связывают зал с эстрадой».
Требовательность Рихтера к себе беспредельна: когда слушаешь его оценки собственной игры, создается впечатление, что он чуть ли не новичок на эстраде.
Нейгауз как-то похвалил его за то, что он сыграл после сонаты Бетховена, по желанию восхищенной публики, небольшую пьесу «на бис». Рихтер ответил: «Как же я мог не играть, когда так ужасно звучал Бетховен. Надо же было исправить». И стал объяснять Нейгаузу, что рояль ему показался скверным — крикливым, разбитым...
Рихтер хочет сделать музыку всем понятной, для всех необходимой. Он играет не только для подготовленной аудитории, не только в больших городах, филармонических залах, из года в год посещаемых любителями фортепианной игры. Он уезжает в маленькие города, играет для неискушенных слушателей, там, где совсем редко или никогда не бывают знаменитые артисты, выступает в рабочих поселках, в сельских клубах. Во французской провинции Рихтер однажды выбрал для своих концертов овин — строение, в котором сушат снопы перед молотьбой. Овин освободили от сена, поставили рояль. Получился великолепный зал: пятисотлетней давности бревенчатые стены создавали идеальную акустику. Но мешал шум самолетов. Рядом находился военный аэродром. Тогда жители обратились к военному командованию, и оно на время концертов отменило полеты. «Советскому пианисту удалось то, что не удается другим,— говорили французы.— Он заставил силой своего искусства замолчать оружие...».
Успех концертов Рихтера велик. В знак благодарности пианист получает множество писем, трогательных подарков. Но это не значит, что его игра одинаково близка всем. Едва ли она понравится людям, ищущим в музыке только спокойствия, безмятежной радости. Рихтер принадлежит к тем великим артистам, которые стараются своим искусством воспитывать, просвещать людей.
Хентова Софья Михайловна. – Из книги “Любимая музыка”. Изд. “Музична Украина”, Киев, 1989

Г.М.Цыпин.
Отрывки из беседы с О.Каганом и Н.Гутман.
(80-е г.г.)
Г.Цыпин. У некоторых музыкантов при работе над нотным текстом возникают ассоциативно-образные представления. Бывают ли они у вас, Наталья Григорьевна? Помогают ли проникнуть вглубь музыки, найти нужное интерпретаторское решение?
Н. Гутман: Бывают. Нечасто, правда, но бывают. Причем, проявляются эти ассоциации всегда случайно, стихийно, неожиданно, сами по себе. Мне трудно говорить об этом - настолько все тут интимно и не поддается анализу. Есть же такие внутренние состояния, которые исчезают, улетучиваются, как только пытаешься истолковать их или передать какими-то словами.
В целом все же музыка существует для меня сама по себе – без каких-то параллелей и ассоциаций. Не знаю, может быть, мне просто не хватает способности "воображать" и "представлять"?
Г.Цыпин. Ничуть. Речь в данном случае может идти разве что о ваших индивидуальных психологических особенностях как художника. О чисто субъективных реакциях на музыку - и только.
Н. Гутман: Во всяком случае, мне интереснее в данном случае говорить не о себе. Лучше переведем разговор на Святослава Теофиловича Рихтера, у которого, насколько я знаю, действительно часто рождаются - в связи с музыкальными произведениями - те или иные живописно-образные сопоставления, сравнения, параллели и т.д. Причем,, когда Святослав Теофилович играет с кем-то в ансамбле, он умеет передать, внушить свое внутреннее вИдение партнеру. Это бывает очень интересно. И полезно в творческом отношении.
Г.Цыпин. Острее делается восприятие музыки?
О. Каган: Я бы сказал - конкретнее. Помню, когда мы играли со Святославом Теофиловичем Камерный концерт А.Берга (для фортепиано, скрипки и 13-ти духовых инструментов), он заметил на одной из репетиций, что представляет себе это сочинение так: гладкая, черная, полированная поверхность рояля, на которой в беспорядке разбросано множество хрусталя - какие-то причудливые сосуды, кубки, вазы... И всё сверкает, искрится холодноватым блеском... Этот образ, став для меня своего рода эпиграфом к Камерному концерту, помог значительно лучше ощутить его дух, поэтический характер, художественный смысл. Музыку А.Берга нередко исполняют скупо в эмоциональном отношении, даже "сухо". А ведь она требует от артиста не меньшей экспрессии, чем, скажем, произведения Скрябина.
Н. Гутман: Или ещё. О соль-минорной, соч. 23, прелюдии Рахманинова Святослав Теофилович сказал: "Лунная ночь в волшебном лесу амазонок". Так он определил эту музыку для себя... В этой экзотической ассоциации, по-моему, есть решительно всё: и таинственный колорит рахманиновского сочинения, и его сгущённая, мрачноватая экспрессия, и смутное ощущение опасности, и напряжённость, упругость ритмического движения.
Как-то мы с Олегом были на одном из концертов Святослава Теофиловича. И я помню до сих пор: когда мы в этот вечер поделились друг с другом теми живописно-обраэными представлениями, которые вызвала у нас обоих игра Рихтера (исполнялись "Ночные пьесы" Шумана), то оказалось, что они удивительным образом совпадают.
Более того. Зайдя после концерта к Святославу Теофиловичу в артистическую и заговорив с ним на эту тему, мы обнаружили, что наши фантазии — при всей их субъективности — очень близки к тому, что в данном случае видел, рисовал мысленно он сам.
Так вот магически воздействуют внутренние художественные представления Рихтера на слушателей.
О. Каган: А вместе с тем наверняка есть исполнители (и превосходные мастера своего дела!), для которых музыка существует только как музыка, без каких-либо аналогий и поэтических взаимосвязей с "предметным миром".
Г.Цыпин. Скажите, Олег Моисеевич, пользуетесь ли вы в ходе работы' над музыкальным произведением какими-то дополнительными источниками информации - помимо нотного текста? Что вам требуется ещё?
О. Каган: Необходимо, прежде всего, хорошо представлять себе ту эпоху, когда жил и работал композитор. Нужно знать современное ему искусство. Поэтому не мешает при случае почитать какую-то полезную литературу, запастись новыми сведениями и т.д.
Все это прописные истины, однако напомнить о них безусловно имеет смысл.
И что, конечно, абсолютно необходимо - это знать (как можно глубже, основательнее!) творчество композитора в целом. Любого композитора, чьи произведения исполняешь. Нужно ясно представлять себе его стиль, творческий почерк, манеру. Без этого вглубь его искусства не проникнуть.
Г.Цыпин. Когда встречаешься с бывалыми концертантами, много повидавшими на своём веку, возникает ощущение порой, что иные из них (как бы поточнее сказать...) предпочитают не растрачивать себя без остатка. Особенно если приходится выступать на периферии, перед аудиторией не слишком взыскательной. Чувствуется, что люди не прочь приберечь свои внутренние "энергоресурсы ", в чем-то сэкономить их. Но, может быть, зто вполне естественно ? Когда у человека 70-80 концертов в сезон и среди них действительно очень ответственные, видимо, и впрямь стоит быть расчётливее ? "Умей рационально, дозировочно распределять свои силы" -как вам этот тезис? Есть ли возражения против него?
О. Каган: Я знаю одно. Если экономить эмоции, результат будет обратным. Их будет оставаться в итоге все меньше. И наоборот: эмоциональность можно даже развить, если не "приберегать" свои чувства специально для ответственных выступлений.
Святослав Теофилович Рихтер часто ссылается на слова Роберта Рафаиловича Фалька — художника, которого он близко знал и любил: "Форму нужно доводить до кипения". Этого принципа он придерживается и в собственной работе. Прекрасный принцип ! Придерживаться его можно пожелать всем без исключения.
Иногда, репетируя с ним, проигрываешь один и тот же фрагмент десятки раз. Кажется, отдано всё, что есть — и даже сверх того. А от него слышишь: нет, нет, можно сделать еще лучше... И опять начинается все сначала.
В результате же выясняется, что какие-то эмоциональные "ресурсы" действительно оставались. И можно было добиться еще большей выразительности, яркости чувств.
Н. Гутман: По сравнению со Святославом Теофиловичем мы все выглядим людьми, которые чрезмерно любят, холят, жалеют, берегут себя. Все мы попросту лентяи рядом с ним. Он же безжалостен и к себе, и к тем, с кем он выступает вместе.
Г.Цыпин. Любопытно было бы услышать от вас, концертирующих музыкантов - существует ли, на ваш взгляд, такая категория, как современный исполнительский стиль? Реальность это или теоретическая фикция ? Известно, одни специалисты отвечают на этот вопрос так, другие — иначе. Есть люди, полагающие, что стиль - понятие, относящееся преимущественно к работе композитора. "Стиль классицизма", "романтический стиль", "импрессионизм" - это более или менее ясно. А вот музыкально-исполнительский стиль...
Н. Гутман: Я думаю, все-таки, что таковой существует.
Г.Цыпин. Я тоже. И в чём же вам видятся его приметы, черты, особенности - если иметь в виду именно сегодняшний день?
Н. Гутман: Пожалуй, в большем драматизме чувств современного художника. В большей масштабности его сценических переживаний; в усилившейся напряжённости, экспрессии выражения.
О. Каган: Думаю, что на сегодняшний стиль игры музыкантов оказывает также прямое и непосредственное влияние само современное искусство, то есть творчество композиторов XX века. Вспомним Д.Ф. Ойстраха, который, по моему глубокому убеждению, открыл новую страницу в нашем и мировом скрипичном исполнительстве. Ведь его искусство формировалось под сильным воздействием музыки С.Прокофьева и Д.Шостаковича. Давид Федорович играл многие произведения этих авторов, проникался их творческими идеями, их экспрессией, их эмоциональными состояниями. Разумеется, это отражалось на нём как художнике - на его индивидуальном исполнительском почерке.
Н. Гутман: Говоря о современной исполнительской манере, надо бы добавить, что артист наших дней обычно достаточно объективен в своем искусстве. Он нередко старается убрать себя, приглушить свое "я", — но зато по возможности полнее и точнее выразить то, что содержится в музыкальной композиции. И я очень хорошо это понимаю. Всегда была убеждена, что меня лично слушать менее интересно, нежели ту музыку, которую я играю.
Г.Цыпин. А что, разве возможно на практике, в реальном звучании, отделить одно от другого? Разве зто как-то разграничивается, расслаивается ?
О.Каган: Во всяком случае, попытки в этом направлении иногда предпринимались. Разве не случалось в исполнительском искусстве, что артист намеренно старался обратить внимание на себя, — даже если это шло за счет автора ?
К слову. Святослав Теофилович Рихтер, о котором мы постоянно вспоминаем сегодня, в принципе отрицает исполнительство как независимый и полноправный вид искусства. Или, во всяком случае, считает его в чём-то "ниже" по сравнению с творчеством композитора. "Исполнительское искусство? Не очень понимаю, что это такое, — говорит он. - Я вообще ничего особенного не делаю; играю только то, что написано в нотах".
И это совершенно искренне с его стороны. Всё, что думает и говорит Святослав Теофилович, всегда совершенно искренне.
Вот композитор, по мнению Рихтера, тот действительно создаёт, творит. Облекает свои мысли и чувства в некую звуковую форму, ранее не существовавшую. Что же касается исполнителя, то он всего лишь воссоздает эту форму.
Г.Цыпин. Но почему-то все, решительно все, стремятся услышать, как "воссоздает"музыку Рихтер, а не пианист "Х" или "У"...
О. Каган: Да, конечно, в действительности всё обстоит сложнее. И задачи концертирующего артиста, естественно, шире и многомернее, нежели просто передача чьих-то намерений. Если мы возьмём, например, такой высочайший уровень, как искусство Рихтера, речь тут может и должна идти о сотворчестве.
Г.Цыпин. Видимо, любое талантливое исполнение - сотворчество. Только в большей или меньшей степени.
Н. Гутман: Мне кажется, что позиция Святослава Теофиловича верна потому, что она помогает понять и определить истинную роль музыканта-исполнителя. Рассуждая так, как рассуждает Рихтер, исполнитель никогда не поставит себя впереди автора, не исказит его смысла, не отвлечёт специально внимание на себя. Я, во всяком случае, именно так понимаю Святослава Теофиловича. И меня лично не надо убеждать в правильности его точки зрения — я всецело разделяю её.
Г.Цыпин. Есть художники, которым всегда бывает трудно поставить точку в работе над произведением. Постоянно хочется сделать что-то еще: улучшить, подправить. Вот мне и хотелось бы спросить вас, Наталья Григорьевна: знакомо ли вам ощущение, что концертная программа, над которой вы достаточно долго и тщательно трудились, полностью "сделана" и работа над ней доведена до логического завершения? Или же...
Н. Гутман: Нет, мне такое ощущение незнакомо. И вообще — можно ли где-то поставить точку, занимаясь музыкальным исполнительством, когда от тебя вечно что-то ускользает и не даётся ? Гораздо чаще возникает чувство, что хорошо бы поучить произведение ещё и ещё.
Г.Цыпин. Даже если это произведение прошло уже "обкатку" на эстраде ?
Н. Гутман: Исполнить новую вещь публично - ещё не значит завершить работу над ней, как иногда полагают.
О. Каган: Наташа вечно недовольна собой. У неё всегда так: "не вышло", "не сумела", "не удалось"...
Г.Цыпин. И вы считаете...
О. Каган: Я считаю, что это прекрасно !
Г.Цыпин. Скажите, Наталья Григорьевна, можно ли каким-то образом, с помощью сознательного усилия улучшить внутреннее самочувствие на эстраде ? Как-то повлиять на него ?
Н. Гутман: Каждый находит для себя в этом случае особые способы, внутренние "приспособления". Главное — поменьше думать о себе лично. И побольше о музыке.
О. Каган: Я согласен с Наташей, что всё, касающееся психологической самонастройки перед концертом, крайне индивидуально. У одного бывает так, у другого иначе. Порой происходят совершенно непонятные вещи. Кто-то скажет вам за минуту до выхода на эстраду несколько пустяковых, ничего не значащих слов - и ещё больше усугубит ваше нервозное, возбужденное состояние. А бывает и наоборот.
Со Святославом Теофиловичем произошел однажды такой случай. Он страшно волновался перед очередным своим выступлением. Это было видно всем, находившимся с ним за кулисами. И вот кто-то заметил,, обращаясь к нему: "Послушайте, вы же великий артист, а каждый великий артист должен хотя бы раз в жизни с треском провалиться на эстраде. Так не упускайте же свой шанс!.."
Рихтеру так понравилась эта "логика", что он в результате дал один из лучших своих концертов.
(80-е г.г.)