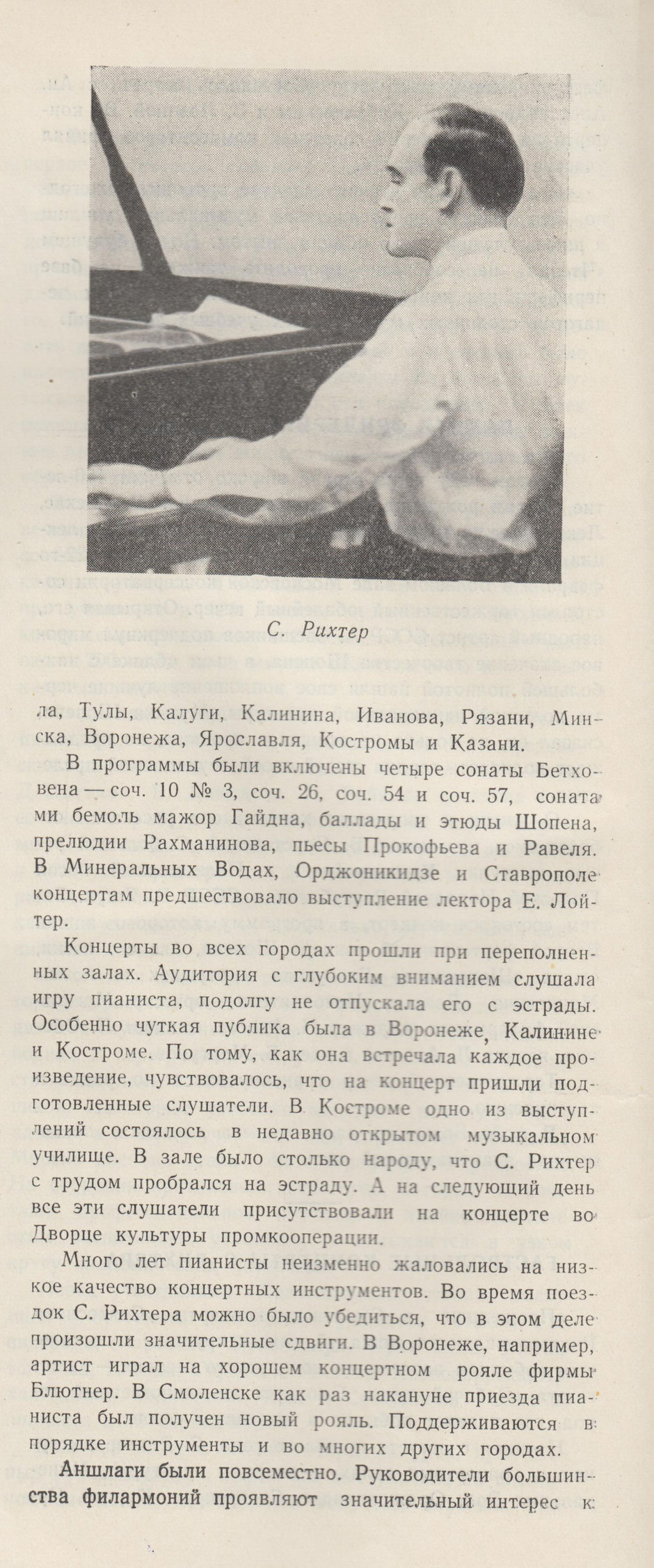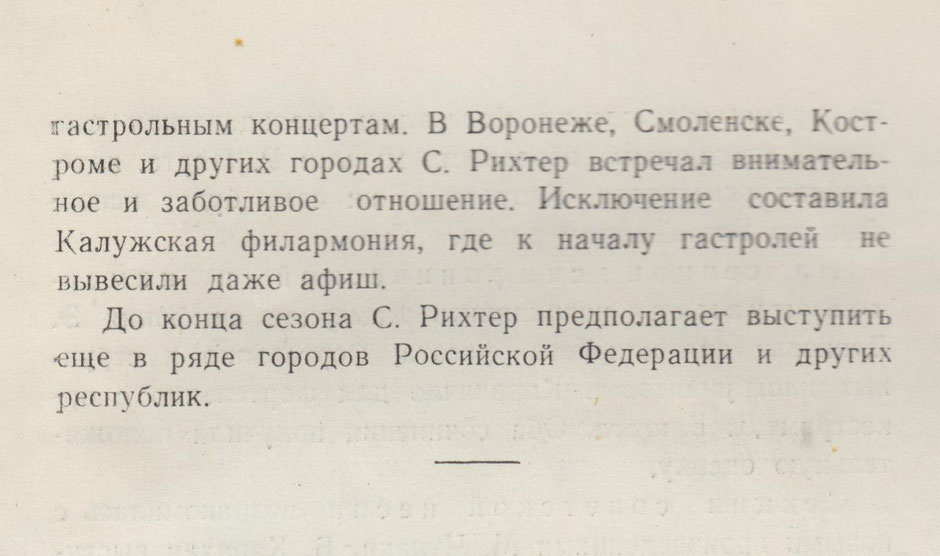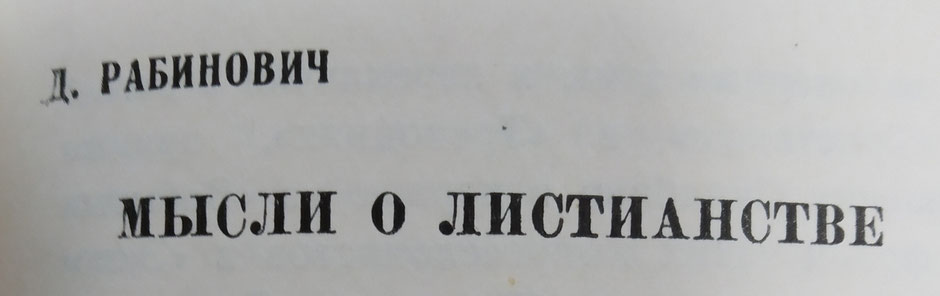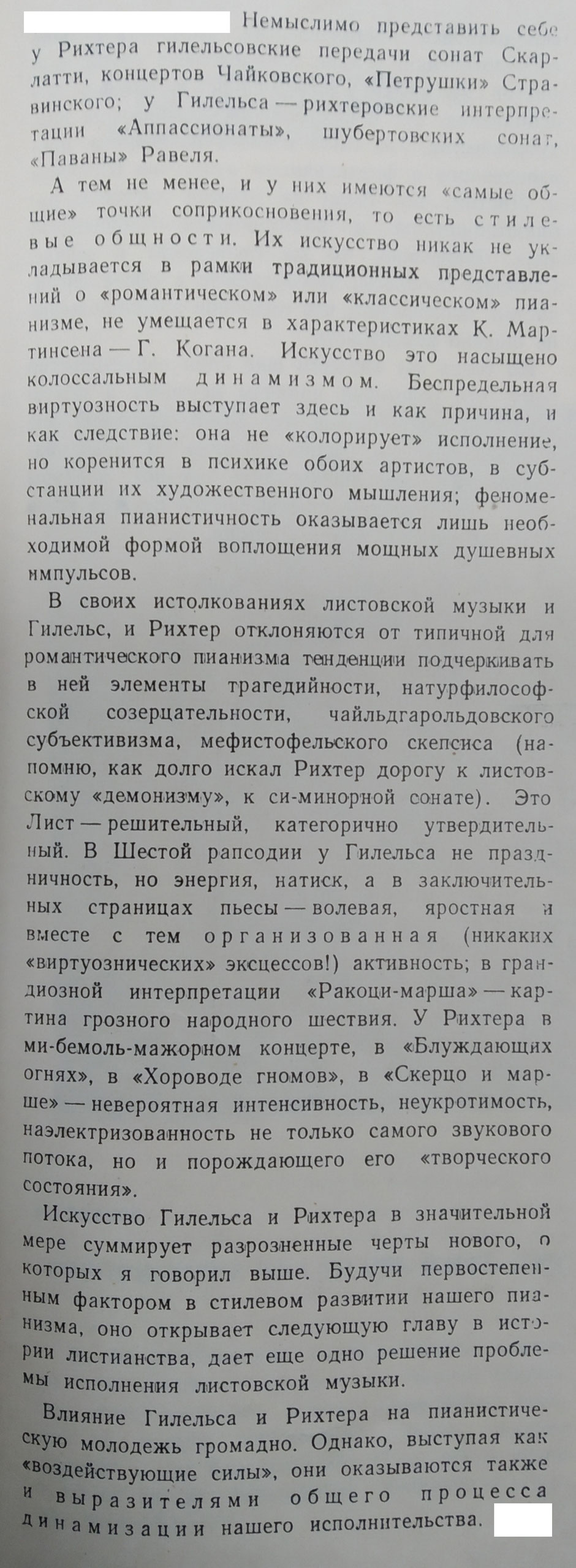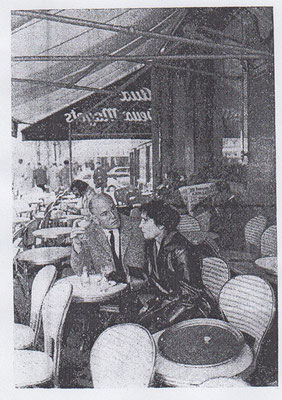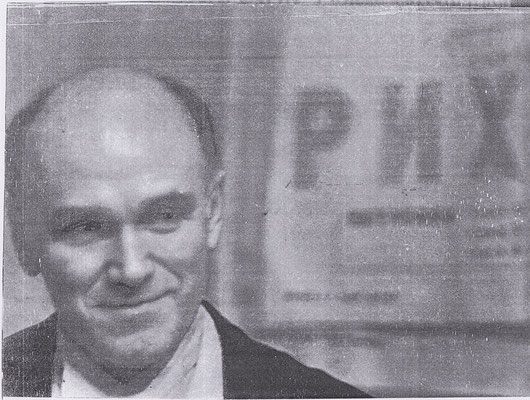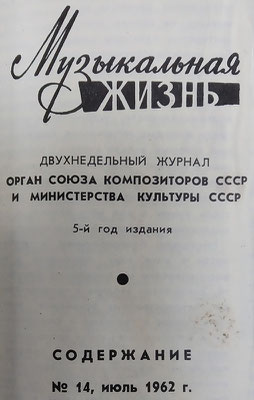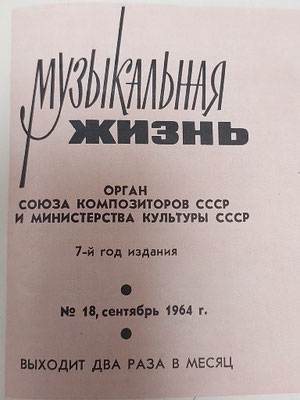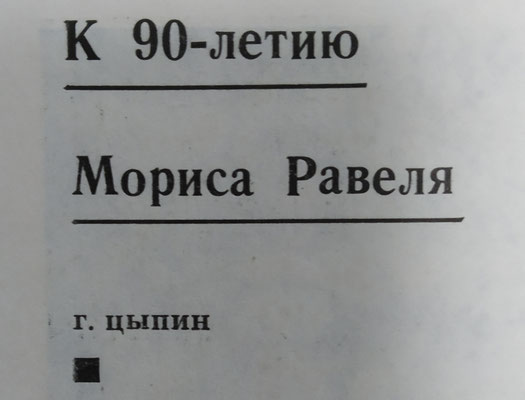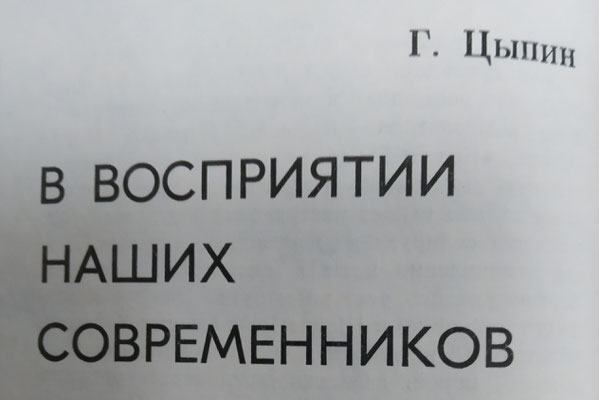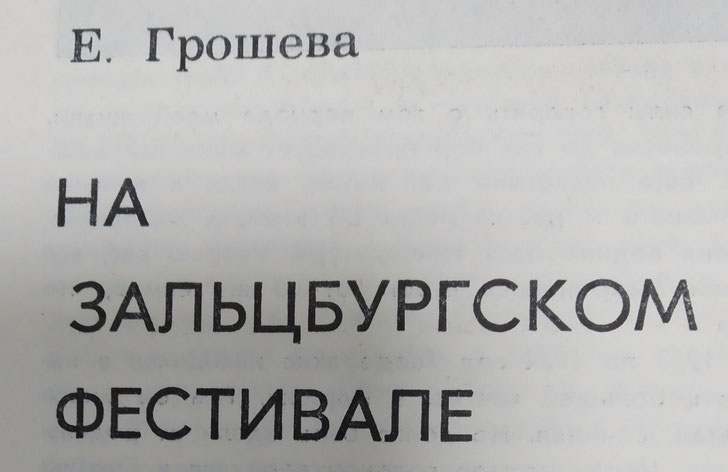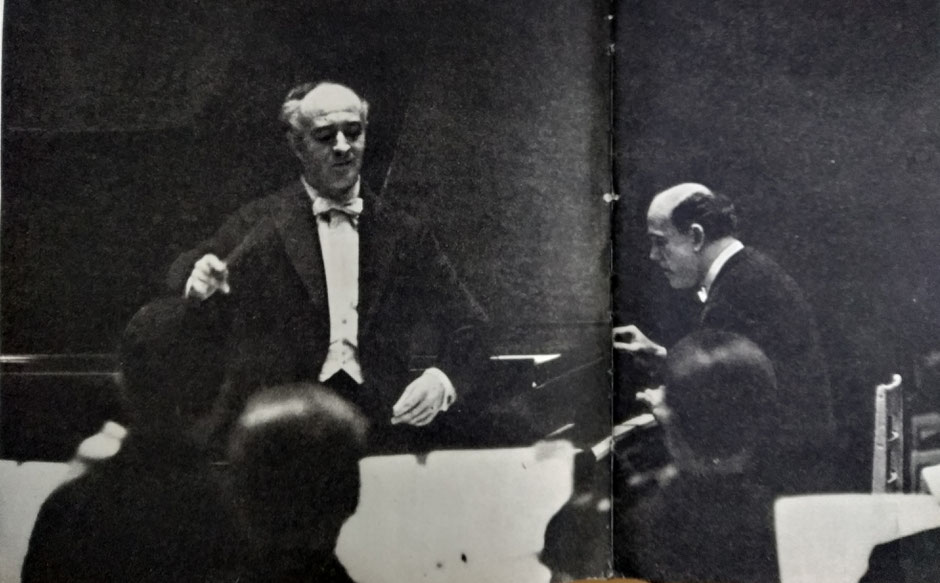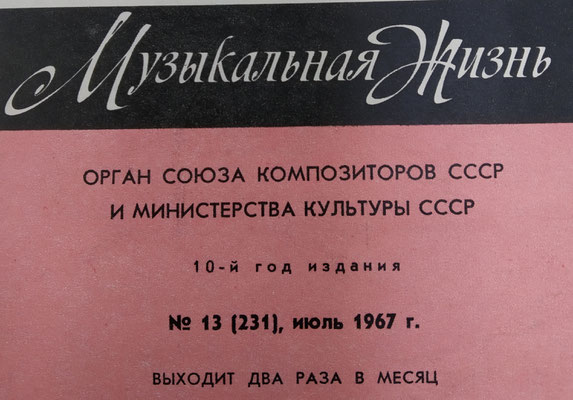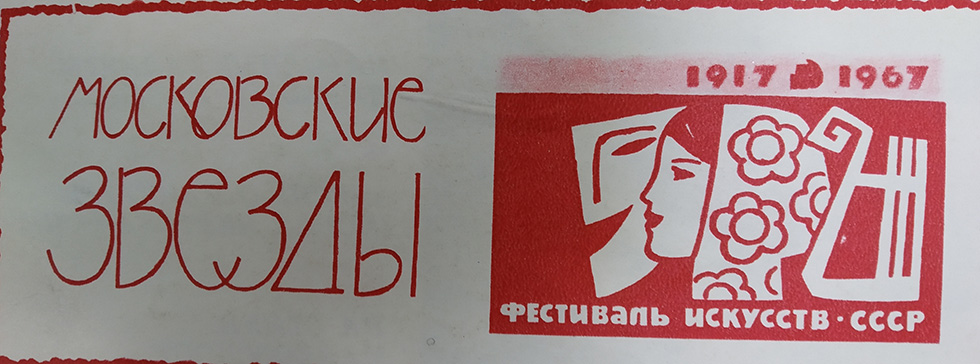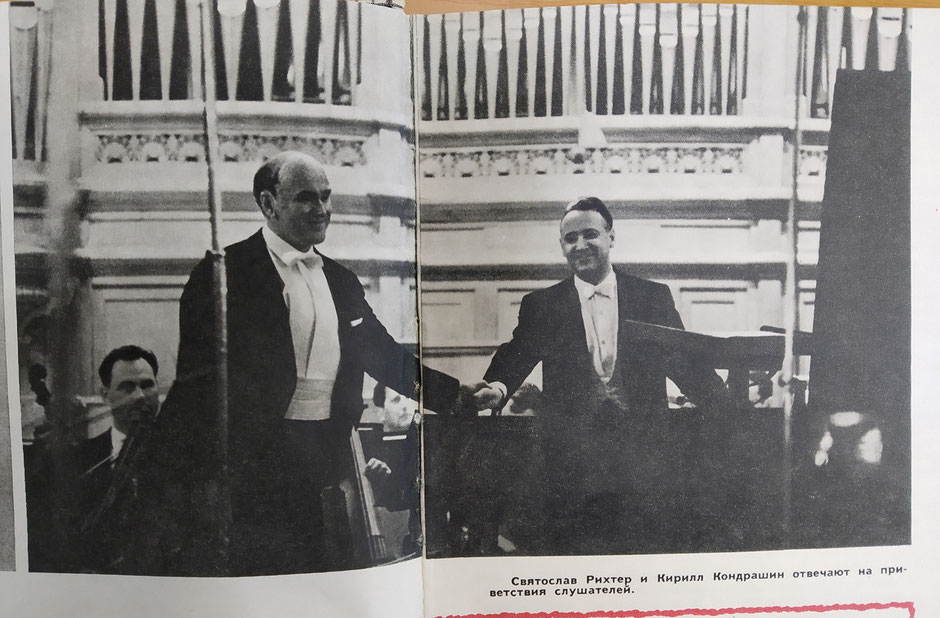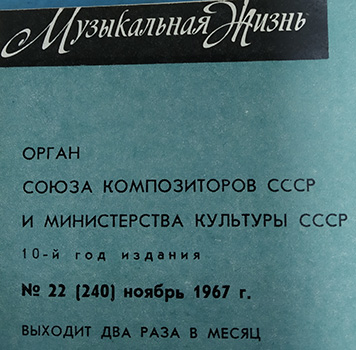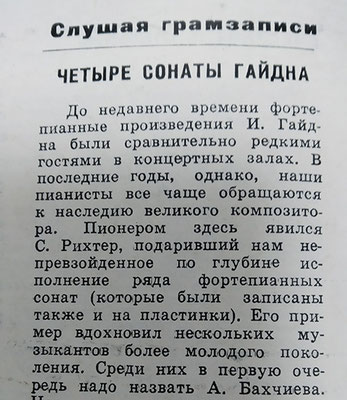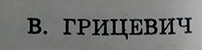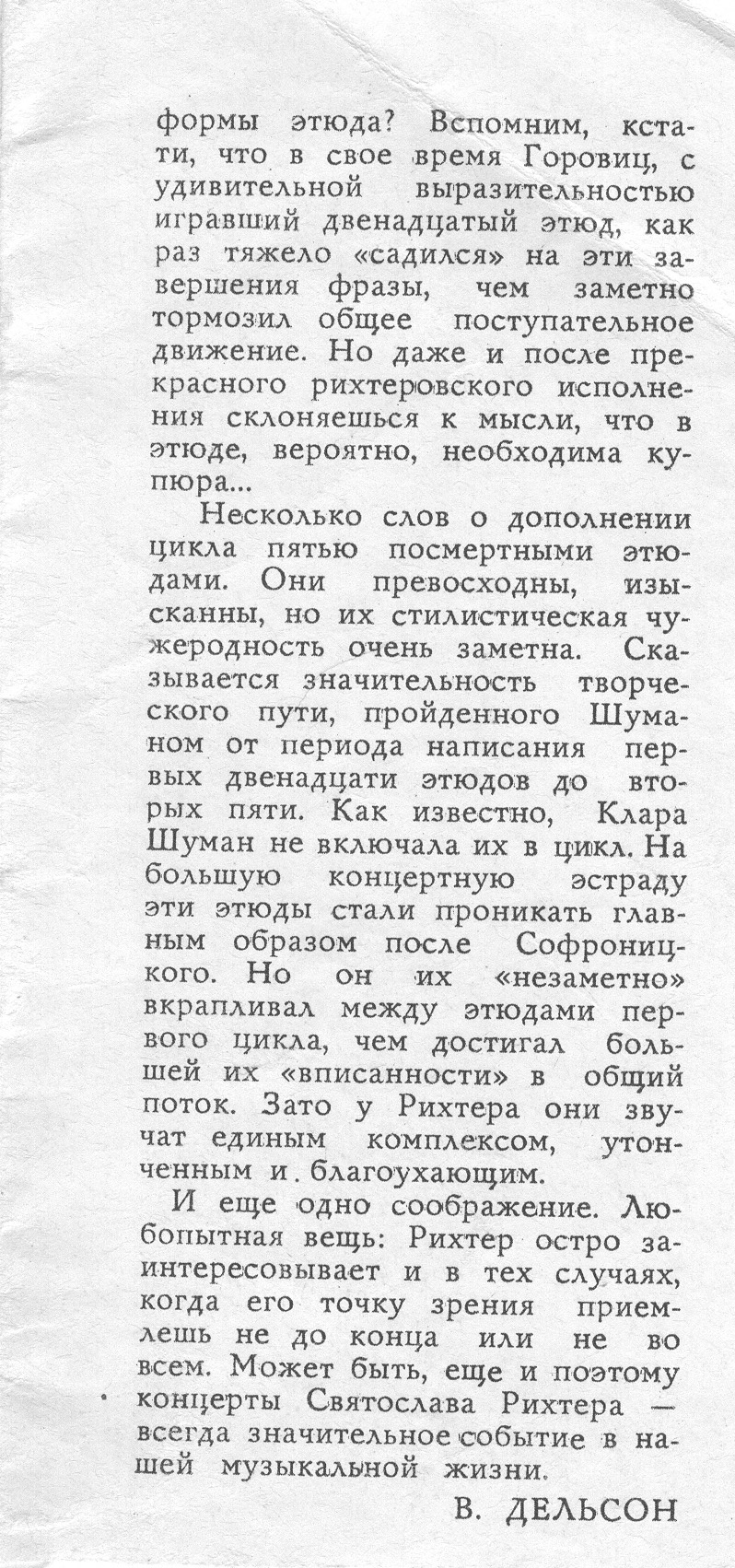Рецензии
60-е годы
Гастрольные концерты С.Рихтера. - «Советская музыка», 1960, №4, с.203-204.
В. Дельсон. «Святослав Рихтер». «Советская музыка», 1960, № 5
Ю.А.Шапорин. "СЛУШАЯ РИХТЕРА". "Правда", 10/06/1960
Флорестан. «Советская музыка» 1960, №6.
Я.Мильштейн. НА КОНЦЕРТАХ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА. «Советская музыка», 1960, № 8
Э.Денисов. ВЫСТУПЛЕНИЕ КВАРТЕТА ИМЕНИ БОРОДИНА. «Советская музыка», 1960, №8.
Г.Черкасов. "Концерты Святослава Рихтера". "Музыкальная жизнь", 1960, № 19.
Журнал «АМЕРИКА», №56 (1960) "Великий мастер рояля"
«БЛЕСТЯЩИЙ И МОГУЧИЙ ПИАНИСТ». АМЕРИКАНСКАЯ ПРЕССА О КОНЦЕРТАХ
СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА (15&19/10/1960). «Музыкальная жизнь», 1960, №21.
А.Баранова. «РИХТЕР ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ГЕНИЙ РУССКОГО НАРОДА». «Советская музыка», 1961, №2 (Обзор американской печати).
Д.Рабинович. Мысли о листианстве. - «Советская музыка», 1961, №10, с.77-86.
М.Мильман. СОНАТНЫЙ ВЕЧЕР М.РОСТРОПОВИЧА И С.РИХТЕРА. «Советская музыка». 1962, №4
М. Тероганян. Европейское путешествие С.Рихтера .«Советская музыка», 1962, №4.
«Уникум среди пианистов». «Музыкальная жизнь», № 14, июль, 1962.
Д.Рабинович. "Рихтер играет последние сонаты Бетховена". «Музыкальная жизнь», 1964, №3.
Хроника. «Музыкальная жизнь», № 18, сентябрь, 1964 (концерт в Перми).
Г.Цыпин. В восприятии наших современников. - «Советская музыка», 1965, №3, с.74-78.
Я.И.Мильштейн. «Слушая Рихтера». "Советская музыка", 1965, №4.
Я.И.Мильштейн. «На концертах Святослава Рихтера». «Музыкальная жизнь», 1965, № 24
Е.Грошева. На Зальцбургском фестивале. - «Советская музыка», 1966, №1, с.110-119.
"Юбилейный сезон баршаевцев". "Музыкальная жизнь", 1966, № 12. Фото О.Цесарского.
В.Ю.Дельсон. "Святослав Рихтер играет сонаты Прокофьева". "Музыкальная жизнь", 1966, № 13.
"Весенние встречи с музыкой". «Советская музыка», 1966, №9
М.Посельская. "Час в обществе Рихтера". «Советская музыка», 1966, №12.
Л.Беспрозванный. «Записки театрального администратора. Первый концерт Святослава Рихтера».
«Сибирские огни», 1967, №7.
Мартин Кадье. Вечера, которые нельзя забыть. «Советская музыка», 1967, №8.
"Московские звезды. Фестиваль искусств СССР". "Музыкальная жизнь", 1967, №13.
По идее Святослава Рихтера. "Музыкальная жизнь", 1967, №19.
В.Грицевич. "Слушая грамзаписи. Четыре сонаты Гайдна". "Музыкальная жизнь", 1967, №22 (фрагмент).
М.Самарский. "Московский музыкальный сезон открыт" (Исполнение Рихтером Концерта Бриттена). "Музыкальная жизнь", 1967, №22.
«…СОЮЗ НЕСРАВНЕННОГО ПЕВЦА И НЕСРАВНЕННОГО ПИАНИСТА….» ««Советская музыка», 1967, №12».
Я.Мильштейн. НА ВЕРШИНАХ ИСКУССТВА. «Советская музыка», 1968, № 1.
В.Ю. Дельсон. "Мудрое искусство". “Музыкальная жизнь” № 16 [258], август 1968.
Д.Шафран. «ЖЕМЧУЖИНА КАМЕРНОГО РЕПЕРТУАРА». «Советская музыка», 1969, №9
А.Предтеченский. «Перелистывая концертные программы». «Советская музыка», 1969, №12.
Премьера скрипичной сонаты Шостаковича. "Советская музыка", 1969, №7.

В. Дельсон
«Советская музыка», 1960, № 5
СВЯТОСЛАВ РИХТЕР
Масштабы исполнительского искусства С. Рихтера трудно переоценить. Его концертная деятельность, необъятный репертуар, а в особенности, огромное количество прекрасных записей на пластинки создали ему мировую славу. Влияние его выступлений на учащуюся музыкальную молодежь необычайно.
«Рихтера я считаю учеником нашей страны, нашего времени и нашего народа, и только в последнюю очередь своим...» – говорит Г. Нейгауз. Это верно, и не должно ни в малейшей степени умалить выдающихся заслуг Г. Нейгауза в воспитании С. Рихтера, как музыканта и мастера.
В чем же сила воздействия рихтеровского искусства, в чем корни его успеха одновременно и у широкой аудитории, и у строгих знатоков?
В истории музыкального исполнительства не так легко найти примеры столь интенсивного развития в одном художнике интеллектуального и эмоционального начал, яркости и глубины, артистичности и мастерства, безукоризненного вкуса и виртуозного блеска, монументальности и динамизма.
Конечно, все эти разные и, нередко, противоборствующие черты творческого облика С.Рихтера находятся в весьма сложном взаимодействии, которое, в конечном счете, и определяет стиль и характер его исполнительского искусства. Но ведь их и следует рассматривать как диалектически противоречивые слагаемые единого художественного целого.
Судьба сложилась так, что С. Рихтер начал уделять серьезное внимание пианистическому мастерству уже будучи почти зрелым музыкантом-художником. В этом – необычность его музыкального развития. Он сам говорит, что по-настоящему заниматься, как пианист, начал лишь с 1942 г. (то есть 27 лет от роду!). Но именно тогда же он буквально «засыпал» публику своими концертами, поражая новизной и количеством разнообразных программ. Его игра была вдохновенна, ярка, содержательна, но еще не лишена и некоторых черт надуманности, отвлеченности, рационализма.
Дальнейшее развитие С. Рихтера, как художника, шло по пути овладения искусством непосредственности выражения, по пути большего раскрепощения важнейшего источника и стимула непосредственности – интуиции. Несомненно, смелые творческие взлеты, столь характерные в настоящее время для С. Рихтера и придающие его выступлениям особую силу воздействия, являются результатом его правдивой, непосредственной увлеченности (полного «вживания в образ») и, в то же время, умения всецело скрыть от слушателей интеллектуальный контроль.
Однако, в этой смелости и связанном с ней риске таятся и подстерегающие его искусство опасности, которые иногда (хотя и редко) пианисту не удается обойти. Полная «отдача» всего себя до конца искреннему искусству переживания, стихийное увлечение воплощаемыми образами (вспомните присущие С. Рихтеру «взрывы темперамента») не всегда ограждают исполнителя от необузданности экспрессии. На какие-то мгновения непосредственность высказывания вырывается из- под властной формирующей силы художественного мастерства, эмоциональное начало в его пианизме перехлестывает через край, и тогда необходимое для художника чувство меры уплывает из-под интеллектуального контроля. Это – первая трудность в принципе верного, но весьма не легкого «пути наибольшего сопротивления», на который С.Рихтер мужественно вступил. Но ведь кто в художественном творчестве не решается на отважный риск, тот никогда не достигает труднодоступных вершин!
Еще коварнее – вторая опасность. С. Рихтер – глубоко мыслящий, ищущий и порой экспериментирующий исполнитель. Не случайна его столь явно выраженная склонность к первому исполнению и к восстановлению забытых произведений.. Концепция, трактовка, стиль, раскрытие своего видения – его всегда интересуют и волнуют. И ему обычно удается найти новое, своеобразное, более сильное и более совершенное раскрытие образа (таковы шедевры его искусства: интерпретация моцартовского ре-минорного концерта, фантазии «Скиталец», сонат ля минор соч. 42 и ре мажор соч. 53 Шуберта, Большой сонаты и Первого концерта Чайковского, «Картинок с выставки» Мусоргского, Первого концерта, Седьмой и Девятой сонат Прокофьева) Второго концерта Бартока и многого другого). Но порой С. Рихтер полемически заостряет найденное им интересное решение (первая часть Второго концерта Рахманинова; в известной мере – этюд «Блуждающие огни» Листа). Иногда нарочитая направленность концепции, трактовки выпячивается на первый план и ее не удается скрыть за чувственно-впечатляющей поэзией образов.
Обобщаем: когда у С. Рихтера органически едины смелость его «вживания в образ», темперамент, увлечение, экспрессия и, с другой стороны,– сосредоточенный, глубокий замысел, трактовка, концепция,– создаются условия для потрясающего взлета его исполнительского творчества. В момент такого единства сила воздействия рихтеровского пианизма безгранична, она увлекает за собой (например, в «Патетической сонате» Бетховена, сонате си минор Листа, в произведениях Баха) даже не согласных с трактовками артиста. Нередко в такие моменты все воспринимается как абсолютно оправданное; насквозь эмоциональная виртуозность С.Рихтера не признает никаких компромиссов ради технических удобств, используется «на предельном риске» и потому, как всегда все смелое в действиях человека (и художника!), вызывает восторженный отклик (вспомним темпы и четкость игры в «Мефисто-вальсе» Листа или его же этюде «Блуждающие огни», а также и в квинтовом этюде соч. 65 Скрябина!). Нередко слушатель испытывает глубокое эстетическое наслаждение даже от самого процесса прекрасного художественного мастерства пианиста (например, в не слишком интересной Второй сонате Шимановского).
Отсутствие же указанного единства – преувеличенность экспрессивности или преувеличенность концепционности – является основным источником почти всех уязвимых моментов в исполнительстве С. Рихтера. Таковы эстетические и психологические предпосылки необычных темпов (наиболее яркие примеры – исполнение прелюдии соч. 11 № 2 Скрябина: резкая замедленность темпа, противоречащая образной сущности прелюдии и, с другой стороны – трельный этюд Скрябина из соч. 42: резкая ускоренность темпа, уничтожающая возможность восприятия утонченной мелодической нюансировки). Такова же слишком подчеркнутая (вероятно, не преднамеренно) полемичность, в целом, весьма интересно найденных новых трактовок: первая часть до-минорного концерта Рахманинова, где чрезмерные замедления – правда, лишь в некоторых выступлениях С. Рихтера – останавливали движение образа, процесс его развития, дыхание музыкальной ткани; или с замечательной принципиальностью, с мастерством проводимая «одноплановость» характера и темпа в «Блуждающих огнях» Листа, в то же время совершенно «снимающая» элементы острой, почти демонической фантастичности в этом этюде (вспомним остроту акцентировки в партии левой руки, у С. Рихтера совершенно «стушеванную»)
Чрезмерно подчеркнутый и догматический характер носит и отказ С. Рихтера от исполнения каких-либо (даже самых ценных и незаменимых!) транскрипций органных произведений Баха, песен Шуберта и др.
В чем же, выражаясь языком Д. Шостаковича, «пристрастие, взгляды, пафос творчества» пианиста? Их, прежде всего, определяет его репертуар. Напрасно иногда говорят о С.Рихтере, как о пианисте всеядном. Да, репертуар от Баха до Бартока и от Шумана до Шимановского или от Мусоргского до Скрябина и советских авторов действительно необъятен. Но в основе этой многогранности репертуара лежит умение вникать в историческое и индивидуальное своеобразие различных явлений искусства, широта художественных взглядов (а не эклектичность). И кто станет, несмотря на эту широту, утверждать, что у пианиста нет определенных пристрастий? Ведь Шуберт и Прокофьев для него то же, что лирика Чайковского для Игумнова, Скрябин для Софроницкого, Дебюсси для Гизекинга, Бах для Глена Гульда. (Но рмхтеровская интерпретация Шуберта и Прокофьева заслуживает отдельного исследования).
Конечно, не в одних репертуарных пристрастиях проявляются исполнительские взгляды пианиста.
Об эстетических основах пианизма С. Рихтера, как об одном из наиболее сложных и интересных явлений исполнительского искусства современности, можно сказать очень много. Но, несомненно, контрастность и динамизм являются «пафосом» его творчества; прежде всего в предельном динамизме заключается и специфическая современность его искусства. С другой стороны, так называемое «моцартовское начало» настолько глубоко вошло в психику Рихтера-музыканта. что стало в какой-то мèpe также одной из основ его исполнительского стиля. Об этом не раз писали критики: «...что-то моцартовское чувствуется в той легкости, с какой дается Рихтеру музыка, в непогрешимости его вкуса, в кристальной ясности, чистоте линий всего его искусства...» – отмечал Г. Коган. В той мере, в какой моцартовское начало может быть противопоставлено листовокому, внутренняя, органическая склонность С. Рихтера к первому несомненна (хотя по своему характеру виртуозности, владению «ключами» ко всем видам фортепьянной техники, мгновенному охвату произведения, вне зависимости от его трудностей, потрясающей читке «с листа», оркестровому fortissimo – «листовская направленность» пианизма С. Рихтера нередко вводит в заблуждение слушателя). Наконец, именно от «моцaртовского начала» протягиваются нити к столь любимому С.Рихтером Шуберту, в котором пианист в большей степени вскрывает лирическую чистоту и поэтическую непосредственность, легкость и радостность – то есть, опять-таки моцартовские черты,– чем напряженность, переживаний и тревожную вэволнйваниость романтизма.
«Моцартовское начало» у С. Рихтера продолжает и развивает некоторые элементы моцартианства в русском музыкальном искусстве XIX века. В наше время отдельные обобщенные черты моцартианства можно проследить и в светлом тонусе ряда лирических творений С. Прокофьева, и в характерных чертах светлого и гармоничного исполнительского искусства Л.Оборина, Д.Ойстраха, Д.Шафрана. Отмечая и в эстетике искусства С.Рихтера некоторые элементы моцартианства, мы, таким образом, косвенно устанавливаем не только черты индивидуальной неповторимости, но и исторически обусловленной закономерности его (неслучайно, одной из вершин мастерства С. Рихтера является интерпретация моцартовского концерта ре минор). Сочетание новаторского, драматизированного динамизма со своеобразно преломленными традициями светлого моцартианства является одним из интереснейших примеров слияния традиций и новаторства в исполнительском искусстве.
Мы постарались обрисовать только некоторые черты замечательного искусства С. Рихтера, завоевавшего большую, горячую любовь многих слушателей. Это великолепное искусство должно стать предметом разностороннего и серьезного эстетического исследования в такой же степени, как и всякое подлинно прекрасное явление нашей художественной жизни.
В. Дельсон

Ю.А.Шапорин
«Правда» от 10 июня 1960 г.
СЛУШАЯ РИХТЕРА
Дневник искусств
Самой природой он словно «вылеплен» огромным музыкантом, сила творческого вдохновения которого безраздельно покоряет. Что бы он ни играл, с первых же тактов мы оказываемся во власти внутреннего горения, художественной воли пианиста – столь мощных, что они заставляют слушателя почувствовать: эту музыку можно и должно истолковывать только так!
Много редких качеств, порою кажущихся даже полярно противоположными, сочетает в себе индивидуальность Святослава Рихтера. Игре его присущи необычайный – почти «демонический» – эмоциональный размах, умение доводить бурные вспышки темпераментности в выражении чувств до предельного накала. Вместе с тем в исполнении Рихтера мы постоянно ощущаем глубокий и тонкий интеллект художника-мыслителя, умного интерпретатора музыки самых разных времен и стилей. Ему одинаково близки и высокая героика, и проникновенный лиризм. Пианист склонен к выявлению самых острых и резких контрастов, предельной динамизации музыкальной ткани, но он владеет также безошибочным архитектоническим чутьем, позволяющим точно и ясно соразмерить целостную форму самого сложного и трудного для восприятия произведения. Обладая феноменальными техническими ресурсами, Рихтер никак не может быть отнесен к типу так называемых «чистых виртуозов» техника исполнения строго подчинена у него высшей – художественной! – цели.
В конечном же счете пианистический стиль Рихтера отличают высокая человечность, простота, строгость, огромное уважение к авторскому замыслу. Последнее качество сочетается с предельной смелостью трактовки, но смелость эта никогда не идет вразрез с авторским текстом, наоборот, она словно просветляет его, делает любое, даже давно знакомое произведение еще более близким и по-настоящему современным.
Именно в этом – вся природа новаторского исполнительского стиля выдающегося советского пианиста. Его высокий интеллект дает свою, новую трактовку самым «заезженным» вещам не вопреки композитору, а в процессе выявления всех скрытых возможностей, которые таит в себе авторский текст. Артист передает произведение композитора в его первозданной художественной силе и красоте.
Огромен репертуар пианиста: от Баха, Моцарта, Гайдна, Бетховена до Прокофьева, Шостаковича, Бартока... Трудно перечислить все блистательные достижения Рихтера, трудно сказать, что удается ему больше всего. С несравненным совершенством, с глубоко человечной трепетностью передает он лирику Шуберта.
Огромным вдохновением, монументальностью отмечено исполнение Рихтером бетховенских сонат. Он является выдающимся истолкователем музыки Сергея Прокофьева – одного из самых любимых, пожалуй, своих композиторов. Назвать всего невозможно – для этого потребовалось бы перечислить почти всю мировую фортепианную литературу.
В заключение следует отметить еще одну черту замечательного пианиста: его безупречный художественный вкус, не терпящий никаких уступок чувствительности, слезливой сентиментальности – этим суррогатам подлинного чувства. Строгое искусство Святослава Рихтера всегда поднимает слушателя и доставляет людям так много радости, так много прекрасных, незабываемых впечатлений.
Вчерашний концерт в Большом зале Московской консерватории, программа которого была посвящена Гайдну и Бетховену, явился новым подтверждением блестящего мастерства, высокой одухотворенности игры нашего замечательного музыканта. Переполнившая зал публика, как всегда, горячо приветствовала артиста – одного из ярчайших представителей советской пианистической школы.
-----------------------------------------------------------------------------
1 Святослав Рихтер (р. 1915), ученик Г. Нейгауза. Первая премия на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей (1945), Государственная премия СССР (1950), Ленинская премия (1961), народный артист СССР (1961).
Флорестан
«Советская Музыка», 1960, №6.
С.Рихтер играет Бетховена
Определить творческий облик С. Рихтера одним словом, пожалуй, невозможно. Характеристики «романтик», «классик», «мечтательный», «неистовый» и т. п. – неудачны: передавая отдельные стороны его искусства, они оставляют за бортом другие важнейшие свойства, и портрет пианиста оказывается, мало сказать, недовершенным, – неверным!
С. Рихтер поражает умением отыскивать особый ключ к любому автору, любому произведению. Не склонный преподносить аудитории некий «бетховен ский стиль вообще», он находит индивидуализированное выражение для каждой сонаты, для каждой части в ней – в соответствии с данной музыкой. При этом не исчезают ни бетховенская монолитность, ни исполнитель, как цельная творческая личность.
В Presto Седьмой сонаты Рихтер напорист до преднамеренной жесткости. Начальные октавы завершаются у него устойчивым решительным sforzando, энергия движения неудержимо влечет слушателя от главной партии к побочной, к заключительной. В разработке ритмическая мерность грозила бы превратиться в метричность, не будь исполнение «заряжено» внутренним волевым напряжением, не будь столь точно почувствованы и распределены динамические градации. И вдруг пианист погружается в «предромантическую» атмосферу (Largo е mesto), но без малейшей эмоциональной расслабленности, без тени бравирования показными «глубинами». Все ясно и просто: подлинная глубина Largo раскрывается Рихтером в самой музыке, а не через навязываемую ей нарочитую «философичность» трактовки.
Два менуэта – из Седьмой и Восемнадцатой сонат. Их грация по-бетховенски непритязательна. Первый менуэт в исполнении Рихтера – как бы мирная сельская идиллия; средний эпизод звучал с оттенком грубоватого веселья. Второй был полон лирической теплоты.
И все-таки «разный» Рихтер неизменно остается единым, сразу же опознаваемым. Слушая, как исполняют Бетховена многие наши концертанты, ловишь себя на невольных сопоставлениях: у одного – «нейгаузовский» Бетховен, у другого –- «игумновекий», у третьего – Бетховен Шнабеля... В концертах Рихтера подобные «вспомогательные» ассоциации почти не возникают. Не оттого, конечно, что в его толкованиях все рождено исключительно им самим. Непременные в каждом по-настоящему большом явлении искусства, преемственные связи наличествуют и в рихтеровских трактовках. Однако в момент восприятия сила его игры не оставляет возможности отвлекаться в сторону «сопутствующих размышлений». И, что еще важнее, Рихтер всегда соединяет уже известные элементы в новом синтезе.
Он передает первую часть Семнадцатой сонаты без каких-либо «неожиданностей»: значительность исходной импровизационной фразы Largo, взволнованность Allegro, чередование «наступательной» решимости и горестных жалоб ,в дальнейшем мелодическом диалоге, -– ничего выходящего за рамки общепринятого. Но за эти рамки выходит весь тонус его .интерпретации: определенность звучаний даже в еле слышимых, «бестелесных» pianissimo, массивность негромких forte, четкость линий, гранитная прочность конструкций, напор скрытого темперамента, позволяющий Рихтеру оставаться суровым и строгим ,в эпизодах, так часто исполняемых с устрашающими контрастами, в необузданных темпах. На первый взгляд, его трактовка может показаться излишне сдержанной, не «волнующей»; в действительности, пианист лишь отчетливо понимает коренную разницу между бетховенской аппассионатностью» и романтическим passionato.
Так же отчетливо различает он бетховенекие и романтические brio, con fuoco.
В Восемнадцатой сонате ему вполне хватает скромных выразительных средств. Он играет вполголоса, воздушно, лишь на мгновение – в минорном эпизоде разработки Allegro – окрашивая исполнение в драматические тона, лишь на кратчайшие мгновения доводя в финале динамику до fortissimo.
В концерте 1 апреля Рихтер, как всегда, превосходно сыграл ми-бемоль-мажорную сонату Гайдна, как всегда, проникновенно – ля- бемоль-мажорный экспромт Шуберта, грандиозно – первый и последний шопеновские этюды соч. 10. Однако, мы говорим о его Бетховене. Пусть в трактовке пианиста что-то кому-то представляется спорным. Но она по-своему замечательна. Это еще один, вполне самостоятельный путь исполнительского претворения Бетховена. И как хотелось бы услышать в исполнении Рихтера цикл, включающий все 32 бетховенские сонаты!
Флорестан
Я.Мильштейн
«Советская музыка», 1960, № 8
НА КОНЦЕРТАХ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА
Мало кого из современных пианистов можно сравнить с Рихтером по яркости и многосторонности исполнительского дарования. Почти нет области в фортепьянной литературе, куда бы не устремлялся его мощный художественный интеллект. И во всем с редкой проницательностью находит он всегда нечто новое, сильное, более совершенное. Даже в «заигранных» произведениях пианист подмечает такие особенности, такие многозначительные «мелочи», что невольно поражаешься его неожиданным открытиям и находкам.
Выступления Рихтера в Москве на протяжении двух весенних месяцев (после годичного перерыва) лишний раз подтвердили многосторонность его таланта, широту концепций, умение раскрыть индивидуальное своеобразие различных стилей и композиторов. Он играл сочинения Гайдна, Шуберта, Шумана, Шопена, Рахманинова, Прокофьева, Регера (фортепьянный квинтет). Но центром его программ несомненно были сонаты Бетховена. Рихтер исполнял их в пяти концертах, причем некоторые сонаты – ре мажор соч. 10, фа мажор соч. 54, фа минор соч. 57,– повторял дважды. Его трактовка бетховенских сонат принадлежит к числу самых высоких достижений пианистического искусства и несомненно заслуживает отдельного эстетического анализа. Такую законченную и в то же время живую интерпретацию редко приходится слышать.
Как великолепно, например, была исполнена соната ре мажор соч. 10. Первая часть с ее обилием быстролетных впечатлений и напористым бегом сразу же увлекла слушателей стремительной непосредственностью; особенно удалась Рихтеру разработка – тревожные интонации (словно вскрики) на фоне непрерывного метрически четкого движения. Вторая часть – внешне сдержанная и суровая – без малейшей эмоциональной расслабленности воссоздала скорбное настроение, полное силы и внутреннего напряжения, с различными оттенками света и тени. С первых же аккордов, как бы поддерживающих величаво-печальное движение восьмых в мелодии, слушатели находились во власти исполнителя. Интонация мольбы, жалобы, прерывающиеся патетические вздохи, внезапные контрасты, нарушающие плавное течение мелодии, тревожные, гневные порывы - все служило для раскрытия глубоко человечного замысла. Третья часть – спокойный, пластически ясный менуэт исполнялась пианистом с какой-то безмятежной грацией, с присущими ему строгостью и безупречностью вкуса; четвертая, с ее несколько капризным, лукавым характером и изменчивыми, перемещающимися образами, интерпретировалась необычайно легко и непринужденно: ни одной лишней подробности, которая заслоняла бы общий извилистый рисунок.
Сильное впечатление оставила соната ре минор соч. 31. Не знаешь, что здесь более всего удалось пианисту: спокойно-импровизационный раздумчивый характер вступительного Largo либо последующее, взволнованное, полное страстной тревоги Allegro, задумчиво-печальные, словно вопрошающие речитативы с поразительно тонким ощущением звуковой перспективы, или величавое спокойствие си-бемоль-мажорного Adagio (прозвучавшего интимно, просто и в то же время оркестрально) ; или, наконец, финальное Allegretto с его призрачной, словно сплетенной из паутинок тканью
(Allegretto было сыграно с поистине редким совершенством и упоительной легкостью).
В сонате ми бемоль мажор соч. 31 Рихтер достиг удивительной гибкости эмоциональных оттенков: она была и в разнообразной «подаче» мелодических интонаций, и в свободном обращении с ритмами, и в красочно-выразительном чередовании гармоний. Скерцо прозвучало совсем необычно: легко, полетно, стремительно и, вместе с тем, с предельно точным ощущением и выявлением всех регистровых контрастов. Менуэт был полон лирической непосредственности
и теплоты; финал, сыгранный в головокружительном темпе, увлекал искрящейся, бьющей через край жизнерадостностью.
В двухчастной сонате фа мажор соч. 54 пианист великолепно передал контрастную картину бетховенских образов; величественная и энергичная поступь менуэта (с его жесткими, подчеркнуто сухими октавами) в первой части и легкий, непринужденный бег шестнадцатыми, своего рода «perpetuum mobile», – во второй, предельная четкость, определенность образов, с одной стороны, и некоторая расплывчатость, скольжение причудливо изменяющихся контуров – с другой.
Но, быть может, вершин художественной выразительности и мастерства Рихтер достиг в сонате фа минор соч. 57 (Appassionata). Это была на редкость содержательная и в то же время напоенная страстью игра. Широко задуманная основная концепция и четкая разработка деталей, окрыленная, не знающая предела фантазия и сдерживающая сила интеллектуального контроля, бурные эмоциональные взлеты и спокойно-созерцательные, задушевные чувства. Рихтер оперирует здесь точно рассчитанными построениями и никогда не находится во власти случайностей. Он организует фразу, которая иногда воздвигается и поддерживается сопутствующими боковыми элементами, искусно размещенными вокруг центральной точки. Он восходит то постепенно, то сразу, чтобы достичь вершины, и после момента равновесия начинает спуск к намеченной грани, спуск то крутой, то отлогий. Фраза его в самом своем существе целеустремленна, упруга. Первая часть сонаты у Рихтера – это сплав героической лирики с интонациями настороженного ожидания и душевного трепета, вторая – олицетворение целомудрия и чистоты, третья – буря страстей человеческих, ярость стихии, все сметающей на своем пути. Когда слушаешь финал в исполнении Рихтера, то невольно вспоминаешь слова Ромена Роллана: «...словно ряды наступающих волн, которые разбиваются о скалу, покуда не сокрушат и не потопят ее».
Размеры статьи не позволяют подробно остановиться на интерпретации сонат до мажор соч. 2, си бемоль мажор соч. 22, ля бемоль мажор соч. 26. Не всё в них прозвучало одинаково: одни части были сыграны с неподдельным вдохновением, другие – как-то холодновато, в несколько застывшей манере. Но во всем сказывалось редкостное умение пианиста быть всегда самим собой и в то же время строго придерживаться авторского текста; чувствовалось сознательное желание растворить себя в исполняемом. В этом отношении Рихтер, как и во всем другом, не знает половинчатых решений. Он проникает в самую глубь, в самую сердцевину исполняемой музыки. Даже те эпизоды, которые звучали у него как-то необычно и показались непривычными, – не были надуманными. Ибо эта непривычность заключалась отнюдь не в отклонении от текста подлинника, а в отклонении от привычных схем интерпретации, от шаблона.
Мы специально остановились на исполнении сонат Бетховена, ибо они, повторяем, стояли в центре программ Рихтера. Но это ни в какой мере не умаляет значимости его интерпретации других авторов. Сошлемся хотя бы на сыгранные им сонаты Гайдна (из них особенно запомнилась соната ми бемоль мажор), пьесы Шумана, прелюдии Рахманинова, Шестую сонату и пьесы Прокофьева, Фортепьянный квинтет Регера, Экспромт ля бемоль мажор Шуберта, этюды №№ 1 и 12 соч. 10 Шопена и др. Прелюдии Рахманинова звучали, например, у Рихтера так, что казалось – это предел совершенства. Никакой искусственности, никакой позы, никакой погони за дешевыми эффектами. Пианист творил за роялем непосредственно, как творит природа, он играл всем своим существом. Смелость и размах, стремительный удар, не отстающий от мысли, захватывающая бурлящая сила, несравненная легкость, блеск красок, чередование теней и полутеней. Вся многослойная ткань прелюдий словно ожила под пальцами Рихтера; лирические эпизоды захватывали слушателей не меньше, чем драматические кульминации: все было подчинено единой направляющей мысли.
Таким же совершенством, особым чувством цельности и умением осуществить эту цельность было проникнуто исполнение сочинений Прокофьева (Шестая соната, сонатина-пастораль, «Мысли» и др.). Рихтер взошел здесь на такую вершину, где личность интерпретатора и личность композитора (насколько она проявилась в этих произведениях) органично сливаются. Стройные, графически четкие линии, великолепные в своей остроте контрасты, неожиданные акценты, резко очерченные и в то же время метрически свободные формы, неисчерпаемое богатство красок, полная гармония отдельных эпизодов, малейшие детали которых отделаны с величайшей тщательностью, эмоциональная насыщенность, ни в чем не переходящая во внешнюю аффектацию, – все казалось совершенно естественным в этом удивительном по свежести и размаху исполнении.
О Рихтере уже много писали, еще больше напишут в будущем. И это вполне закономерно. Его искусство – одно из самых примечательных, ярких, прекрасных и вместе с тем сложных явлений современности.
Я. Мильштейн,
Э.Денисов
«Советская музыка», 1960, №8.
ВЫСТУПЛЕНИЕ КВАРТЕТА ИМЕНИ БОРОДИНА
В первом отделении прозвучали уже не раз исполнявшиеся «бородинцами» квартет С.Барбера и четвертый квартет Д.Шостаковича.
Как нельзя лучше соответствовала теплая, стройная и нежная игра лирическим откровениям замечательного четвертого квартета. Это сочинение лишено «симфонизма», который так ощутим в музыке второго, третьего и пятого квартетов композитора, но пленяет поэтичностью и непосредственностью музыкального высказывания. У артистов прекрасно звучат «полутона» (вспомним хотя бы их исполнение произведений Равеля и Дебюсси, они тонко чувствуют всю прелесть ладовой перекраски, хрупкость и изящество мелодического рисунка. Мастерски была передана трепетная «игра теней» в жутковатом «ночном» скерцо.
Кульминацией программы явилось исполнение фортепьянного квинтета соч. 64 Регера при участии С. Рихтера. Изобилующее психологическими, техническими и фактурными сложностями сочинение Регера заняло все второе отделение. Уже первая часть – обширное сонатное Allegro – потребовало значительного напряжения не только от исполнителей, но и от публики. Обладая многими достоинствами, музыка Регера иногда весьма трудна для восприятия. Многоголосная и многозвучная фактура квинтета (с широким использованием приемов крупной фортепьянной техники) насыщена до предела различными полифоническими комбинациями и почти не оставляет места для необходимого в таких случаях «отдыха». Правда, две последующие части несколько разрядили чрезмерную «сгущенность» музыкальной атмосферы. Мимолетное скерцо, сыгранное С. Рихтером с огромным темпераментом, перешло (без перерыва) во вдохновенное Lento –смысловую вершину произведения. Быстрый и сложный по фактуре финал не внес новых музыкальных образов, но хорошо завершил цикл.
С. Рихтер играл «в полную силу» и тем не менее, ансамблевая звучность оставалась идеальной; не было ни одного места, где пианист заглушал бы партнеров. Даже в самом большом fortissimo были ясно слышны вторая скрипка и виолончель. Исполнение квинтета Регера вновь показало, в какой превосходной форме находятся сейчас артисты квартета имени Бородина и. сколь велико ансамблевое мастерство С. Рихтера.
. Э. Денисов

Г.Черкасов
"Музыкальная жизнь". 1960, № 19.
https://yadi.sk/i/VL_KBhTn3EuKXU
КОНЦЕРТЫ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА
Во второй половине сентября замечательный советский пианист Святослав Рихтер дал три концерта в Большом зале консерватории, исполнив перед московскими слушателями часть репертуара, подготовленного для гастрольной поездки в Соединенные Штаты.
От Гайдна до Прокофьева – таков диапазон этих трех программ. По широте охвата различных музыкальных стилей, по великолепному качеству исполнения концерты Рихтера явились выдающимся событием в культурной жизни Москвы.
Редкостная способность видеть целое, ясно различая в то же время все мельчайшие детали, умение тонко воспроизвести колорит эпохи, никогда не впадая в стилизацию, – вот что характерно для пианистического искусства Рихтера. Эти черты проявились уже в исполнении до-мажорной сонаты Гайдна (соч. 79). Произведение, написанное два столетия назад, прозвучало удивительно свежо и современно. Особенно глубоко передал пианист мудрую просветленность Адажио, сыгранного очень искренно и задушевно.
С подлинным вдохновением были исполнены три новеллетты Шумана (№1, 2 и 8, соч. 21). Во всем богатстве своих контрастов предстала вторая из этих пьес, где лирическое интермеццо обрамлено бравурными крайними частями; прекрасно была сыграна довольно сложная по форме новеллетта № 8.
Масштабность и целостность исполнительского замысла четко ощущались в интерпретации ля-бемоль-мажорной баллады Шопена. Словно на едином дыхании, была сыграна и Пятая соната Скрябина с ее бурными взлетами эмоций, чуткой настороженностью и порывами неясного томления.
Если в «Острове радости» Дебюсси некоторые нюансы показались, быть может, чуть приглушенными, то исполнение таких его пьес, как «Колокольный звон сквозь листву» и «Отражения в воде», было поистине изумительным. Когда слушаешь у Рихтера эти произведения, когда сияет и переливается тончайшими оттенками красок музыка «Печальных птиц» и «Игры воды» Равеля, забываешь обо всем – только любуешься сказочно прекрасными картинами, возникающими в твоем воображении.
Святослав Рихтер известен как непревзойденный интерпретатор фортепьянных сочинений Прокофьева. Еще до окончания Московской консерватории он превосходно играл в открытых концертах Вторую сонату, позднее явился первым исполнителем Седьмой и Девятой сонат (последняя посвящена ему автором). Москвичам памятны и выступления артиста с Первым и Пятым концертами.
Сохраняя «токкатность» прокофьевской музыки, Рихтер умеет выявить и донести до слушателей ее затаенную лирическую теплоту. Он убедительно опровергает довольно распространенную теорию о том, что Прокофьева надо играть сухим, даже «колючим» звуком.
Одна из программ сентябрьских концертов была целиком посвящена творчеству этого композитора. Очень ярко прозвучала Шестая соната, особенно ее вторая часть, сыгранная подкупающе просто, с еле уловимым мягким юмором. Но самое сильное впечатление оставил, пожалуй, финал’ Восьмой сонаты. Здесь в полной мере проявилась «симфоничность» музыкального мышления Рихтера. С грандиозным размахом было передано постепенное нарастаний звучности в эпизоде Allegro ben marcato. Так играть, совсем не ощущая технических трудностей, может лишь художник, в совершенстве постигший все тайны мастерства.
«Мелодия, в которой открыты новый изгибы и интонации, – писал в своей «Автобиографии» Прокофьев, – сначала вовсе не воспринимается как мелодия, потому что она пользуется оборотами до сих пор мелодическими не считавшимися. Но если автор прав, то, значит, он расширил диапазон мелодических возможностей, и слушатель неминуемо последует за ним, хотя и на приличном расстоянии».
Когда играет Святослав Рихтер, это расстояние сокращается до минимума: Все становится ярким, полновесным, все близко и понятно слушателям.

Журнал «АМЕРИКА», №56 (1960)
Журнал «АМЕРИКА», №56 (1960)
https://yadi.sk/i/e8J7OjoG3FALyg
https://yadi.sk/i/0HLbBgW33FAMQ3
Продолжавшиеся два с половиной месяца гастроли Святослава Рихтера вызвали восхищение среди любителей музыки. На фото: Пианист благодарит вашингтонцев за бурную овацию. «Я глубоко тронут – и глубоко сожалею об отъезде, – сказал он корреспондентам. – Очень хотелось бы снова посетить вас». Восторженный прием, оказанный Рихтеру, свидетельствует о горячем желании публики встретиться с ним еще раз.
Четыре выразительных момента игры Святослава Рихтера во время исполнения Шестой сонаты Сергея Прокофьева. Перед самым отъездом из Соединенных Штатов пианист беседовал с американскими музыковедами и, касаясь своего исполнения сонаты, между прочим заметил: «Медленную часть я играю очень лирично, почти как очень медленный вальс. – В глазах Рихтера запрыгали шаловливые искорки, и он добавил: – Конечно, танцевать под такой вальс невозможно».
ВЕЛИКИЙ МАСТЕР РОЯЛЯ
Когда вы слушаете Рихтера, вас целиком захватывает сила его исполнения. Она вас поражает, потрясает, ошеломляет. Лично меня ослепил блеск его игры.
Джей С. Гаррисон,
музыкальный критик газеты «Нью-Йорк тайме»
Рояль Святослава Рихтера звучит, как оркестр, звучит, как двадцать различных инструментов, зачастую, как два-лпри одновременно. Замечательная соната Гайдна, которой начался его концерт, была не просто фортепьянным произведением, а целой симфонией.
Дэй Торп,
музыкальный критик газеты «Вашингтон стар»
Изумительный виртуоз, блестящий музыкант с пытливым умом, хорошо осведомленным и в то же время интуитивным, Рихтер – огненный художник ... Раздались громкие овации, вызовам не было конца. Началось что-то вроде вавилонского столпотворения, и никто из присутствовавших в зале не забудет пережитого никогда, во всяком случае, не забудет Второго концерта Брамса.
Клодия Киссиди, музыкальный критик
Газеты «Чикаго трибюн»
Этот Рихтер вовсе не трезво мыслящий человек нашей машинной эпохи. Он музыкант конца прошлого века, истый романтик девятнадцатого столетия. Скромность в нем сочетается с пышностью, робость – с самоутверждением. Мне довелось работать с ним над Вторым концертом Брамса. Работа была действительно огромная. Многие высказываемые Рихтером мысли звучали крайне убедительно, и мне казалось, что они исходят из самой музыки.
Эрик Лейнсдорф,
Дирижер, выступавший с Чикагским симфоническим оркестром.
Сильнее всего меня потрясла его манера обращаться с простыми мелодиями. Кто сказал, что рояль инструмент ударный? .. Рихтер полностью оправдал наши самые смелые ожидания и разнесшиеся до его приезда легенды. Он – феноменальный музыкант.
Поль Генри Ланг,
Музыкальный критик «Нью-Йорк геральд трибюн»
Выдающаяся особенность Рихтера – его удивительное умение сочетать силу с легкостью. Его инструмент порой гремит в «виртуозной манере», столь популярной в прошлом столетии, но считающейся почему-то устарелой в наши дни. Однако под руками такого мастера она снова живет полной жизнью.
Джек Локнер,
музыкальный критик газеты «Сан-Франциско ньюс-колл»
Трепетному очарованию поддались все присутствующие на концерте советского пианиста... Его пальцы можно сравнить с молоточками, подчиняющимися малейшим нюансам звуковой окраски, но в то же время обладающими достаточной силой, чтобы извлекать звуки любой мощности. Огромная сила удара не мешает пианисту следить за напевностью звука. Его можно признать одним из поистине великих.
Дж. Дорсей Каллаган,
музыкальный критик газеты «Детройт фри пресс»
УИНТРОП САРДЖЕНТ
Приводим отзыв о нью-йоркском дебюте Святослава Рихтера в Кар- неги-холл, наггечатанный в еженедельнике «Нью-йоркер» – журнале, обычно крайне скупом на похвалы. Наши читатели вероятно помнят автора отзыва по его статьям «Новая струя в оперном творчестве». («Америка» №49) и «Менухин» («Америка» №27).
Слава об исключительном мастерстве Рихтера пронеслась задолго до его приезда в Соединенные Штаты: одни восхищались наигранными им пластинками, другие с упоением рассказывали о его концертах в СССР, на которых им посчастливилось присутствовать. Наконец он приехал – среднего роста, широкоплечий, с обрамленной рыжеватыми волосами лысиной, высоким лбом, длинным заостренным подбородком. Его одухотворенное лицо говорило о серьезном отношении к искусству и свидетельствовало о глубокой преданности любимому делу. Едва прозвучали первые аккорды 3-й сонаты Бетховена, которой начался тот памятный вечер, как мы убедились, что перед нами великолепный исполнитель, отличающийся виртуозной техникой и безупречным вкусом. Концерт превратился в выдающееся событие. Рихтер проявил изумительное понимание музыкальной формы, тонкость фразировки и фантастическое богатство звуковых оттенков. Программа, целиком состоящая из бетховенских сонат, – это, несомненно, предельно трудное испытание для любого пианиста. Совершенная передача классического произведения требует от исполнителя блестящей виртуозности, певучей лиричности и исключительно тонкой музыкальности. Выступление Рихтера в этот вечер показало, что он несравненный художник во всех видах фортепианной музыки. Крайне сдержанно и в то же время с необычайным искусством пользуется он педалью, выделяя или смягчая контуры музыкального рисунка. Беглость его пальцев беспредельна, но он применяет ее только в чисто музыкальных целях. Местами он играет пламенно и динамично, местами – жемчужно, легко и мягко. А главное – он мастерски передает все мельчайшие детали, все нюансы и контрасты, все важнейшие элементы великих произведений. Редко в концертных залах можно услышать столь ясную и глубоко продуманную интерпретацию. В общем, Святослав Рихтер не производит впечатления типично русского пианиста. Нельзя его назвать и типичным виртуозом, хотя, в совершенстве владея техникой и обладая тонким чутьем, он, когда хочет, проявляет себя во всем блеске. Его трактовка Бетховена слегка напомнила мне Вильгельма Бакгауза, и я не сомневаюсь, что его дальнейшие выступления напомнят мне других исполнителей. Судя по одному этому сонатному вечеру, Рихтера можно включить в число пяти-шести величайших мастеров рояля, которых мне довелось слышать за долгие годы моего хождения по концертам.
Неделю спустя Уинтроп Сарджетп добавил следующую заметку к своим впечатлениям о первом знакомстве с Рихтером:
Во вторник я присутствовал на третьем концерте Святослава Рихтера в Карнеги-холл, отчасти чтобы насладиться его исполнением, отчасти чтобы проверить мое первое впечатление о музыканте, которого я на прошлой неделе включил в число пяти-шести величайших слышанных мною пианистов. Я боялся, что такое мнение было несколько опрометчиво и слегка преувеличено. Но мои опасения оказались напрасными. На этот раз Рихтер посвятил концерт Гайдну, Шуману и Дебюсси. Соната до мажор Гайдна была образцом утонченного стиля. Три «Новеллетты» (опус 21) Шумана были исполнены с волнующим совершенством пианиста-романтика, равного которому я не слышал уже много лет. Произведения Дебюсси он передал изумительно тонко, с такой ясной музыкальной логикой, с такой убедительностью, какая удается редкому пианисту.
Авт. права: журнала Нью-йоркер, 1960 г.
«Музыкальная жизнь», 1960, №21.
https://yadi.sk/i/wMBDAx9q3Es7WZ
«БЛЕСТЯЩИЙ И МОГУЧИЙ ПИАНИСТ»
АМЕРИКАНСКАЯ ПРЕССА О КОНЦЕРТАХ
СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА
С огромным успехом проходят в Соединенных Штатах Америки гастроли народного артиста РСФСР Святослава Рихтера. По единодушному мнению слушателей и критики, его выступления явились самым выдающимся событием музыкального сезона.
Мы знакомим здесь читателей с выдержками из некоторых рецензий, появившихся в американских газетах после первых двух концертов, которые Рихтер дал в Чикаго и Нью-Йорке.
«ЧИКАГО САН-ТАЙМС», 16 октября
В субботу вечером с Чикагским симфоническим оркестром впервые в Америке выступил советский пианист Святослав Рихтер, доказав вне всяких сомнений, что репутация, известная нам еще до его приезда, вполне им заслужена.
Рихтер бесспорно является одним из самых замечательных инструменталистов нашего времени. Он обладает той почти гипнотической силой, которая нужна была, чтобы владеть мыслями и чувствами аудитории, насчитывавшей около двух с половиной тысяч человек, на протяжении четырех частей Второго фортепьянного концерта Брамса.
Как только наступала пауза между частями, по рядам пробегал шорох аплодисментов, и в ответ на лице Рихтера появлялась широкая улыбка – непосредственная, полная радости. А по окончании концерта разразилась настоящая буря – такую овацию удается слышать не чаще одного раза в год, да и то далеко не в каждом сезоне.
Я подсчитал, что Рихтера вызывали раскланиваться девять раз, но сказать только об этом было бы недостаточно: ведь каждый его выход сопровождался продолжительными аплодисментами и криками «браво». Приветствуя артиста и его коллег – дирижера «Метрополитен-оперы» Эриха Лейнсдорфа и оркестрантов, публика почти все время стояла.
Разумеется, Рихтера будут сравнивать с другими выдающимися пианистами современности и недавнего прошлого, но я не думаю, чтобы это могло дать правильное представление о его даровании. Рихтер есть Рихтер. Своеобразие творческого облика, ощутимое с той самой минуты, когда он выходит на эстраду, – вот чем прежде всего объясняется сила воздействия, присущая ему как музыканту-исполнителю.
Как бы хорошо ни знали слушатели концерт Брамса, это исполнение было для них чем-то новым, чем-то необыкновенно волнующим, ибо музыка, лившаяся из-под пальцев артиста, несла на себе печать его интеллекта, его динамичной индивидуальности.
Играя, Рихтер не отдается во власть собственных эмоций – он мыслит. И если в его исполнении можно различить какую- то одну, наиболее характерную черту, так это способность захватывать широкую аудиторию именно интеллектуальностью игры, увлекая и волнуя слушателей, а не охлаждая их чувства.
Другая особенность, заметная даже на первый взгляд, заключается в том, что Рихтер умеет оттенить самостоятельное значение каждой ноты и в то же время связать все звуки в напевнейшем, проникновенном легато.
Такое умение доступно лишь тому, кто абсолютно уверен в своих технических ресурсах. Рихтер принадлежит к числу немногих пианистов, способных осуществить едва ли не любое свое намерение, – и в этом, видимо, одна из причин, побуждающих нас считать его столь крупной величиной...
(Из статьи Роберта Марша)
«ЧИКАГО ТРИБЮН», 16 октября
...Русский пианист Святослав Рихтер исполнил вчера вечером си-бемоль-мажорный концерт Брамса с Эрихом Лейнсдорфом и Чикагским симфоническим оркестром. Его первое выступление в Америке останется незабываемым.
Рихтер – несомненно великий пианист, продолжатель самых высоких музыкальных традиций. Вы могли бы назвать его дебют сенсацией и были бы правы – столь эффектные оказалось это событие. Но правы лишь отчасти, ибо значение : всего происшедшего было гораздо глубже. Слушателей захватывает исполнение Рихтера, пианиста блестящего и могучего в точнейшем смысле этих волнующих слов. Более того, его одухотворенная игра полна неожиданностей – и глубоко убедительна. Это великолепный музыкант, чей отказ подчиняться канонам – не причуда, а проявление острого, пытливого, чуткого интеллекта. В техническом отношении... но о технике Рихтера даже говорить не приходится. Он может сделать все, что захочет, а хочет он открывать музыку...
(Из статьи Клодии Кассиди)
«НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС», 21 октября
Когда автор этой статьи направился вчера вечером к вы ходу из Карнеги-холла, он услышал позади словно раскаты грома. Святослав Рихтер, новый гость, приехавший к нам из России, закончил Аппассионату Бетховена, и было ясно, что нью-йоркская публика принимает его, как одного из величайших пианистов мира. С этой оценкой трудно не согласиться.
...Рихтер исполнил программу, включавшую пять Бетховенских сонат... Он играет в лучших традициях русского пианистического стиля – свободно, тепло, романтично, без преувеличенного пафоса. К тому же он на редкость добросовестен. Пианист заботливо следовал каждому авторскому указанию, тщательно соблюдал все динамические оттенки...
Вместе с тем Рихтер отнюдь не педант. Игра его полна воображения. Медленная часть до-мажорной сонаты явилась у него поистине образцом архитектонической стройности. Тема была изложена просто и спокойно, напевным, красивым звуком. Когда же грянуло фортиссимо, эффект был потрясающим. И на протяжении всего вечера нас радовали тончайшие детали – оттенки тембровых красок, акценты, поставленные именно там, где нужно, фразы, в трактовке которых чувствовался высочайший артистизм.
Главным испытанием была, разумеется, Аппассионата – самое крупное и значительное произведение в программе. Рихтер не пытался ошеломить нас грандиозным размахом звучания, и все же это исполнение дышало. мощью. Строго выдерживая динамические соотношения, не допуская ни чрезмерной приглушенности пианиссимо, ни резкого грохота форте и, уж конечно, не задумываясь о каких-либо технических трудностях, артист продемонстрировал нам свою трактовку сонаты – ясную, могучую, поэтичную...
Для большинства любителей музыки в США Рихтер был личностью почти легендарной. В течение последних шести лет здесь ходили слухи о его игре, и интерес публики еще подстегивали серии грамзаписей; некоторые из них были действительно необыкновенными, другие – только загадочными. Естественно, что на вчерашний концерт пришли все музыканты Нью-Йорка. В Карнеги-холле собрались дирижеры, скрипачи, пианисты. Старейшие посетители концертов Не могут припомнить другого такого случая: переполненный зал застыл в напряженном ожидании за добрых десять минут до того, как зажглись огни на эстраде.
Вначале среди публики преобладало, пожалуй, настроение, которое можно определить словами: «А ну-ка, посмотрим». Но уже через четверть часа все были охвачены энтузиазмом. Оказалось, что Рихтер – пианист с воображением, со своим собственным, глубоко поэтическим стилем... Дальнейшие выступления познакомят нас с другими особенностми его пианизма и исполнительских замыслов. Ведь в программе из произведений Бетховена еще не могут раскрыться все черты, присущие творческому облику музыканта. Но если Рихтер не исполнит с таким же блеском свои остальные программы, в Западном полушарии едва ли найдете, критик, который будет удивлен больше, чем автор этих строк.
(Из статьи Гарольда Шонберга)
------------------------------------------------------------------------------
Примечания (Ю.Б.)
Программы и даты рецензируемых концертов:
15/10/60 – Чикаго. Оркестр–холл.
BRAHMS
Concerto No.2 for Piano and Orchestra in B–flat, Op.83
[Дирижер Эрих Лайнсдорф]
19/10/60 – Нью–Йорк. Карнеги–холл.
BEETHOVEN
Piano Sonata No.3 in C, Op.2/3
Piano Sonata No.9 in E, Op.14/1
Piano Sonata No.12 in A–flat, Op.26
–––
Piano Sonata No.22 in F, Op.54
Piano Sonata No.23 in f, Op.57
[SCHUBERT
Impromptu No.4 in A–flat, D.899, Op.90
SHUMANN
Fantasiestuck – Aufschwung, Op.12/2
CHOPIN
Etude No.1 in C, Op.10
Etude No.12 in c, Op.10]
А.Баранова. «Советская музыка», 1961, №2
«РИХТЕР ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ГЕНИЙ РУССКОГО НАРОДА
(Обзор американской печати)
После гастролей в Америке ряда выдающихся советских солистов, ансамбля Народного танца СССР под руководством Игоря Моисеева и «Березки», Государственного симфонического оркестра СССР и балета Большого театра американцы уже привыкли к тому, что гастроли русских – это праздник искусства. И все-таки то, что произошло в Соединенных Штатах Америки во время долгожданных гастролей Святослава Рихтера, выходит за пределы обычных представлений об артистическом успехе. Даже многоопытные американские музыкальные критики были настолько, потрясены мастерством С.Рихтера, что, как они сами признавались, на первых порах «потеряли дар речи».
Джей Гаррисон из газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» после концерта Рихтера в Нью-Йорке заявил: «Надо слышать Рихтера, чтобы поверить в то, что такое возможно».
Некоторое представление о том, как американцы воспринимали искусство советского пианиста, можно получить из обзора нью-йоркских, бостонских и чикагских газет.
Мартин Бернхеймер пишет в «Нью- Йорк геральд трибюн»:
«Передо мной стоит необычная для критика дилемма: как описать словами этого сверхъестественного пианиста, как отдать ему должное, не злоупотребляя при этом малозначащими похвалами? Как избежать повторений различных вариантов эпитетов и дифирамбов в превосходной степени, которые твердят все в один голос? Когда речь идет о таком современном чуде, язык наш ограничен в способах выражения».
Критик Гарольд Шонберг («Нью-Йорк таймс») после первых выступлений Рихтера писал: «Это – великий пианист. Помимо всех своих качеств он обладает также и редким интеллектом, который всегда находит какую-то интересную мысль в исполняемой музыке и умеет передать эту идею слушателям».
Майк Ньюберри опубликовал в газете «Уоркер» рецензию под названием «Священный огонь Святослава Рихтера». Многие критики называют Рихтера гениальным пианистом. В связи с этим Ньюберри пишет:
«Гений – это слово, которым иногда злоупотребляют. Но вот в отношении Рихтера я не могу придумать никакого другого подходящего определения. Как описать то, что не поддается описанию? Мне кажется, что именно неспособность критиков справиться с этой задачей ведет к тому, что они ударяются в восхищенное и несколько косноязычное славословие, когда речь идет о Рихтере.
Гениальность Рихтера выражается также и в том, мне кажется, что после его исполнения вы покидаете зал не совсем тем человеком, каким в него пришли. Настолько сильны чувства, которые он вызывает у вас».
Ошеломив аудиторию бетховенской программой, Рихтер окончательно покорил американцев своим исполнением Прокофьева. Множество рецензий посвящено рихтеровской интерпретации произведений этого композитора. Особенно изумило американцев то, что Рихтер играет Прокофьева совсем по-иному, чем они привыкли, глубоко раскрывая лирическую сущность его творчества.
«Прокофьев у Рихтера настолько разительно отличался от Прокофьева в исполнении других пианистов – пишет еженедельник «Таймс»,– что он предстает пред нами совсем другим композитором. Это было настоящее откровение, знакомство с неведомым нам явлением в музыке. До сих пор мы считали, что стилю Прокофьева свойственна в основном токкатность, и исполнители обычно своим выстукиванием убивали лирическую сторону. Рихтер же именно ее и раскрыл перед нами».
Росс Парментер в «Нью-Йорк таймс», описывая исполнение советским пианистом прокофьевской музыки, отмечал: «Казалось, что Рихтер преследовал только одну цель – передать слушателям мысли, настроения и переживания близкого друга, которого он глубоко понимал и от души любил».
А вот что написал о прокофьевской программе Джей Гаррисон:
«...Этот концерт утвердил первенство Рихтера среди всех современных пианистов и способствовал усилению (если это возможно!) легендарной славы, окружающей его имя в музыкальном мире. Я совершенно убежден, что его интерпретация целиком соответствовала тем мыслям, которые были у Прокофьева, когда он создавал свои произведения» («Нью-Йорк геральд трибюн»).
Пол Генри Ланг, выступающий на страницах «Нью-Йорк геральд трибюн», особенно восхищен исполнением бетховенских произведений. «...Рихтер не только великий пианист современности, но и вдумчивый, чуткий, тонкий, высококультурный музыкант. Святослав Рихтер более чем оправдал предшествующие его приезду легенды о нем. Он феноменальный артист. Рихтер стоит больше, чем пятьдесят послов и двадцать пять дивизий. Он непобедим, так как олицетворяет гений русского народа».
Будучи в Америке, С.Рихтер не только выступал с концертами, но и сделал ряд грамзаписей. Записан в его исполнении Второй концерт Брамса в сопровождении Чикагского сим фонического оркестра под управлением Эриха Лейнсдорфа. Критик Герберт Купферберг в «Нью-Йорк геральд трибюн» признается, что испытал некоторое недоумение, когда узнал о выборе советским пианистом именно этого произведения для записи. Концерт Брамса уже записан в исполнении Гилельса, Горовица, Рубинштейна, Серкина и многих других виртуозов. «А в своих концертах в Америке – пишет критик,– Рихтер сыграл столько сравнительно редко исполняемых произведений Бетховена, Дебюсси, Рахманинова и Прокофьева. Однако, – продолжает Купферберг,– -исполнение Рихтером концерта Брамса было настолько волнующим и великолепным, что надо радоваться его выбору».
Выступление знаменитого артиста вызвало оживленное обсуждение достоинств русской пианистической школы. Вот что в связи с этим высказал Гарольд Шонберг в статье, озаглавленной «Русская сенсация»- («Нью-Йорк тайме»): «Стиль исполнения Рихтера – это стиль русской школы пианизма в своем лучшем проявлении. Стиль этот отличается свободой, теплотой, романтизмом, он лишен всякой вычурности. Это исполнение чрезвычайно добросовестное в том отношении, что пианист крупулезно следует решительно всем указаниям композитора».
Триумф Рихтера в Чикаго был не меньше, чем в Бостоне и Нью-Йорке. Дон Хэнэтэн («Чикаго дейли ньюс») писал, что «...с первого же дебюта Рихтера в Америке ни у кого не было сомнений в том, что он великий артист. Но интересно, в чем величие Рихтера, что именно ставит его в такое первенствующее положение сравнительно с другими крупнейшими пианистами нашего времени? Что сделал Рихтер в своем концерте в Оркестра-Холл, чего не могли бы достигнуть ни Горовиц, ни Серкин? Рихтер является одним из тех редчайших исполнителей, которые сразу же покоряют слушателя. Он ведет за собой аудиторию, как бы постепенно раскрывая перед ней внутренние строения музыкального произведения, Он ведет слушателя как бы изнутри. В этом его сила и отличие от Горовица, Хейфеца или Серкина; они воздвигают перед слушателем великолепное здание и предоставляют ему возможность им любоваться, но издали...»
Глубина искусства советского пианиста особенно поразила американскую аудиторию. Что же касается техники, то тут вся печать единодушно заявляет: «волшебно», «поразительно», «феерично», «невероятно», «невозможно поверить».
Характерно высказывание «Чикаго дейли ньюс» о беспредельных технических возможностях артиста: «...Рихтер уже взял в пьесе Равеля максимально мыслимый темп, но когда ему понадобилось еще убыстрить его, он преспокойно взял да и убыстрил!»
Поездка Рихтера в США, несомненно, явилась существенным вкладом в развитие советско-американских культурных связей.
«Советский Союз и США встречаются в условиях большой теплоты, когда русские представлены таким пианистом, как Святослав Рихтер, а американцы – Ваном Клайберном, или когда Россию представляет балет Большого театра, а Соединенные Штаты – Американская балетная труппа»,– писал в «Нью-Йорк тайме» Брукс Аткинсон.
Миссия Святослава Рихтера в Америке – не только служение музыке, но и служение делу мира между народами, делу дружбы.
А. Баранова
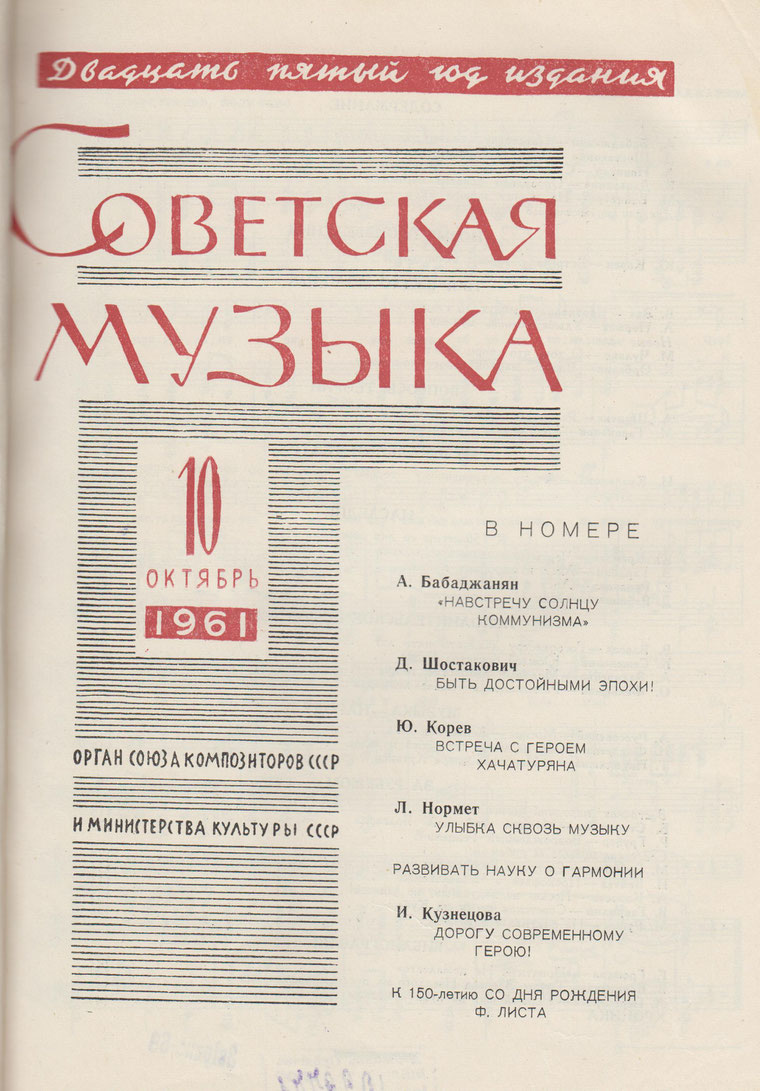

Марк Мильман
«Советская мзыка», 1962, №4
СОНАТНЫЙ ВЕЧЕР М.РОСТРОПОВИЧА И С.РИХТЕРА
(Малый зал консерватории)
...Когда два крупнейших артиста, во многом схожие между собой по индивидуальности, творчески одержимые, объединяются в ансамбле, результат получается выдающийся. Так было, когда мы слушали интереснейшую программу М. Ростроповича и С. Рихтера: сонаты Шопена, Дебюсси и Бенджамина Бриттена (последняя исполнялась в СССР впервые).
Скорбная патетика и характерна/я напевность в первой части шопеновской сонаты, скерцо в духе мазурки, лирическое интермеццо третьей части и, наконец, несмотря на отдельные трагические моменты, радостный финал – все это было «рассказано» артистами с такой проникновенной теплотой и человечностью, какая только и возможна в простых, но великих творениях искусства. Запомнилась «бархатистость» звучания у Рихтера. А как по-pазному расцветил он побочную партию в экспозиции и в репризе первой части! Как задумчиво поведал о своей печали Ростропович в Largo! Но это ведь только детали. Восхищала целостность охвата произведения. Так чувствовать музыкальную форму могут только те, кто сами создают музыку! И в сонате Дебюсси наряду с причудливым изяществом трактовки, таинственностью звучания, неудержимым весельем (в Серенаде) артисты сумели найти ту меру, которая помогает созданию формы.
Имя замечательного английского композитора Бриттена хорошо знакомо нашим слушателям. Понятен особый интерес к его новому сочинению, тем более, что посвящено оно Ростроповичу. Любопытна история этой сонаты. В сентябре 1960 г. Ростропович впервые сыграл в Лондоне посвященный ему концерт Д.Шостаковича. Музыка и исполнение так захватили Бриттена, что он решил написать для прославленного виолончелиста сонату, из которой .нашли бы применение выдающиеся качества и особенности его игры... И на нотном экземпляре, присланном Ростроповичу, Бриттен надписал: «Благодаря ему рожденная» (мне довелось разучить и сыграть это сочинение с Ростроповичем в домашних условиях; с каждым проигрыванием музыка все больше увлекала свежестью, новизной, эмоциональным накалом).
В марте следующего года Ростропович играл сонату с автором у него дома, в Лондоне. Первое публичное исполнение состоялось в июле, на фестивале, ежегодно устраиваемом Бриттеном в Альдебурге, старинном приморском городке в двухстах километрах от Лондона, куда съезжаются многочисленные любители музыки.
Соната имела огромный успех. «Новое произведение,– писал один из рецензентов,– можно рассматривать как пять фотоснимков многостороннего мастерства Ростроповича...» Речь идет о пяти частях сонаты: «Диалог», «Скерцо», «Элегия», «Марш» и «Вечное движение». Первая часть действительно начинается диалогом виолончели и фортепьяно. Звучание инструментов чередуется, словно автор ведет рассказ, задыхаясь, отрывистыми восклицаниями. Художественный образ этой части ассоциируется с творчеством известного английского поэта Ч. Кингслея; вспоминается его баллада «На дюнах Ди», переведенная на русский язык Н. Кончаловской. «Скерцо» (в нем вся партия виолончели исполняется pizzicato) искусно построено на разработке короткого мотива. Как навязчивая идея, как дьявольское наваждение он непрестанно напоминает о себе. И, когда ненадолго возникает новая мелодия с жалобным оттенком, она тотчас же «осмеивается» приемом имитации. «Элегия»– глубокое по мысли повествование в духе Adagio из Виолончельной сонаты Д. Шостаковича, но изложенное по-своему, по-бриттеновски. Кое-где слышатся здесь русские интонации – ведь сочинение посвящено русскому виолончелисту! «Марш» – яркая музыка несколько театрального характера. Здесь исключительно остроумно использованы все средства виолончельной техники. Связанные между собой глиссандирующие флажолеты создают особую звуковую атмосферу, а куда-то «улетающий» конец – глиссандо pianissimo– в фортепьянной партии вызывает у слушателей возгласы удивления. .Финал, Moto регреtuo, строится на одной теме, во время развития которой перемещаются акценты. Они появляются как бы невпопад, словно что-то споткнулось, – создается впечатление «опасности»: вот-вот движение оборвется... Это вихревая пляска, то изящная, то грубоватая, неудержимая в своей устремленности, прерываемая резкими «выкриками» фортепьяно (крик чаек?) и достигающая апогея, когда виолончель сливается в унисон с фортепьяно. Резким, но консонирующим до-мажорньм аккордом пляска внезапно обрывается... Порой чудится что-то жуткое в этом «Мефисто-вальсе» XX века!
Соната Бриттена покоряет динамизмом музыкальной драматургии, подлинно симфоническим развитием, реалистичностью содержания (ясно ощущаешь любовь композитора к окружающей его природе).
Исполнение Святослава Рихтера и Мстислава Ростроповича было настолько совершенно и значительно, что хочется еще раз повторить: когда два крупнейших артиста, во многом схожие между собой по индивидуальности, творчески одержимые, объединяются в ансамбле, результат получается выдающийся!..
Марк Мильман
М. Тероганян
«Советская музыка», 1962, №4
Европейское путешествие С.Рихтера
«'География» последних зарубежных гастролей С. Рихтера (продолжавшихся почти пять месяцев) необычайно широка: Англия, ФРГ, Румыния, Венгрия, Франция. Наибольшее количество концертов пианист дал в Англии и Франции, в ФРГ же он был проездом. Это новая (после Финляндии и Северной Америки) триумфальная поездка С.Рихтера.
– Лондон встретил нас прекрасной солнечной погодой – говорит артист, – и такой она была в течение всего месячного пребывания в столице Англии. Рихтер замечает, что это «опрокинуло» его представление о традиционной лондонской погоде и явилось как бы добрым предзнаменованием для гастролей в стране Перселя и Бернарда Шоу.
Концертьі Рихтера состоялись в крупнейших лондонских залах – Фестивал-холле и Альберт - холле. На вопрос, как прошли его концерты, пианист отвечает, что нельзя все выступления провести на одинаково хорошем уровне, те или иные «отклонения» неизбежны. Но когда речь зашла об английской публике, до отказа заполнявшей залы, Рихтер отозвался о ней очень горячо.
График гастрольной поездки артиста включал три сольных концерта, два выступления с симфоническим оркестром и четыре записи. Вот почему ему повидать пришлось не так уж много.
Один из памятных вечеров в Лондоне связан у С. Рихтера с его посещением известного скрипача Иегуди Менухина, переехавшего на жительство в Англию из США. Они провели этот вечер, занимаясь музицированием: играли сонаты Брамса для скрипки и фортепьяно.
Но, пожалуй, самое большое и интересное лондонское впечатление Рихтера связано со встречей с Бенджамином Бриттеном. Круг образов и тем воплощенных Бриттеном в самых различных жанрах музыки, всегда вызывал у Рихтера живейший интерес и пристальное внимание. Он очень любит и ценит произведения этого композитора, в частности, две его оперы – «Питер Граймс», которую он дважды слушал в Будапеште, и «Альберт Херинг» – в Москве, в превосходном исполнении коллектива «Комише опер» (ГДР).
На встречу, которая происходила в старинном любимом лондонцами ресторане, были приглашены, кроме Рихтера и Нины Дорлиак, Мстислав Ростропович и Галина Вишневская, а также большой друг Бриттена английский певец Питер Пирс. Выдающийся композитор современности, всемирная знаменитость, Бриттен показался Рихтеру чрезвычайно скромным.
«Испытываешь удивительно приятное чувство,.
– говорит Рихтер, – когда привлекательный творческий образ художника дополняется его на редкость обаятельным внешним и внутренним человеческим обликом».
Бенджамин Бриттен поделился с советскими музыкантами своими творческими планами, рассказав прежде всего о кантате для хора, трех солистов (сопрано, тенора и баритона) и оркестра, которую он посвящает нерушимой дружбе народов мира. «И разве не примечательно,– восклицает С. Рихтер, – что этот прогрессивный художник для будущей премьеры своего нового произведения пригласил в качестве солистов советскую певицу Галину Вишневскую, англичанина Питера Пирса и немца Дитриха Фишер-Дискау (ФРГ)!..»
В кабинете С.Рихтера привлекают внимание грампластинки в превосходно оформленных конвертах. Оказалось, что это записи, сделанные в Лондоне. Одна из них – концерты Листа Es-dur и A-dur, другая – Соната Бетховена D-moll (№ 17) и «Фантазия» Шумана. Концерты Листа пианист играл в сопровождении Лондонского симфонического оркестра под управлением К.Кондрашина, специально приглашенного в- Англию для совместных выступлений с ним.
Эту пластинку записывала голландская фирма «Филиппс», а вторую – английская фирма «His. masters voice».
Рихтер сразу же принялся сетовать на себя: процесс записи дается ему всегда с большим трудом. Тут же вспоминает записи в Америке концертов C-dur Бетховена (№ 1) с Шарлем Мюншем и B-dur (№ 2) Брамса с Эрихом Лейнсдорфом: и дирижеры, и оркестранты были на высоте.
В этот момент наша беседа неожиданно прервалась. Пришла телеграмма: французская академия Шарля Кро присудила С. Рихтеру высшую награду. «Гран при», за запись... обоих концертов Листа. Речь зашла еще об одной пластинке, куда вошли Соната G-moll Гайдна, Баллада As-dur Шопена, три прелюдии Дебюсси и Восьмая соната С. Прокофьева (запись в Лондоне производила фирма «Deutsche Grammophon Gesellschaft»); Рихтер добавил, что в Лондоне записал еще вместе с М.В. Ростроповичем для фирмы «Филиппс» Сонату для виолончели и фортепьяно Бетховена (A-dur, № 1). .Намечены записи этими артистами и остальных сонат для виолончели и фортепьяно Бетховена.
Двинемся дальше по карте путешествия артиста. После Англии маршрут концертов вел пианиста в Румынию. По пути он неделю провел в Федеративной Республике Германии, где посетил Нюрнберг и Роттенбург – своеобразные города-музеи средневековья, а также знаменитый вагнеровский Байрейт. Здесь шел «Тангейзер» великого немецкого композитора в постановке его внука, Виланда Вагнера. Оркестром дирижировал Вольфганг Савалиш.
Пианист высказывает удивление, что в Байрейте «Тангейзер» идет в ранней, дрезденской, а не поздней, так называемой парижской редакции, которую сам Вагнер считал более совершенной. В постановке режиссера он находит многое весьма удачным, но кое-что и явно неудачным. Так, все то, что связано в музыкальной драматургии оперы с образом Венеры, внешне выглядит в «Гроте Венеры» не только весьма не привлекательно, но, главное, вступает в явное противоречие со стилем вагнеровской музыки. Рихтер был ошеломлен феноменальным талантом певца и актера Дитриха Фишер-Дискау в партии Вольфрама: «Я смело назову Фишер-Дискау гениальным артистом, замечает он. – Слушать такого певца ни с чем не сравнимое счастье!»
В связи с посещением Байрейта Рихтер делится еще одним своим впечатлением на этот раз о конструкции здания оперного театра. В нем нет традиционной оркестровой «ямы». Как известно, по идее самого Вагнера оркестр в Байрейте как бы накрывается сценической площадкой, и поэтому кажется, что он находится под сценой. «Вагнер, – говорит Рихтер, – оказался тысячу раз прав: никогда еще не довелось мне слышать такого фонического эффекта, такого органического слияния пения солистов и хора и игры оркестра, который ни разу не заглушал певцов (и это при самых мощных вагнеровских оркестровых tutti!)»
Но вот позади Западная Германия, и Святослав Рихтер в Румынии. В сентябре в Бухаресте проходил фестиваль имени выдающегося румынского композитора Джордже Энеску, на который Рихтер был приглашен в качестве почетного гостя.
В знак глубокого уважения к советскому артисту, уже в первый свой приезд завоевавшему горячие симпатии румынской музыкальной общественности, Министерство культуры Румынии предложило Рихтеру до фестивальных концертов отдохнуть на берегу Черного моря, в местечке Эфория близ Констанцы. Рихтер замечает, что этот курорт не случайно носит такое поэтическое название, что означает «Восторженность». В недалеком прошлом здесь было пустое, голое место. По решению народного правительства Румынии на громадном пустыре, где раньше росли разве что одни колючки, возник чудесный, комфортабельный курортный городок. «Я бесконечно благодарен своим румынским друзьям,– говорит Святослав Рихтер, – за предоставление идеальных условий отдыха».
Но в Эфории Рихтер не только отдыхает – он работает над «Бурлеской» Рихарда Штрауса, которую позднее исполняет на фестивале с симфоническим оркестром под управлением Джордже Джоржеску.
В Бухаресте советский артист встретился с рядом известных зарубежных музыкальных деятелей, в том числе с Жоржем Ориком (Франция).
Из своих «слушательских» впечатлений на фестивале в Бухаресте Рихтер отмечает Фортепьянный концерт Валентина Георгиу (Румыния) в исполнении автора и весьма одаренного дирижера Лорин Маазеля (США), блистательно проведшего «Леонору» № 3 Бетховена.
Перед .поездкой во Францию у (Рихтера было одно выступление в Будапеште на фестивале Листа-Бартока. Пианист исполнил здесь в сопровождении Государственного Венгерского симфонического оркестра A-dur'Hbiii концерт и «на бис» Венгерскую фантазию Листа. Дирижировал Янош Ференчик.
И вот, наконец, Франция. К концертам Рихтер готовился в специальном подвале зала «Гаво», где помещается нечто напоминающее «депо роялей». Заниматься было очень удобно. Выступления же пианиста прошли в зале дворца Шайо. Парижане услышали произведения Гайдна, Шуберта, Шумана, Шопена, Брамса, Дебюсси, Скрябина, Прокофьева. (Один из этих концертов записан на пластинку фирмой «Chants du Monde». Эта же фирма выпускает в исполнении С. Рихтера и вторую пластинку, целиком посвященную Шуберту.)
С. Рихтер выступал в Париже вместе с хорошо известным советской музыкальной общественности польским дирижером Витольдом Ровицким, возглавившим Французский национальный оркестр во Втором концерте Брамса. Парижане оказались первыми слушателями Неоконченной сонаты С-dur Шуберта в исполнении Рихтера.
Концерты и подготовка к ним занимали много времени, и все же пианист имел возможность познакомиться с Парижем.
В первый же день приезда пианист попал в старейший театр Франции «Гранд-опера». Шла опера-балет «Галантная Индия» Ж. Ф. Рамо, которую зрители впервые увидели еще в XVIII веке. С. Рихтер заметил, что постановщики (режиссура, художники) этого чудесного произведения одного из великих композиторов и основоположников классического оперного искусства Франции проявили самое бережное отношение к партитуре Рамо: ни в одной из сцен спектакля пышность и великолепие декораций и костюмов не казались нарочитыми, пестрыми и безвкусными. Особенное удовольствие доставляют артисты балета выразительностью своей пластики и точностью стиля.
С. Рихтер видел также в одном из театров Париж,а пьесу «Грот» современного французского писателя Жана Ануйя. По мнению артиста, это произведение большого социального накала. Действие отроится необычайно динамично и остро. Спектакль смотрится с захватывающим интересом. Несмотря на трагический финал, «Грот» Ануйя насыщен гуманизмом и оптимистическим звучанием. В этом, говорит С. Рихтер, большая заслуга автора, который одновременно, выступил и как режиссер спектакля.
На Монмартре Рихтер зашел в «таверну» «Заяц у Жиля», которая известна всему миру по многим замечательным рисункам Утрилло. Здесь не предаются гастроном ическим наслаждениям, а ограничиваются скромной вишневой наливкой. Зато завсегдатаи с удовольствием поклоняются искусству, хотя оно и представлено малыми, «эстрадными» жанрами. Выступает преимущественно молодежь, выступает в своих обычных костюмах, словом, это самая настоящая самодеятельность, Но ее искусство приносит огромную душевную радость.
Пребывание С. Рихтера во Франции совпало с таким значительным событием, как юбилей Пабло Пикассо, Торжества происходили на юге страны, где живет художник. Получив приглашение участвовать в праздновании, Рихтер выехал на несколько дней на французское побережье Средиземного моря.
Юбилейные торжества и празднества в честь выдающегося художника Пабло Пикассо – рассказывает Рихтер, – были проведены по инициативе Коммунистической партии Франции. Их организация достойна восхищения. Все было и грандиозно, и вместе с тем удивительно просто – по сердечному тону и царившей там атмосфере непринужденной общительности всех участников. Весь городок Валорис, где живет Пикассо, был ярко расцвечен и разукрашен флагами. Рихтер вспоминает: вот художник выходит на улицу с женой и детьми, окруженный огромной толпой друзей и бесчисленных почитателей своего таланта. Возраст словно отступил от этого замечательного человека. Он весел и бодр, его живые, проницательные глаза, движения свидетельствуют об огромной воле и неиссякаемой энергии. Состоялось открытие выставки произведений Пикассо, затем завтрак в очень милой обстановке простенького кафе порта Гольф Жуан, на берегу моря.
Среди виднейших общественных деятелей, приехавших на празднества в честь Пикассо, были член Политбюро Коммунистической партии Франции Жак Дюкло и итальянский Художник Ренато Гуттузо. Во время завтрака, который устроила Надя Леже – вдова другого замечательного французского художника, Фернана Леже – в музее его имени, Дюкло говорил о Пикассо как о великом мастере современности. Он извинился перед прибывшими на юбилей испанцами за то, что французы считают Пикассо своим национальным художником потому, что, во-первых, Пикассо давно живет во Франции и, во-вторых, здесь он вступил в ряды ее Коммунистической партии. Дюкло иронически отметил, что министр культуры Франции Андре Мальро не счел нужным даже прислать свое поздравление Пикассо. В итоге, добавил Дюкло, пострадает сам Мальро: «Потомки не простят, что он оказался в стороне от прогрессивной Франции и мировой общественности, так широко отметивших 80-летие мужественного борца за мир».
И еще одно интереснейшее впечатление артиста от пребывания на юге Франции – знакомство с творчеством Фернана Леже. Музей Леже расположен на возвышенности. На фасаде здания гигантская мозаика его работы. Освещенная яркими лучами солнца, сверкающая чудесными красками, праздничная по настроению, мозаика служит своего рода экспозицией к тому, что зритель видит в самом музее – полное жизненной силы, глубоко оптимистическое искусство Леже.
Программа юбилейных торжеств предусматривала и бой быков в Валорисе, и официальный прием в Канне, и большой концерт в Ницце, На бое быков выступал лучший испанский тореадор Домингуин, приехавший на чествование Пикассо вместе со своей женой, известной итальянской киноартисткой Лючией Бозе. В Ницце многие деятели культуры свое сердечное поздравление художнику выразили в большом концерте; здесь выступили дирижер Игорь Маркевич и артисты балета Иветт Шовире и Питер ван Дийк (Франция), негритянская певица, солистка «Метрополитен-опера» Глория Дэвис (США), исполнитель характерных танцев Антонио (Испания) и другие зарубежные артисты. В концерте приняли участие и советские музыканты Леонид Коган и Святослав Рихтер.
С юбилея Пабло Пикассо С.Рихтер возвращается в Париж на легковой машине вместе с Жаком Лейзером – представителем граммофонной фирмы «Пате-Маркони». «Кажется, трудно пожелать лучшего гида», – замечает Рихтер. Они проезжали через многие города и селения страны, и всякий раз Рихтеру открывалась еще одна новая и неизменно интересная сторона сегодняшней и исторической Франции. Антиб – город на Лазурном берегу, Сен-Реми. вошедший в биографию Ван-Гога, Сен-Поль, Экс – город платанов, фонтанов и студентов, Лион... Маленькие отели и рестораны часто с патриархальными, как и в Париже, названиями: «У площади», «У почты» и даже «Поль Сезан» (где, говорит, улыбаясь, Рихтер, к сожалению, не оказалось ни одной картины того, чье имя красовалось на вывеске отеля)...
Как часто бывает в такого рода путешествиях «инкогнито», не обошлось и без забавных эпизодов. В одном из городков Рихтер захотел поиграть, пока хозяйка небольшой гостиницы готовила еду. Привлеченная игрой, она сказала Лейзеру с дружеской фамильярностью: «А ваш приятель не без способностей»...
Пианист очень искренне и тепло говорит о приветливости французов, их живости, изящном юморе, врожденном такте и вкусе. С удовольствием вспоминает он о встречах с простыми людьми Парижа, которых видел, например, за работой ночью на крупнейшем рынке города «Les Halles» (названного великим Золя «Чревом Парижа»), С. Рихтер говорит, что жизнь рынка не замирает и тогда, когда почти весь огромный город спит. Даже ночью вы можете встретить здесь какого-нибудь старого художника, набрасывающего на холст или картон забавную жанровую сценку. Здесь же, рядом с рынком, церковь, сохранившаяся от времен Варфоломеевской ночи, и ресторан с забавным названием «Свиная ножка»...
Встречи с известными музыкантами – Маргаритой Лонг, Пьером Фурнье, Вэном Клайберном, который .почти одновременно .концертировал в Париже, и Юлиусом Кетченом доставили С. Рихтеру много приятных минут. М. Лонг подарила ему на память свой труд о Клоде Дебюсси
Литературная запись беседы М. Тероганяна


Д.Рабинович.
«Музыкальная жизнь», 1964, №3
Рихтер играет последние сонаты Бетховена
Рихтер стал редким гостем на московской концертной эстраде, одна-две новые программы за сезон. Немаловажной тому причиной, конечно, является непрестанно ширящаяся, достигшая «глобальных» пределов орбита гастрольной деятельности пианиста. Существенное значение имеет и все возрастающая взыскательность, побуждающая Рихтера избегать самоповторений, стремиться, чтобы в каждой встрече его с аудиторией обязательно наличествовал элемент «творческой премьеры», открывались дотоле не известные слушателям грани его искусства. Однако, сколь бы ни были весомы подобные факторы сами по себе, главное надлежит искать в другом.
Всем памятна сравнительно недавняя пора, когда Рихтер изумлял поистине сказочной быстротой, с какой учил репертуар, когда на подготовку очередного выступления с еще не игранными фундаментальными произведениями ему хватало немногих недель, а то и считанных дней. Сейчас это для него, очевидно, пройденный этап. Рихтер находится в зените. Его интерпретаторские замыслы, как никогда раньше, поражают размахом и глубиной. Удивительно ли, что окончательная кристаллизация столь масштабных концепций требует гораздо больших сроков, пусть досадных для многочисленных нетерпеливых почитателей артиста, зато в результате оказывающихся, мало сказать, оправданными – необходимыми.
Любой концерт Рихтера – художественное событие. Так было всегда. Вместе с тем сегодня наиболее капитальные из его трактовок не только оставляют неизгладимое впечатление; с них начинаются новые главы в истории исполнения данных пьес. Это относится, например, к монументальному рихтеровскому истолкованию «Аппассионаты», где пианист, ничуть не задаваясь целью во что бы то ни стало «превзойти» все существующие образцы, предложил свое, совсем особенное прочтение, способное дать длительную жизнь еще одной, отличной от других, мощной исполнительской традиции. Относится это к замечательной передаче, совместно с К. Кондрашиным, Второго концерта Листа и к давно знакомой трактовке Первого концерта Чайковского. Некогда она вызвала довольно острые споры с артистом, но лишь теперь, в ансамбле с Г. Караяном, заставила смолкнуть какие-либо возражения, раскрылась в своей неслыханной смелости и новизне.
В полной мере сказанное относится и к тому, как играет Рихтер бетховенские сонаты – № 30 (соч. 109), № 31 (соч. 110) и № 32 (соч. 111). Тут не трудно обнаружить все, что в исполнительских воплощениях «позднего» Бетховена испокон века считается непременным, непреложным: идущее от разума и от чувства, всечеловеческое и личное, воля, страсть, упорядоченность,.. Все это и есть, и оказывается где-то очень в стороне от «обжитого» слухом, ощущается словно неожиданное, небывалое. Рихтер ничего не измышляет, ничего не «прибавляет», не уводят Бетховена; он лишь видит неотъемлемо бетховенское опять-таки в своем, совсем особенном аспекте, как в состоянии увидеть, осознать, выразить подлинно громадный художник.
Рихтер, думается, усматривает в названных сонатах, если не цикл, для чего нет достаточных оснований, то уже наверняка более или менее единый комплекс, части которого – в данном случае целые сонаты, – появившись одна за другой в коротком промежутке времени (окончание первой из них – № 30 – падает на лето 1820 года; последней – № 32 – на январь 1822 года), связаны общностью породившего их творческого импульса, общностью переживания и умонастроения.
Пианист настойчиво оттеняет такие связи. Как известно, в противоположность двухчастной до-минорной сонате .№ 32, обе ее ближайшие предшественницы включают каждая по три части, причем финал ля-бемоль-мажорноной сонаты в свою очередь распадается на четыре четко разграниченных фрагмента. Рихтер же, вопреки «букве текста», но в нерушимом согласии со смыслом бетховенской музыки, в сущности все три произведения трактует как двухчастные. В исходных частях 30-й и 31-й сонат он сообщает своей экспрессии почти камерную скромность, устраняющею самую возможность воспринимать эти части в качестве чего-то самостоятельного. Он «низводит» их до роли вступлений, так же, как и в 32-й сонате, имеющих своим единственным назначением подготовить вторжение «грозы и бури»: Престиссимо в 30-й, Аллегро мольто в 31-й сонате, а еще точнее – шторма, за которым приходит умиротворение.
Сюда-то и устремлен «генеральный план» пианиста, план, в котором главным оказываются, понятно, не формальная двухчастность, не внешние темповые и динамические контрасты, но таящиеся за ними далеко не случайные для творчества «позднего» Бетховена философские противопоставления: реальность – мечта; жизнь, борьба – созерцание. Мы привыкли находить эти полярности в сонате № 32. Рихтер показывает, что они составляют суть всех трех сонат – необычный по интересности замысел, в одинаковой мере волнующий слушателя в концертном зале и будящий музыковедческую мысль!
Именно этой идее подчинены все частности в рихтеровской интерпретации. Я уже отмечал черты общности, которые Рихтер акцентирует в своей передаче вступительных частей 30-й и 31-й сонат. Но ведь таким же духом внутреннего родства проникнуты у него Престиссимо и Аллегро кон брио из сонат № 30 и № 32: внезапно обрушивающиеся пассажные лавины, звуковые потоки, напоенные активностью, атакующие, несущие в себе могучие заряды энергии. Говоря же конкретнее – колоссальные темпы при тщательной доигранности каждой ноты, яростные сфорцандо, суровость колорита, эмоционального тонуса.
Аналогично сближены у пианиста вариационные финалы тех же сонат. После чудовищных шквалов воцаряются тишина, сосредоточенность – как будто непосредственно воспринимаешь движение мысли. Спокойная, собранная, неспешно течет она подобно реке в ее извилистом ложе, но не блуждая, а направляясь куда-то к определенной, ей одной видимой цели.
Упорное подчеркивание «схожестей» соединено у Рихтера с заботливым сохранением всего индивидуального, свойственного именно данной сонате, лишь данной части, данному эпизоду. Ритмическая своенравность, прихотливые смены нюансов в начале сонаты № 30 решительно отличаются у него от мужественно сдержанной певучести первой темы сонаты № 31, от строгой простоты неторопливого, мерного бега тихих, как шепот, как воздух, легких арпеджио в этом Модерато кантабиле. Жесткая пульсация Престиссимо из 30-й сонаты – это все же совсем иной мир сравнительно с ревущими волнами неистовых шестнадцатых в Аллегро кон брио из сонаты № 32. Рядом с отрешенным от земных треволнений покоем темы вариаций из 30-й сонаты и в еще большей степени Ариетты из сонаты № 32, как человечно, как отзывчиво, без малейшей аффектации звучат у Рихтера речитативы и оба Ариозо доленте в сонате № 31!
При таком разнообразии средств – стилевая точность. Внезапные смены темпов, динамики, тембров, кажущаяся импровизационность экспрессии в начальных эпизодах 30-й сонаты у Рихтера ни на миг не обретают напрашивающегося при подобной фразировке оттенка шумановской причудливости, «капризности». Страстный лиризм Ариозо доленте из 31-й сонаты не окрашивается колоритом романтической субъективности. Титанический напор в быстрых частях 30-й и 32-й сонат не смыкается у пианиста с эмоциональной возбужденностью, характерной для композиторов, идущих вслед за Бетховеном – скажем, опять-таки Шумана или Шопена.
Рихтеровский «поздний» Бетховен требует от воспринимающего значительных усилий, что происходит вовсе не из-за каких-либо преднамеренных усложнений, вносимых артистом в трактовку, но оказывается следствием и отражением действительной сложности самой бетховенской музыки. Прав Г.Нейгауз, в статье о декабрьских концертах Рихтера в Большом зале утверждающий, что пианист «ничего не делает, чтобы хоть немного снять «недоступность» позднего Бетховена, сделать его более доступным, «популяризировать» его...» Однако Рихтера никак не заподозришь и в высокомерном отказе считаться с аудиторией. Напротив, Рихтер верит ей и как раз поэтому решительно отвергает художественные компромиссы, линию наименьшего сопротивления. Он правдив о своих отношениях с аудиторией, фигурально говоря, откровенен с ней, ибо убежден, что слушатель хочет и в конечном счете может понять бетховенские сложности, а с ними и то, что ищет в них он, Рихтер.
Мне представляется, что в рихтерском видении гениальных трех последних сонат, венчающих величественное здание бетховенского фортепианного творчества, на передний план выступает всеобъемлющий интеллектуализм, и вообще крайне существенный для искусства Бетховена, а здесь проявляющий себя с необычайной мощью. Мысль полновластно царит в интерпретациях Рихтера: волевая, непреклонная – в бурных фрагментах, жалующаяся – в тех же Ариозо доленте, спокойно сосредоточенная – в обеих фугах из 31-й сонаты, пытающаяся проникнуть в сокрытые от человеческого взора тайники бытия – в вариациях, особенно из 32-й сонаты.
Вернусь еще раз к Ариозо доленте. У Рихтера тут не «своя» печаль, не соболезнование горестям «другого» и, уж подавно, не изображение. не «описание» страдания. Тут мысль о страдании, печали, горестях – сочувственная, соболезнующая, но именно мысль. Под пальцами пианиста рояль рассказывает о скорби одиночества, об утратах. Моментами его звучания наполняются словно растерянностью перед лицом чего-то неодолимого, может быть, судьбы или безграничного космоса. Это звучания теплые, душевно согретые: нежнейшие, мягкие пиано, поющие легато. предельная выразительность при минимуме нюансов. И все же переживаемое оттесняется в них осмысливаемым, ощущение – напряженным раздумьем.
Такой интеллектуализм не имеет ничего общего с плоской и обедненной рационалистичностью, столь частой в исполнениях сочинений Бетховена, выдаваемой за «классичность» и, как правило, встречающейся у концертантов, которым недостает то ли силы чувства, то ли способности постигнуть мир бетховекских идей в их необозримом богатстве. Однако в нем есть и своя оборотная сторона, которую никак не обойдешь. Наряду с неповторимостью, с почти гипнотической неотразимостью воздействия игры Рихтера, в концертах 10 и 12 декабря мы вновь столкнулись с тем, что уже не однажды встречалось у пианиста – с известной склонностью к умозрительности. В медленной части 32-й сонаты , порой казалось, будто артист упрямо стремится выразить, передать на клавиатуре мысль «вообще», пытается воспроизвести в звуках процесс мышления как таковой. И оттого из открывающей эту часть Ариетты улетучивается аромат «идиллической невинности», если повторить чудесную, поэтичную и такую верную характеристику, данную ей Томасом Манном в романе «Доктор Фаустус». Оттого в рихтеровскую экспрессию вкрадывается неожиданный холод. Оттого в уже нарочито бесстрастной тишине следующих далее ( вариаций, в как бы не ведающих жаркого биения человеческого сердца «надзвездных» триолях, трелях вдруг проступает налет абстрактности далекий бетховенской сфере выразительности, его насквозь земному мировоззрению.
Нынешние грандиозные исполнительские концепции Рихтера включают и то, что зачаровывает слушателя, и то, что в отдельные мгновения вызывает реакцию внутреннего сопротивления. Не будем только говорить здесь об «ошибках», «недочетах». Привычные, даже привычно необходимые квалификации подобного рода в данном случае становятся вульгарными, а главное – беспомощными. Речь ведь идет не о частных дефектах, недодуманностях, но о противоречии, с давних пор присущем Рихтеру. Оно давало себя знать много лет тому назад при исполнении прелюдий и фуг из «Хорошо темперированного клавира» Баха, позднее – в некоторых его исполнениях си-бемоль-мажорной, посмертной сонаты Шуберта. Оно напомнило о себе и в декабрьских выступлениях Рихтера, в той самой программе, эхо от которой после сенсационного концерта в г. Туре (Франция) прокатилось по всей Европе.
Артистическая натура Рихтера сложна. И если среди ее особенностей обнаруживаются те или иные (однако, вовсе не решающие!) противоречия – что ж, значит Рихтер таков.
С ним можно иной раз не согласиться; можно и, следовательно, должно иной раз поспорить с ним. Но пробовать «исправлять» его, право, не надо – для этого он слишком крупный художник. А кроме того, через упомянутые противоречия не идет ли искусство Рихтера к высшему синтезу, для нас еще не ясному, но самим артистом, кто знает, быть может, уже и предчувствуемому?
Д. Рабинович
Фото О. Цесарского

Я. Мильштейн
«Советская музыка», 1965, №4
https://yadi.sk/d/GMRpjps83FEMgt
Слушая Рихтера
Чем больше пытаешься проникнуть в тайны исполнительского искусства Святослава Рихтера, тем загадочнее и удивительнее представляется его огромная образная сила. С одной стороны, все в нем ясно, просто, с другой – бесконечно сложно, разнообразно. Кажется, будто фортепиано исчезло, и перед нами многоликий оркестр, стихия звуков. Как-то естественно и незаметно Рихтер умеет переходить от бешеного сокрушительного натиска к умиротворенному спокойствию, от громовых раскатов к прозрачным, почти воздушным звучаниям. Мгновенная смена различных форм техники у него беспредельно легка, свободна и органична. Поражает не столько мощнейшее фортиссимо или нежнейшее пианиссимо (хотя они великолепны сами по себе), сколько непринужденные переходы от одного к другому: в этом пианист поистине не знает себе равных.
Концерты Рихтера в Москве, которые начались 24 декабря в Большом зале консерватории и продолжались (в различных залах и клубах) на протяжении двух недель, продемонстрировали его феноменальное мастерство, умение проникать в самую глубь музыки и воссоздавать ее во всей непосредственности и свежести. Что бы ни играл Рихтер в эти дни – Бетховена, Брамса, Шопена, Дебюсси, Равеля, Скрябина, Прокофьева, Рахманинова, – слушателя не покидало ощущение, будто каждое произведение заново создавалось под его пальцами. Трудно поэтому отдать предпочтение чему-либо в исполненных программах. Но если бы все-таки пришлось говорить о «первых среди равных», то, пожалуй, я назвал бы бетховенские сонаты ми-бемоль мажор, соч. 31 и ля бемоль мажор, соч. 110, Вторую сонату Прокофьева, Седьмую Скрябина, рапсодии и интермеццо Брамса, «Зеркала» Равеля, четыре скерцо Шопена и этюды-картины Рахманинова.
Вот Соната ми бемоль мажор – радостная, открытая, словно залитая солнечным светом. Первая часть ее – благородная, стройная, с естественными ритмическими изменениями, расширениями, сжатиями, взаимопереходами; вторая – эффектная, пружинистая, с острыми линиями, легким стаккато, неожиданными акцентами и остановками (превосходны регистровые контрасты, имитация оркестровых тембров); третья – спокойная, исполненная особой задушевности; последняя – ослепительно яркая, стремительная, жизнерадостная, как бы неудержимо несущаяся вперед (у Рихтера – это подлинная стихия танца, от вихря которого захватывает дух).
Соната ля-бемоль мажор – драматически напряженная, проникнутая философским раздумьем, с поэтически-мечтательной, возвышенной первой частью, с характерным, чуть грубоватым скерцо, сыгранным, кстати, в весьма сдержанном движении, со скорбным, глубоко трагическим адажио (Arioso dolente), исполненным в предельно медленном темпе с непреклонной поступью фуги, прерываемой вздохами и стенаниями второго ариозо (где скорбь еще более усиливается) и завершающейся победно-ликующей кодой.
Изумляет не только всепоглощающая простота и сдержанность в выражении чувств, которая представляется мне высшим проявлением человечности, но и чуткость к пропорциям, звуковым градациям, соразмерность частей и нюансов. Возникает полная гармония: нельзя ничего ни прибавить, ни убавить без того, чтобы не нарушить цельности впечатления.
Вторая соната Прокофьева... Уже стремительный взлет начала Сонаты, нежность и мягкость побочной темы, причудливый характер заключительной партии (смесь экспрессии с иронией), мерная поступь разработки на фоне остинато (с точным расчетом градаций нарастания – отнюдь не преувеличенным!), динамически упругая кода – пленяют наше воображение. Что же сказать о поразительно сыгранном, словно высеченном резцом скульптора скерцо, о его «сокрушительных» крайних эпизодах, о трогательно изящном в своей наивной танцевальности среднем эпизоде, о безупречно выполненных тонких модуляционных переходах и красочных сопоставлениях регистров! Или о сурово-затаенной третьей части. Мастерство в ведении различных звуковых пластов достигает здесь редкого совершенства. Характерно, что у Рихтера второй план отнюдь не приглушенный, не еле слышный, а осязательно рельефный. Но он не смешивается со звучностью темы. Еще более примечательна – в дальнейшем развитии – хроматика средних голосов то угрюмо-зловещая, то призрачно-фантастичная, зачаровывающая соотношениями света и тени! С подобным же мастерством мы сталкиваемся в четвертой части Сонаты,– особенно в звуковом калейдоскопе разработки. Можно было бы еще вспомнить блистательно сыгранную коду с ее изобретательной звуковой многоплановостью и опять-таки единым неукротимым напором: все детали здесь живут, сверкают, перемещаются вполне самостоятельно, но, увлекаемые властным ритмом, следуют необходимости целого.
В Седьмой сонате Скрябина Рихтер достиг огромной внутренней концентрации чувств. Не знаешь чему более удивляться – стремительно-волевому импульсу главной темы или завораживающей нежности побочной, которая как бы «выплывает» из глубин музыки, могучему подъему и эмоциональному напряжению разработки с ясной звуковой перспективой и точно рассчитанными динамическими нарастаниями и спадами или великолепной по яркости кульминации в начале репризы. Но особенно впечатляет заключительный подъем в коде, где все словно поглощается нарастающим грандиозным колокольным звоном, который, достигнув крайнего предела, внезапно и резко обрывается... Воля, мудрость, расчет и – в итоге – совершенство проявились здесь в полной мере.
Рихтеровское исполнение пьес Брамса овеяно ароматом истинной поэзии. В интермеццо пианист целомудренно скромен, прост и в то же время выразителен. Образы возникают у него на редкость живые, одухотворенные, согретые человеческим теплом – в духе интимных высказываний, признаний. Здесь и затаенная печаль, и нежная мечтательность, и скрытый драматизм, лишь слегка оттененный юмором.
В рапсодиях (соль минор и ми-бемоль мажор) Рихтер покоряет глубиной, свободой и яркостью исполнения. Все здесь закономерно. Каждый нюанс, каждая частность имеют свое назначение. Но детали не существуют у него сами по себе. Пианиста прежде всего интересует целое. Ему важно раскрыть самое существенное. Рапсодия соль минор предстает как величавая и строгая поэма: сумрачно-суровый колорит постепенно светлеет (замирающие, как бы истаивающие, триоли в конце пье
сы). Рапсодия ми бемоль мажор – олицетворение мужественной силы и жизнерадостности: смелые броски полнозвучных аккордов, огромная мощь при отсутствии какой- либо тяжеловесности и вязкости, невероятно легкие внезапные переходы от фортиссимо к пианиссимо, яркость красок действуют неотразимо.
Но, быть может, самый большой интерес в концертах Рихтера представляло исполнение цикла пьес Равеля «Зеркала». Какое это прекрасное, вдохновенное воплощение звуковых картин! Сколько здесь примечательного, волнующего, живописно-изобразительного! Как много чистого воздуха, возвышенной красоты! И как все ново по средствам воплощения. Первая пьеса цикла – «Ночные бабочки» – это чудо поэзии и мастерства. Чарующая мягкость звуковых переходов, легкость туше, тончайшая нюансировка словно воссоздают таинственные шорохи ночи, полет ночных бабочек, трепет воздуха... Не менее поэтичны и выразительны «Печальные птицы». Строгость композиционного замысла (образы птиц, замеревших в оцепенении в знойные часы летнего полудня и укрывшихся в темной чаще леса) ничуть не мешает свободе и красочности исполнения. Детали здесь тонко очерчены; свет порой озаряет их, порой отодвигает в тень. При этом полностью сохранено единство колорита. В третьей пьесе – «Лодка в океане» – Рихтер пользуется тонкой, неведомой большинству пианистов техникой, нежно и прозрачно накладывая звучания друг на друга. Вместе с тем конструкция пьесы ясно выявлена: мелодия нисколько не растворяется в гармонической фигурации, хотя и рождена ею. Образ одинокой лодки, затерянной в океане, воссоздан рельефно и красочно. Здесь все изменчиво, текуче: «волны» катятся одна за другой, порой мягко набегая друг на друга, порой захлестывая все кругом. Особенно хороши внезапные смены спокойных накатов волн мощными взлетами (слово налетают порывы ветра). Возникает почти зримое представление объемности звучания, наличия в нем нескольких красочных пластов, сплетенных воедино.
Лепка характерных, сразу запоминающихся образов-картин с не меньшим мастерством осуществлена Рихтером и в двух последних пьесах цикла – знаменитой «Альбораде дель грациозо» и «Долине звонов». «Альборада» поражает легкостью и остротой штрихов, непрестанной сменой самых различных красок – светлых, призрачных, сгущенных, матовых. Здесь и контрасты танцевальных ритмов, и сочный юмор, временами переходящий в гротеск, и капризные изломы линий, и внезапные порывы.. Техническое выполнение пьесы (включая и труднейшие репетиции, сыгранные в головокружительно быстром темпе) безупречно. Запоминаются точность и разнообразие инструментальных красок (подражание щипковым, арфе и т. п.), необычные динамические сдвиги.
В «Долине звонов» все словно окутано обаянием тонких звуковых переливов. Иногда Рихтер затеняет краски, иногда пользуется более светлыми широкими мазками. Мелодические очертания то вырисовываются в полной ясности, то проступают смутно, как сквозь дымку. Плавные красочно-динамические переходы перемежаются с более резкими, определенными сдвигами. Звуковые краски
искрятся, перекликаются, рождают отблески и сливаются в одно целое. Создается впечатление вибрации звуков, игры светотени. Это красочное ощущение звука и всех его градаций и взаимопереходов доведено сейчас у Рихтера до полного совершенства. Напомним еще «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты» Дебюсси, сыгранной, кстати, с тонким вкусом и изяществом; звук в «Лунном свете» имеет у Рихтера серебристый, несколько холодноватый оттенок.
Исполнение четырех скерцо Шопена без всякого преувеличения должно быть отнесено к числу уникальных явлений. Трудно представить себе что-либо более поэтическое, возвышенное, глубокое и в то же время безгранично виртуозное. Во всем ощущается органическое стремление к разработке решающих черт, центральных образов, отвлечение от частностей. Незабываемыми, например, останутся грозный вихрь восьмых в Первом скерцо, как бы сметающий все в своем порыве, светлый умиротворенный образ среднего эпизода до боли резкие аккорды смятения и ужаса с последующей бурной кодой. Или вдохновенное начало и ослепительно яркая кульминация перед репризой во Втором скерцо, драматическая напряженность развития (чередование бурных и спокойно-созерцательных эпизодов) в Третьем, легкая кристальная звучность в Четвертом скерцо с его быстро несущимися образами, нежным средним эпизодом и восторженно приподнятым заключением.
Исполнявшиеся «на бис» два этюда-картины Рахманинова (фа диез минор и ре мажор) вызвали особое восхищение. Нечто стихийное, титаническое слышалось в набегающих волнах звуков, колокольных призывах, вихреобразной динамике. В то же время что ни фраза, что ни эпизод, – то полноценный и, главное, необычный до мельчайших деталей художественный образ. Столько раз приходилось слушать эти произведения. Казалось, что пианистами изведаны все пути их интерпретации. А вот Рихтер и в них нашел нечто новое, свое, неповторимо прекрасное!
Да, Рихтер – большой артист; он подлинно творит на эстраде, делает музыку близкой и родной слушающим его людям. Концерты его – событие в художественной жизни Москвы.
Я. Мильштейн

Я.Мильштейн
«Музыкальная жизнь», 1965, № 24
https://yadi.sk/i/ti06-X_e3EEtZt
https://yadi.sk/i/D1YY5JWh3EEtfu
На концертах Святослава Рихтера
Об искусстве Святослава Рихтера трудно писать. Оно настолько значительно, что никакие воздающиеся ему хвалы, кажется, не в состоянии передать его силу и своеобразие. Каждый концерт Рихтера приносит нечто глубокое, неизведанное. Каждое выступление пианиста восхищает, удивляет, причем каждый раз — по-новому.
Да, Рихтер обладает той напряженностью мысли, тем внутренним импульсом, той мощью воли, какие даны отнюдь не всем даже крупным артистам и какие покоряют и увлекают нас безраздельно. Можно заранее звать все детали его исполнения. Можно даже предугадать ход развития исполнения. Но фантазия его поистине неиссякаема, и в какой-то момент вы вдруг замечаете иной «поворот событий» ; всплывают неожиданные новые детали, старые же предстают в ином ракурсе. Рихтеру не приходится напрягать силы и отыскивать оригинальное. Все происходит у него очень органично — словно само собой. Все рождается и живет, подчиняясь железной логике необходимости.
Его замыслам и свершениям меньше всего свойственны произвол и насилие над художественным материалом. Мало кто с такой скрупулезностью изучает авторский текст. Мало кто проверяет и испытует себя с такой неумолимой строгостью.
Рихтер дал в Москве на протяжении десяти дней пять концертов.
Первый концерт (10 октября в Большом зале консерватории) был посвящен памяти Г. Г. Нейгауза. В программе значились пять сонат Бетховена (ре минор, соч. 31, № 2; ми-бемоль мажор, соч. 31, № 3; ми минор, соч. 90; ля мажор, соч. 101 и ля-бемоль мажор, соч. 110), которые принадлежали к числу лучших исполнительских достижений самого Нейгауза.
Рихтер играл эти сонаты с редким совершенством и поразительной глубиной мысли. Здесь
в полной мере проявилось умение артиста передавать весь богатый и сложный мир образов Бетховена, не прибегая к каким-либо внешне эффектным приемам, Никаких недомолвок. Никаких неясностей. Й никакой вычурности.
...Соната ре-минор, соч. 31, №2. В отличие от многих интерпретаций этой сонаты, которые нам приходилось слышать у других пианистов, Святослав Рихтер чуждаетея чрезмерной патетики, темповых и динамических излишеств. В первой части у него все: очень гибко и органично. Глубокое раздумье вступительных тактов (Largo) резко контрастирует с тревожными восклицаниями последующих фраз. Побочная партия, как бы выплывающая из бури звуков, исполняется целомудренно, скромно. Нет и в помине преувеличенных чувств. Нет учащенного дыхания, судорожности ритма. Великолепна разработка с ее тихим, словно затаившимся, началом и внезапным взрывом чувств {в тональности фа-диез минор). Знаменитый речитатив Рихтер играет, не задерживая на педали предшествующей гармонии, и он звучит одиноко, тоскливо, словно скорбный голос человеческий, постепенно затихающий в пустоте. Во второй части пианист мастерски сопоставляет различные регистры инструмента; порой кажется, что это звучит не фортепиано, а оркестр, в котором явственно слышатся и струнные, и духовые, и ударные инструменты (вспомним приглушенные «литавры в сопровождении). Здесь у Рихтера господствует настроение просветленно-созерцательное. Величаво, спокойно развертываются музыкальные образы — сдержанно-строгая первая тема, светлая по колориту вторая... И, наконец, финал сонаты (Allegretto) исполняется пианистом тонко, изящно, пластично, в небыстром темпе. Рихтер нисколько не стремится к выпячиванию контрастов, а, наоборот, несколько сглаживает их, делает плавными переходы —- вся часть сонаты словно подернута дымкой печали. Неизъяснимо прекрасен конец финала; музыка как бы исчезает, истаивает в воздухе.
...Соната ми-бемоль мажор, соч. 31, №3. Каждая часть этого
сочинения — будь то светлая и безмятежная первая, острое Скерцо с его пружинистой легкостью и имитацией оркестровых тембров, благородный Менуэт или огненно-бурный Финал — подлинный шедевр. Оттеняя отдельные эпизоды, детали, штрихи, пианист подчиняет все многообразие музыки единой сквозной линии
развития. Финал сонаты в исполнении Рихтера — это не просто замечательно сыгранная танцевальная пьеса (в духе стремительной тарантеллы), а подлинная кульминация, апофеоз всего сочинения.
В сонате ми минор, соч. 90, артист великолепно сочетает волевые порывы и робкие, печально-нежные интонации, затаенные чувства и страстную настойчивость. Он достигает здесь необыкновенной стройности формы, естественности динамической линии.
...Соната ля мажор, соч. 101... Первая часть звучит у Рихтера необыкновенно лирично, по-весеннему свежо и тепло. Вторая часть интерпретируется ясно, ритмически четко и остро. Adagio перед финалом полно раздумья, суровой сосредоточенности. Финал врывается во всей своей первозданной красоте — радостный, живой, искрящийся задорными перекличками. В фуге потрясает (иного слова не нахожу!) ясность проведения различных голосов и их точно рассчитанное динамическое нарастание: сначала эти голоса звучат приглушенно, затем становятся все более звонкими. Рисунок делается все острее, чеканнее, рельефнее. Звуковые линии самостоятельны по тембровой окраске и в то же время сплетены органично и естественно в одно целое.
...Соната ля-бемоль мажор, соч, 110. Впечатляет щедрое развитие лирического нестроения в первой части — исполнение нежное, возвышенное, благородное. : Резким контрастом звучит вторая часть — нарочито грубоватая, размашистая, Пианист смело ломает сложившиеся традиции исполнения, играя эту часть значительно сдержаннее, чем принято (и, кстати, неизвестно, почему принято, ибо темп второй части, если следовать указаниям автора, не должен быть излишне быстрым). Веско, тяжеловато и неукротимо выступает у Рихтера основная тема (именно такой — в духе народных уличных песен — она и задумана Бетховеном). Средний эпизод части исполняется пианистом несколько подвижнее; необыкновенно яркими, пронзительно, как острые удары, раздающимися делает он два верхних сфорцандированных звука. Темп Arioso dolente на редкость соразмерен: нет преувеличенно медленного движения, в то же время нет никакой поспешности. Господствует безысходная скорбь, каждая деталь звучит в точном соответствии с ремарками Бетховена. В возникающей затем фуге волевая поступь подчеркивается остроконтрастным скорбным ариозо. Ликующая кода внезапно озаряет все ослепительным светом. Ее постепенно ускоряющееся движение наполнено у Рихтера отнюдь не внешними моторными импульсами, оно естественно возникает в связи с воплощением чувства огромной радости, ощущения полноты жизни.
В своем втором концерте (12 октября в Концертном зале имени Чайковского) Святослав Рихтер играл редко исполняемую Сонату си мажор Шуберта, пьесы из соч. 118 и 119 Брамса и Сонату си минор Листа, В сонате Шуберта артист как бы предоставляет музыке говорить самой за себя. Нет в его исполнении каких-либо эмоциональных крайностей. Все проникнуто удивительным благородством, тонкой лиричностью. Если так можно выразиться, «климат» сонаты в интерпретации Рихтера — умеренный, а не жаркий или холодный. Простота и сдержанность — вот наиболее подходящие слова для характеристики его исполнения, Рихтер находит тот единственно верный основной тон - чистый, как родниковая вода,— который определяет все частности произведения и придает им стилистическую точность,
Пьесы Брамса Рихтер интерпретирует до такой степени непринужденно, свободно, что кажется, будто они рождались под его пальцами. Сердце пианиста бьется в унисон с сердцем композитора. В исполнении двух Интермеццо и Баллады (из соч, 118) не знаешь, чему отдать предпочтение, Но, быть может, наиболее впечатляющей оказалась интерпретация Рапсодии ми-бемоль мажор, соч. 119. Это поистине шедевр исполнительского искусства и в смысле ослепительно яркого звукового колорита, и а смысле использования легких, нежных красок (средний эпизод). В Рапсодии, несмотря на мощное огромное форте, не было никакой жесткости — все звучало настолько же гармонично и мягко, насколько сильно и величаво. Трудно найти что-либо равное по грандиозности взлетов, силе и блеску.
Несомненно, в центре двух программ, исполняемых пианистом 12 и 16 октября в зале имени Чайковского, стояла Соната си минор Листа. В Москве Рихтер играл ее совсем мало; тем больший интерес вызвало исполнение им этого произведения. Одна из главных трудностей интерпретации листовской сонаты заключается в том, чтобы сохранить целостность развития, единство пульса в бесконечно изменчивом развитии музыкальных образов. Эта художественная задача под силу лишь немногим избранным, и Рихтер убедительно доказал, что он принадлежит к их числу. Все подчинялось одной задаче: охватить произведение в целом, раскрыть его величие и глубину. Как легко было поддаться соблазну и сделать, например, задушевную вторую побочную тему чуть расслабленной и импровизационно изломанной или же отвлечься в сторону от «сквозного действия в угоду отдельным деталям разработки! Но Рихтер устоял. Энергичный и страстный темп Allegro был не только правильно найден, но и сохранен в качестве основного. Ни одна выразительная деталь не сменялась другой вне единого плана. Вспомним, как неукротимо гордо, решительно звучала главная тема, а затем небыстро, подчеркнуто резво — саркастический мотив, каким утверждающе ярким было звучание аккордов и октавных взлетов, какой торжествующе приподнятой — первая побочная тема (grandiose), какими мощными были здесь контрасты света и тени. А затем — как тонко был воссоздан спокойный, созерцательный (страсти обузданы!), несколько отрешенный от мира характер Andante sostenuto. Или — наступательный и четкий, местами подчеркнуто иронический характер Фугато, где звучание, постепенно усиливаясь, производило впечатление каких-то невероятных динамических взрывов. Или — жуткий (словно заупокойный звон!) колорит заключительного эпизода...
Стремительность в нарастаниях темпа и динамики — одна из сильнейших сторон искусства Рихтера. И не только потому, что она безотчетно увлекает своей властностью. Самое главное, она нисколько не снижает выразительности музыки (что, нечего греха таить, подчас бывает у иных виртуозов), а, напротив, усиливает его, помогает раскрыть самую сущность образа.
В Сонате Листа с исключительной силой сказалось еще одно качество пианиста — свойственная ему ясность замыслов, поразительное умение организовать музыкальный материал, подчинить исполнение упорядочивающей силе творческого интеллекта, и не надо сожалеть, что в чем-то эта ясность устраняет романтическую «магию исполнения». Ясность эта — категория высшего порядка; она относится как к «вертикали», так и к «горизонтали» — как к фактуре, динамической нюансировке, так и к мастерству ведения нескольких звуковых пластов, их ясному расчленению и единству. Не потому ль столь захватывающе прозвучало у Рихтера Фугато: четкости и остроте ритма сопутствовала здесь точная дифференциация звуковых планов...
В одном из концертов Рихтер исполнил «Прелюдию, хорал и фугу» Франка. Многое в этом исполнении было необычным, идущим вразрез с общепринятой интерпретацией, и в то же время глубоко убеждающим. Цезарь Франк как-то сказал по поводу одного своего произведения: «Мне нравится, что здесь нет ни одной чувственной ноты». Когда Рихтер играл «Прелюдию, хорал и фугу», эти слова невольно вспоминались. Ибо в исполнении пианиста не было и налета той преувеличенной
сентиментальности, которая с некоторых пор почему-то стала почти традиционной при исполнении этой пьесы, Естественно возникали ассоциации с органной музыкой Франка — величественной и возвышенной, но несколько отрешенной, замкнутой, созерцательно углубленной. У Рихтера, мастерски использовавшего свое редкое знание ресурсов фортепиано, здесь доминировала благородная сдержанность экспрессии. Все развертывалось неторопливо, постепенно, с поистине царственной медлительностью. Иным слушателям такая трактовка могла показаться растянутой, немного холодноватой. Но перед тем, кто смог постичь истинный смысл этой интерпретации, открывалась вся пластическая красота музыки, вся возвышенная строгость и простота произведения. Особенно запомнилась заключительная кульминация с ее сложным переплетением различных тем.
Исполненные на бис в концерте 12 октября три этюда Шопена (№№ 1, 4, 12 из соч. 10) надолго останутся в памяти как образцы пианистического мастерства. В Первом этюде потрясала стихийная сила и образность (он звучал подобно призывному набату), в Четвертом — невероятная быстрота и легкость (казалось, это какой-то вихрь; каскады пассажей следовали один за другим, буквально ослепляя), в Двенадцатом — бурное поэтическое вдохновение и поразительная красочность звучания.
Своими московскими концертами Святослав Рихтер еще раз доказал, что он стоит на вершине пианистического мастерства.
Игра его всегда неотразимо действует на самые разные круги слушателей. Его искусство плод высочайшей культуры, редкостного таланта и суровой дисциплины.
Я. МИЛЬШТЕЙН
Фото О. Цесарского

В. ДЕЛЬСОН
«Музыкальная жизнь», 1966, № 13.
https://yadi.sk/i/SocYBlG03ESShw
В концертных залах
Святослав Рихтер играет сонаты Прокофьева
В концерте, посвященном 75-летию со дня рождения С. С. Прокофьева, Рихтер исполнил Вторую, Четвертую и Шестую сонаты своего любимого композитора.
Три монументальные сонаты в поистине монументальном исполнении, неоспоримо убеждавшем даже в редких случаях несогласия с артистом. Такова гипнотическая сила властного искусства художника, его необычайного мастерства. О поразительном проникновении Рихтера в сущность прокофьевского стиля писалось много. Пианист играет Прокофьева часто и охотно. Казалось бы, отношение его к прокофьевским произведениям должно прочно установиться. Между тем от концерта к концерту мы слышим их свежее – то обновленное, то почти новое – прочтение! И это особенно ощутимо при исполнении крупных сочинений.
Вторая соната. «Я учил ее на втором курсе в 1938 году. Учил без особого удовольствия. Она так и осталась не очень любимым мною сочинением», – писал Рихтер в середине 50-х годов. Однако с каким воодушевлением играл пианист эту сонату (особенно ее первую часть) в концерте 2 -мая! Не изменилось ли его отношение к ней? Можно ли «не очень любя» играть так заинтересованно и пристрастно?
Нам не приходилось еще слышать у Рихтера такой подчеркнуто контрастной трактовки первой части. Вторая часть (Скерцо) была исполнена в крупном плане, токкатно, маркированно, даже чуть зловеще. Интерпретация Скерцо заметно отличалась от общепринятой – более внешней, шутливой, – и эта новизна впечатляла. Несколько дискуссионной показалась исполнительская концепция третьей части (Анданте), прозвучавшей с точки зрения эмоциональной, пожалуй, чрезмерно отвлеченно. Трактовка четвертой части (Vivace) всегда вызывает затруднение в связи с сатирически-буффонными, кое-где даже эксцентрическими эпизодами. Для Рихтера, как нам представляется, это – образы театральных масок, в какой-то степени предвосхищающие буффонаду «Любви к трем апельсинам», или масок карнавальных, которые он довольно объективно, в меру бесстрастно «развертывает» перед публикой. Несомненно, это одно из правомерных решений, и выполняет его Рихтер безукоризненно – с огромным художественным тактом, умно и тонко.
Четвертая соната была и осталась для пианиста одной из любимейших прокофьевских сонат. Впрочем, играет ее Рихтер в последние годы несколько реже, В первой части он подчеркивает тревожную сумрачность, таинственную балладность образов, подчас стушевывая их сказочное очарование. Вследствие этого концепция сонаты выигрывает в драматизме, теряя в лирико-эпической повествовательности. Вторая часть трактуется пианистом с динамикой крупного плана, фресковой звукописью, более замедленными, чем в авторском исполнении, темпами. Чувственная наполненность тематизма как бы заменяется его широтой, масштабностью, строгой значительностью. Таково рихтеровское толкование прокофьевских романтических тем вообще – не очень открытое, без белькантной кантиленности, сдержанное – отчасти в духе исполнительской манеры 'самого Прокофьева. С совершенной свободой и техническим блеском была исполнена финальная, третья часть сонаты.
В программе второго отделения концерта была одна лишь Шестая соната. Но как полновесно прозвучала она – точно сыграна была целая фортепианная симфония.
Если грандиозное исполнение первой части Второй сонаты достойно открывало концерт, то Шестая была его могучим завершением, гигантской кульминацией. В том, как проинтонировал Рихтер первую тему, ощущались и варварски жестокое начало (Шестая соната была создана в 1940 году, когда в Европе уже бушевал фашистский разгул), и набатная тревога, призывный клич. Рихтер с поразительной глубиной воплотил эту м н о г о значность лейтобраза сонаты, как бы слив воедино эмоции дикой ярости и негодования с колокольной тревожностью, драматизмом борьбы. Применяя чисто фонический эффект сухого, словно металлического звучания, пианист достигает почти зримой конкретности, напоминающей изобразительность известных эпизодов с тевтонцами из кантаты Прокофьева «Александр Невский». Лирическая побочная партия звучит у Рихтера особенно затерянно, отрешенно, будто одинокий голос перемалываемого жестокой судьбой «маленького человека». Исходя из этого сугубо контрастного противопоставления, Рихтер насыщает развитие основных образов предельной драматизацией, бурной конфликтностью.
Две средние части пианист интерпретирует как своего рода отстранения от тягостных бурь (острое Аллегретто второй части и лирически сосредоточенная вальсовость третьей).
В финале (Vivace) восхитили стремительность, стихийная энергия, необычайно жизненная конкретность воплощения образов. Музыка становится как бы непосредственно связанной с действительностью сегодняшнего мира, с его неистовостью борьбы и драматизмом противоречий...
То, что Рихтер внес в трактовку Шестой сонаты,– уникально. Но – и общезначимо, ибо артист раскрывает сущность одного из важнейших творений прокофьевского гения.
Выступление Святослава Рихтера с тремя сонатами Прокофьева в дни 75-летнего юбилея великого композитора надолго останется в памяти слушателей.
В. ДЕЛЬСОН
Г.Орджоникидзе. «Советская музыка», 1966, №9
Весенние встречи с музыкой
Так уж повелось: кульминация концертного сезона в Тбилиси обычно падает на май. Богат был событиями и май нынешний: гастроли С.Рихтера, авторский концерт Г.Свиридова, выступление хора и оркестра Всесоюзного радио и телевидения, дирижеров Г.Рождественского, Б.Хайкина и Н.Рахлина, пианистов А.Любимова и С.Пертикаролли, скрипачки Ё.Сато, певца А.Ведерникова, широкое участие в концертах местных музыкантов – все это придало нашей музыкальной весне большой размах. При всем ее многообразии в целом эта весна проходила, как известно, во всех Закавказских республиках под знаком творчества С.Прокофьева. Надо заметить, что его произведения все чаще звучат последнее время в Тбилиси. Вслед за удачной постановкой оперы «Семен Котко» театр взялся за «Золушку». Памятны романтически вдохновенное исполнение прокофьевской Второй фортепианной сонаты Э.Вирсаладзе, глубокая и самобытная трактовка поздних сонат Н.Габуния.
На этот раз ряд сочинений композитора в Тбилиси исполнялся впервые. Но о них чуть позднее, а теперь о концертах Рихтера и авторском вечере Свиридова.
Концерты Рихтера были посвящены памяти Г.Нейгауза и включали сонаты Бетховена и Шуберта, «Прелюдию, хорал и фугу» Франка, миниатюры Брамса, Дебюсси и Рахманинова, Сонату № 4 Прокофьева и Сонату си минор Листа. И во всем, что играл Рихтер, отражался целый мир, воплощалась диалектика жизни, события большой драматической силы. Рихте ровский «крупный план» включал обширную жизненную панораму, но в ней не померкла ни одна из «деталей». Способность пианиста переключаться в диаметрально противоположные сферы поразительна. Его вдохновенная игра рождает контрасты величайшей силы и «непрерывность действия», монолитность архитектоники и трепетность каждого мгновения.
Рихтеровское прочтение прокофьевской Сонаты решительно порывает с «узаконенной» трактовкой этого сочинения. В ранних сонатах Прокофьева исполнители и исследователи подчеркивают энергию, остроумие, чистоту лирики и красочность сказочных зарисовок. Бетховенское начало в них по обыкновению видят в напористости музыки, в театрально ярких контрастах, бодрящем духе.
У Рихтера привычные акценты решительно сместились. Соната прозвучала сумрачно. Зловещей таинственностью была пронизана первая часть. Andante отнюдь невыглядело «юношеским серьезом». В нем прозвучала по-настоящему глубокая лирика, родственная поэтическим раздумьям поздних сонат Бетховена.
Финалы ранних сонат и в особенности четвертой обычно трактуют как празднично-карнавальные. У Рихтера этот раздел поразительно перекликается с первой частью. Таинственный мир словно пришел в движение: засверкали
огоньки, закружился, завихрился хоровод фантастических существ, и все понеслось в каком-то дьявольском танце. Эксцентричные выпады, каскады ритмов, «уколы» ощетинившихся мотивов до конца сонаты придают музыке здесь характер дикой вакханалии, и сквозь эту свистопляску вырастает мелодия мечты – светлой и жизненной, звучащей подобно ясному голосу человека.
Соната Листа принадлежит к тем вершинам искусства, которые с течением времени не отдаляются, а приближаются, раскрывая свои сокровенные тайны. Прошло более века с эпохи ее возникновения, и за это время понимание прекрасного и злого, трагичного и лирического глубоко изменилось, наполнилось новым содержанием. Эта дистанция размером в столетие ощущается в трактовке Рихтера. Он вдохнул в сонату новую жизнь, сыграв ее как истинно современную драму, поэму о борьбе, надеждах и испытании.
Соната многолика, она допускает множество прочтений. Ее нетрудно перевести в план исповеди и философского размышления, подчеркнуть моменты созерцания, трактовать ее в характере борьбы идей, отвлеченных понятий. У Рихтера она наполнена земною страстью, остротою жизненных коллизий. Она творится тут же, за роялем, во вдохновенной игре воображения, импровизации. Порою вулканический темперамент перехлестывает, угрожающе вырастает демоническое начало. И все-таки романтическая преувеличенность лежит в самом существе этой музыки; она и придает ей импульсивность, титанический размах. Когда-то Вагнер писал Листу: «Соната прекрасна... как ты сам!» Исполнение Рихтера было прекрасным, как сама соната.
Г.Орджоникидзе

М.Посельская.
«Советская музыка», 1966, №12.
ЧАС В ОБЩЕСТВЕ РИХТЕРА
Долгие годы Святослав Рихтер питал глубокую антипатию к кинокамере. Это было непреодолимым препятствием для кинематографистов, стремящихся запечатлеть на пленке выдающегося музыканта нашего времени, сделать его творчество достоянием миллионов любителей музыки в нашей стране и за рубежом.
Но вот более полугода назад «лед тронулся». Двум работникам Рижской киностудии – Г.Пиесису и Г.Пилипсону – удалось получить согласие пианиста на съемку полнометражного документального фильма-кинопортрета «Святослав Рихтер». Сейчас съемки закончены.
Режиссера Гунара Пиесиса я застала за монтажным столом. Снова и снова просматривал он эпизод интервью с другом Рихтера Анной Ивановной Трояновской (читателям «Советской музыки» знакома история этой дружбы, а также портреты Рихтера работы А. Трояновской.'–Ред.)
«...Мы знакомы с 1944 года, – услышала я голос пожилой женщины.– У Славы тогда не было своего инструмента, и я с радостью предоставила ему вот этот «Бехштейн» для занятий. Рихтер приходил ко мне вечерами и просиживал за роялем по 8 – 9 часов с небольшими перерывами. Время тогда было военное, зима выдалась морозная и голодная, Прямо посреди моей комнаты топилась печурка-времянка, на которой мы варили на ужин картошку...»
– Представьте, – поясняет Пиесис, – Святослав Теофилович, дав согласие на съемку фильма, наотрез отказался рассказывать в нем сам о себе. И тут нас выручили близкие друзья Рихтера: профессор Кузин, лечивший сломанную руку пианиста и с тех пор ставший другом его дома; Анна Ивановна, сообщившая интереснейшие сведения о том, как начиналась самостоятельная жизнь музыканта; Сильвия Федоровна Нейгауз, жена покойного учителя Рихтера.
Ни режиссер, ни оператор в своей картине ни разу не попытались вторгнуться в святая святых своего героя – обнародовать секреты его творческой лаборатории. Казалось, они больше всего озабочены тем, чтобы не помешать Рихтеру во время его концертов; тем, чтобы его глазами взглянуть на окружающий мир.
Сопровождая Рихтера в гастрольных поездках по стране, наблюдая его в домашней обстановке и на прогулках, кинематографисты длительное время находились рядом с музыкантом. В конце концов его, видимо, перестало стеснять присутствие киноаппарата. Поэтому зритель порой абсолютно забывает о посреднике-кинооператоре и воспринимает все увиденное на экране так, словно провел час в личном общении с Рихтером.
М.Посельская
Л.Беспрозванный. «Записки театрального администратора».
«Сибирские огни», 1967, №7.
Первый концерт
Святослава Рихтера
Позволю себе привести один факт из собственной биографии.
В 1937 году я впервые вошел в здание Московской консерватории. Меня переполнял – употреблю громкие слова, без них тут не обойдешься – священный трепет ведь здесь, по этим коридорам, ходили Чайковский и Рахманинов. Рубинштейн и Танеев, Лядов и Кюи, Нежданова и Собинов, ставшие славой русского музыкального искусства.
Но дело есть дело – и выполнять его; нужно: я приехал с предложением организовать первый в стране университет музыкальной культуры для строителей Рыбинской ГЭС.
Встреча с Александром Борисовичем Гольденвейзером и Генрихом Густавовичем Нейгаузом, профессорами консерватории Абрамом Борисовичем Дьяковым и Иваном Ивановичем Любимовым закончилась очень радостно для меня – все они одобрили замысел. Завершить разговор, договориться обо всем конкретно я должен был с заместителем директора консерватории Дьяковым.
Мне было известно, что авторитет Дьякова незыблем, что студенты его очень: любят и идут к нему с открытой душой. Полушутливо Дьякова называли гениальным устроителем шефских концертов Он и в самом деле в платных концертах почти не выступал, но стоило сказать, что где-то нужно провести шефский концерт, как Дьяков проявлял невероятную энергию и поразительные организаторские способности. Недаром в ЦК профсоюза Рабис, в Центральном Доме работников искусств говорили: .если нужно организовать шефскую поездку на Шпицберген или на Северный полюс – обратитесь к Дьякову, он сам поедет и других увлечет». (Забегая вперед, скажу, что погиб этот человек как герой. В первые же дни Великой Отечественной войны он добровольно вступил в ополчение, в одном из боев попал, раненный, в плен и был замучен фашистами.).
… А в тот памятный день я вместе с Дьяковым шагал по коридору. Мимо нас прошел долговязый светловолосый паренек. Дьяков прервал разговор и подозвал паренька.
– Познакомьтесь!
– Слава, - представился студент.
Я назвал себя. Смутившись, новый знакомый сказал, что торопится в столовую, и мы распрощались.
– Хотите войти в историю? – спросил меня Дьяков.
– Если не в скандальную, то очень, – пошутил я.
– Организуйте этому студенту первый в его жизни концерт. Он –будущая знаменитость, мировая известность.
Я, разумеется, согласился.
В этот же день на занятиях в классе профессора Нейгауза я слышал игру студента. Он играл бетховенскую Аппассионату – играл превосходно, как зрелый музыкант, с удивительной свободой и глубиной. А вскоре состоялся и его концерт, прошедший с большим и вполне заслуженным успехом.
Где-то в Рыбинском музее и сейчас должна храниться афиша, извещавшая о концерте студента Московской консерватории, ученика профессора Генриха Густавовича Нейгауза – Святослава Рихтера.
Совсем недавно я напомнил Святославу, Теофиловичу о его первом публичном выступлении. Напоминание оказалось излишним – он и так хорошо помнил тот концерт. Откровенно говоря, эту дату в первую очередь должен помнить не он, великий музыкант современности, а я: в моей скромной трудовой биографии это – событие, которым я искренне горжусь.

Мартин Кадье. «Советская музыка», 1967, №8.
Вечера, которые нельзя забыть
В апреле текущего года С. Рихтер выступил в Париже. Музыкальная критика восторженно встретила его концерты. Здесь мы помещаем статью Мартин Кадье из «Lettres Françaises».
«О Рихтере говорить становится все труднее! Каждый раз повторяется чудо: Святослав Рихтер сам становится музыкой. «Музыка, которая превосходит все оценки, – как пишет Арагон.– Музыка, через которую мы постигаем незримое, которая делает доступным недоступное».
Рихтер передает нам Прокофьева во всей его жизни, во всех его исканиях, так же как он воскрешает для нас Бартока. Пятый концерт соль мажор ор. 55 – одно из последних произведений, написанных композитором до возвращения в Советский Союз. Сам Прокофьев указал на главную художественную проблему, поставленную им перед собой в данном сочинении: композитор обязан всегда искать новые средства выразительности, создавать совсем другое мастерство, чем в предыдущих концертах. И Рихтер ищет и находит их сразу. У него точный размер, верность передачи, и тем не менее каждый раз он воссоздает все заново.
Прокофьев заставляет сверкать традиционный жанр концерта; захватывает и волнует нас в Токкате, пленяет богатством и пылкостью движения з финале (Vivo), а Рихтер дает максимум напряжения в Токкате, раскрывая трагичность своего восприятия жизни, словно прочерчивая границу между жизнью и смертью. Одним резким движением он рушит тонкую преграду, увлекая нас в необъяснимое... Он слегка согнулся над роялем: выражение его лица властное, углубленное – не от усилий, а от того, что он видит сквозь музыку; глаза прозрачны, ясны. Кажется, он творит любовь – волшебный ритуал – очень просто, совсем понятно. Он подчиняет своей игрой. Он, как говорится, «подчиняет голосу», от которого моментами захватывает дух. В этот вечер во время Larghetto его звук моментами был особенно величествен и чуть притушен. Нервная горячность в финале Токкаты, эта правдивость, присущая только ему. Кажется, будто он играет потому, что у него властная потребность подчиниться музыке и преодолеть трудности в борьбе. Эта легкость, наэлектризованность, эта нежность, эти быстрые сверкающие штрихи ослепляют нас. Затем он резким движением отрывает руки от клавишей рояля и уходит, отняв у нас покой.
В Народном национальном театре – потрясающий концерт! Рихтер у рояля! Он извлекает из инструмента самое прекрасное! Он захватывает вселенную! От сонаты ми-бемоль мажор № 52 Гайдна веет свободой, что-то между нервной пылкостью и глубокой тишиной. Затем он играет три новеллетты Шумана (фа мажор, ре мажор и фа-диез минор). В них Рихтер сначала дает жестокость, резкость, решимость, почти ярость, и этим он еще больше подчеркивает нежность внутренней темы. Разумеется, его игра выразительна. Он художник и скульптор; он воздействует своими могучими руками, разумом, силой воображения, богатой созидательной фантазией и внутренней мощной энергией. Его встреча с Шуманом впечатляет. Здесь полная зрелость, достижение высот мысли, прозрачная чистота воздуха горных вершин. Порой во второй новеллетте мы словно слышим покой безмолвия. В третьей – одной из тех, где автор достигает глубин (хотя, по его мнению, новеллетта веселая), у Рихтера глубокий диалог с самим собой, и, казалось бы, на грани растворения в нежности остается его несгибаемая воля...»
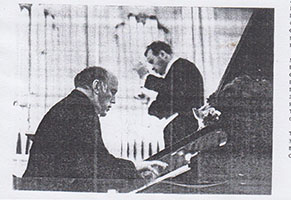
М.Самарский.
«Музыкальная жизнь», 1967, №22.
МОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
Музыкальных событий в Москве всегда в избытке. Их особенно много было нынешней осенью, когда в канун 50-летия Октября столица наша принимала в театрах и концертных залах посланцев искусства пятнадцати союзных республик. И все же Москва, привечая гостей, радуясь их успехам, ждала также начала и «своего» музыкального сезона.
Симфонический сезон открылся 12 сентября. В Большом зале консерватории выступил Государственный симфонический оркестр СССР под управлением Евгения Светланова. В программе прозвучали произведения Глинки, Бриттена, Шостаковича.
Интересно и (не побоимся этого слова) выгодно составленная симфоническая программа – тоже в своем роде искусство. Об этом не раз говорили маститые, умудренные большим концертным опытом дирижеры. Вот что, например, советовал Шарль Мюнш: «Стройте программу так, чтобы внимание слушателей ни на минуту не ослабевало. Для этого существует два способа. Первый – выбирайте и исполняйте произведения в порядке нарастающей интенсивности их воздействия. Второй способ – создайте впечатление разнообразия, сопоставляя произведения самых различных стилей, эпох и содержания».
Думается, что в построении своей концертной программы Е. Светланов сочетал оба способа. От классически ясной, напевной «Симфонии на две русские темы» Глинки к неизвестному у нас фортепианному концерту Бриттена, представляющему совсем другую эпоху и другой стиль, а затем к величественной трагедийной Восьмой симфонии Шостаковича – уже в таком сочетании различной по характеру музыки заложено драматургическое начало. Весь концерт сложился для слушателя в продуманную, выразительную смену картин, образов, чувств, состояний...
Над «Симфонией на две русские темы» Глинка работал в 1834 году в Берлине. Это был важный период его творчества. Композитор был на пути к «Сусанину», и все, что он писал в то время, можно принять за эскизы к одной из самых капитальных его работ. «Тоска по отчизне, – признавался Глинка, – навела меня постепенно на мысль писать по-русски». Эти слова композитора как нельзя лучше характеризуют музыку «Симфонии», решенной в жанровом плане, в сопоставлении и развитии двух контрастных образов – протяжной и плясовой народных песен.
«Симфония» осталась неоконченной, и спустя сто лет, в 1937 году, ее завершил и отредактировал В. Шебалин. Какая это ясная, по-моцартовски легкая и прозрачная партитура! Поистине классична ее структура, в которой все идеально соотнесено, уравновешено до мельчайшей детали. Гибки и рельефны каждая оркестровая фраза, каждый инструментальный подголосок...
Оркестр и дирижер исполнили «Симфонию» Глинки с верным ощущением стиля. Выразительно прозвучали все инструментальные соло у струнных и деревянных духовых.
Святослав Рихтер впервые сыграл в Москве фортепианный концерт Бенджамина Бриттена. Сыграл вдохновенно, чарующе просто, с каким-то особым изяществом и полетностью. Бриттен в этом своем раннем произведении (концерт написан в 1938 году, вторая редакция в 1945 году) пленяет задором и молодостью, стремительной энергией движения, игрою красок. В «Токкате» и «Марше» (первая и четвертая части) заметна стилистическая близость к молодому Прокофьеву – та же звонкость, задиристость, острота музыкальных образов, та же склонность к гротеску, к юмору. Эти элементы впоследствии не пропадут в творчестве Бриттена: он разовьет их и в остроумном «Путеводителе по оркестру» («Вариации и фуга на тему Перселла»), и в операх «Альберт Херринг» и «Сон в летнюю ночь», и во многих других своих симфонических и камерных произведениях.
Несколько необычна для Бриттена вторая часть концерта («Вальс») с ее грубоватой, подчас на грани банального, мелодией. Зато третья часть («Экспромт») проникновенна, задумчива, и это оттеняет напор и динамику крайних частей цикла.
Не будем искать в этом сочинении особой глубины, масштабности, симфонического развития музыкального материала. Сам Бриттен отмечал, что при создании концерта его больше привлекала «разработка разнообразных характерных особенностей фортепиано, таких, как его громадный диапазон, ударные свойства, пригодность для фигураций; так что он ни в коем случае не является симфонией с фортепиано, а скорее – бравурным концертом в сопровождении оркестра».
Эта особенность стилистики концерта была великолепно раскрыта Рихтером. Необычайная виртуозность его игры казалась свойством самой музыки...
Чутким партнером в исполнении концерта показал себя оркестр. Е.Светланов был гибок в дуэте с солистом, очень точно соразмерял звучность оркестровых групп с фортепиано.
Завершила концерт Восьмая симфония Шостаковича. Сравнительно недавние первые обращения Светланова к музыке Шостаковича были весьма успешными. По прошлым сезонам запомнилась трактовка Десятой и, особенно, Седьмой симфонии... Многие задавались вопросом, как же прозвучит у этого дирижера рожденная в грозном 1943 году Восьмая симфония – одно из величайших произведений нашего бурного и сложного века, трагическая симфония-исповедь, в которой глубокая философская мысль и картины, воссоздающие «прямое» действие, сплелись в удивительном единстве.
Речь идет о существе образной структуры Восьмой симфонии, о соотношении в ней субъективного и объективного начал. Музыкальный критик Б.Ярустовский верно подметил характерную черту стиля этой симфонии: «Программность Восьмой носит гораздо более лирический характер, в ней акцентируются не столько мир объективной действительности, сколько переживания впечатлений этого мира и вызванные им состояния». Е. Светланов, напротив, вынес на первый план и, насколько возможно, усилил именно объективную сторону музыки. Он как бы сгладил ее «углы» и противоречия, успокоил боль, «утишил» крики и стоны, которые живут в этой музыке. Как бы «со стороны» слушались страшные по своей образной силе вторая и третья части симфонии. Это было сыграно сильно, но это был скорее рассказ о действии, чем само действие. Вероятно, не случайно Е.Светланов сдержал в «Токкате» бег музыки. Прозвучало очень весомо и... чуть отстраненно.
Многим слушателям известна трактовка Восьмой симфонии Евгением Мравинским. В чем-то даже интересно сопоставить эти два исполнения. Там, где у Мравинского – обостренное переживание, само событие, происходящее здесь же, лично с вами, у Светланова – взгляд издали, как будто событие происходит с дорогим для вас человеком, но не непосредственно с вами. «Так есть!» – играет Восьмую симфонию Мравинский. «Так было!» – играет ее Светланов. В этих двух исполнительских подходах к Восьмой симфонии спорят жизненный опыт, разность отношения к миру, разность восприятия талантливыми художниками одной и той же музыки.
Можно не соглашаться- с кое-какими чертами трактовки Е.Светлановым Восьмой симфонии, но нельзя не отметить многих великолепно прозвучавших эпизодов в первой, четвертой и пятой частях, особенно в моменты глубокого раздумья, внутренней сосредоточенности. Великолепно играл оркестр, показав большую гибкость нюансировки и динамику звучания.
М.Самарский
«Советская музыка», 1967, №12
«…СОЮЗ НЕСРАВНЕННОГО ПЕВЦА И НЕСРАВНЕННОГО ПИАНИСТА….»
На традиционных музыкальных празднествах в Турени (Франция) приняты совместные выступления крупнейших исполнителей мира. На сей раз всеобщий интерес вызвал концерт Святослава Рихтера и Дитриха Фишера-Дискау. Вот что пишет об их «блистательном дуэте» Жорж Леон в «L’Humanité»:
«Каждый из двух артистов обладает столь яркой индивидуальностью, что можно было опасаться, как бы они, помимо своего желания, не помешали друг другу. Первые же такты «Magelone-Lieder» Брамса не только рассеяли тревогу, но дали возможность присутствующим пережить нечто незабываемое.
Брамс, вероятно, никогда не был так до конца понят, как этими совершенными исполнителями, И Рихтер и Фишер- Дискау – каждый в своей партии – сумели «прочесть» композитора и пережить созданную им музыку с предельной тонкостью и интеллектом. Написанная на поэмы Людвига Тика, она является образцом музыкально - фантастического рассказа. Вся гамма человеческих переживаний – от тихой нежности до глубокой страсти и трагичности – живет в этих страницах.
Есть на немецком языке хорошее выражение: «делать музыку». Оно точнее всего обозначает то, что делали Рихтер и Фишер-Дискау. Безоговорочно подчинившиеся партитуре, они, казалось, были поглощены странным очарованием этой музыки. Они настолько подчинили себе слушателей, что мы уже не слышали в отдельности ни пианиста, ни певца, а воспринимали лишь поразительный ансамбль, изумительно получившееся у них единство. Простота и правдивость, богатство исполнительского искусства обоих – потрясли. Те, кто слышал их в Турени, пережили нечто незабываемое – союз несравненного певца и несравненного пианиста».

Я.Мильштейн.
«Советская музыка», 1968, № 1.
НА ВЕРШИНАХ ИСКУССТВА
Никакая похвала не кажется достаточной, когда оцениваешь игру Рихтера. Все здесь поражает. Глубина мысли, чистота чувства, поистине сказочное мастерство. Не будет преувеличением сказать, что игра его находится на пределе возможного и достижимого...
Исполнительская манера Рихтера единственна в своем роде. Он никогда никого не копирует. Он далек от стандарта. Ничего не заимствует из вторых рук. Во всем остается верным самому себе. Его замыслы – плод живого воображения. Почти в каждой его интерпретации содержится нечто такое, что способно привлечь к себе восхищенное внимание слушателей.
Майские концерты в Москве, прошедшие с огромным успехом, были особенно примечательными. Они словно овеяны свежим воздухом, пропитаны жизненными соками. Ни в одном из них не чувствовалось усталости, натянутости, равнодушия. Пленяли поразительная легкость, естественность, свобода во всем, молодость чувства. Были произведения – например, 12 прелюдий Дебюсси, Концерт № 2 Бартока, Концерт № 5 Прокофьева или Соната d-moll Вебера, Соната h-moll Листа,– о которых можно сказать только одно: трудно представить себе, чтобы их можно было сыграть лучше.
В чем же секрет этой неувядающей художественной силы? В чем секрет ее воздействия на самые разные круги слушателей?
Прежде всего, Рихтер как никто умеет быть ясным. Он мыслит на редкость логично. Его намерения нельзя не понять. Самые тонкие оттенки мысли и чувства он выражает совершенно отчетливо. Можно не уловить всех разветвлений его фантазии, но характер направляющих мыслей, их особенность поймет каждый, желающий и умеющий слушать музыку.
Рихтер всегда уверен в том, что хочет сказать. И он умеет найти адекватное выражение для своих замыслов. Есть пианисты, у которых порой в игре доминируют смутные (а то и совсем мутные) представления. Здесь этого никогда не бывает и быть не может; все мыслится четко, без вывертов, ненужных усложнений и ухищрений. Никакой недоговоренности. Никакой расплывчатости. Постоянное стремление к строгой симметрии, к упорядоченности и стройности замыслов, равно как и средств их воплощения. Постоянное стремление к соразмерности. Ясность – первое и непреложное достоинство.
Рихтер играет с необыкновенным благородством и, в сущности, просто. Те, кто полагает, что пианист в иные моменты «выдумывает», «мудрит», глубоко заблуждаются. Его фразировка безукоризненно точна, верна по смыслу; темпы, нюансы обоснованы самой логикой музыкального развития. И сила пианистического выражения всегда соответствует силе чувствования.
Он удивительно тонко воссоздает на фортепиано звукокрасочные эффекты (эта линия преодоления «фортепианности», создания оркестрового колорита в искусстве пианизма связана с именами Листа и Бузони), в небывалых масштабах владеет приемом звуковой перспективы, мастерски варьирует динамику, тембровую окраску звука, точнейшим образом соподчиняет различные звуковые планы по степени их значимости.
Но искусство его не только ясно, точно и блистательно в звуковом отношении. Оно на редкость живое, одухотворенное, образное. Слушая, почти «зримо» представляешь себе образы исполняемого, будь то пейзажи, сцены или фантастические картины. Все становится живым, все приобретает выразительный смысл.
Рихтер обладает особым умением внезапно переходить от бушующего fortissimo к легчайшему pianissimo, основанному на гибкости и мягкости туше, на мягком, скользящем прикосновении к клавишам. Он не только с удивительным совершенством подготавливает кульминацию и развертывает ее, последовательно доходя до «эпицентра», но и с непостижимой легкостью и естественностью сменяет динамическое нарастание спадом.
При всем этом – еще одно редкое артистическое качество; умение убеждать слушателей, подчинять их своей художественной воле. В его исполнении подчас, может быть, немало неожиданного, непривычного. Но он настолько ясно и точно слышит, разрабатывая самые глубинные пласты музыки, настолько проникается исполняемым, что слушатель невольно подпадает под власть его интерпретации. Что бы он ни играл, его исполнение никогда не бывает разорванным, бессвязным, непродуманным, поверхностным, внешне эффектным, игрой контрастов света и тени. Оно всегда продиктовано внутренними побуждениями и основывается на ощущении внутреннего единства произведения, на раскрытии основной мысли, которой подчиняется все – вплоть до мельчайших деталей.
Но, быть может, самое удивительное свойство Рихтера – это умение подойти к каждому музыкальному стилю по-разному, умение понять и по-своему раскрыть его закономерности. Репертуар Рихтера необычайно обширен и многогранен (в этом отношении он, пожалуй, не знает себе равных среди современных пианистов) – и каждого композитора пианист интерпретирует индивидуально. Майские концерты могут служить тому наглядным примером. В них была достаточно широко представлена классика (две сонаты Гайдна – Es-dur и E-dur, два концерта Моцарта, Соната As-dur соч. 26 Бетховена), романтика (Соната d-moll Вебера, Соната h-moll Листа, Первая, Вторая и Восьмая новеллетты Шумана, Первая баллада и Баркарола Шопена. Концерт № 2 B-dur Брамса, 12 прелюдий Дебюсси), а также сочинения, близкие к современности (Концерт № 2 Бартока, Концерт № 5 Прокофьева). Иное у него было сильнее, иное слабее. В одном он был ярче, в другом – более сдержан. Но во всем налицо было ясное представление о стилистических различиях исполняемых произведений – как в отношении общего настроения, так и в отношении звуковых красок и технических деталей, – о присущей каждому произведению особой внутренней атмосферы.
Моцарт у Рихтера особенный. И в силу этого, вероятно, не всем одинаково нравится. Иные находят его несколько «выровненным», сухим, академичным. Для меня же он – на редкость «стильный», сдержанный, отточенный. Никаких попыток удивить слушателя оригинальностью, необычным подходом к тексту. Никакой «цветистости» в нюансировке. Преднамеренное ограничение средств эмоциональной выразительности. Только самое необходимое, самое нужное – и всегда на нужном месте. Господствует умеренная температура. И над всем царит строгий Превосходный вкус.
Отсюда, как мне кажется, стройность интерпретации, направленной больше вглубь, вовнутрь, чем вовне. Отсюда – объективное начало, которое пронизывает все элементы исполнения. Попробуйте что-либо сместить в его интерпретации – заменить одни динамические нюансы другими, модифицировать темпы. Из этого ничего не выйдет. Вы обнаружите, что в данном истолковании возможно только это, ничто другое. Именно в такой совершеннейшей, эмоционально сдержанной манере был исполнен Концерт Es-dur № 22 Моцарта, с оригинальными, удивительно свежими каденциями Бриттена.
В то же время такой Моцарт весьма далек от стилизации, от омертвевшей традиции. Интерпретация как бы сообразуется с прошлым, но в главном предстает в духе своего времени.
Некоторые слушатели, отдавая должное поразительной ясности рихтеровского Моцарта, его стройности, отсутствию аффектации, лаконичности средств выражения, говорят, что иногда внимание их как-то отвлекается, что исполнение их не всегда увлекает, оставляя в чем-то равнодушными. Меня подобная интерпретация восхищает; ибо она преподносит музыку Моцарта без чувственной примеси, так сказать, в ее чистом, первозданном виде.
Несколько иной оттенок обнаруживает истолкование Гайдна. В нем – сошлемся хотя бы на исполненную в концерте 10 мая Сонату Es-dur – пленяет какая-то весенняя радость, легкость, жизнерадостная непосредственность. Многие играли эту сонату, но редко кто приближался к подобному, проникнутому удивительной свежестью характеру. Причем звучит Гайдн естественно, просто, неприкрашенно. Пианист во всех деталях стремится к максимальному совершенству. Уравновешенность и точность его игры достойны здесь высшего признания.
В Бетховене (Соната As-dur соч. 26) еще более ясно выявляются основные тенденции рихтеровской интерпретации классиков. Не только безупречность внешних форм, но и совершенство выявления внутреннего содержания. Не только пианистическая законченность, но и строгость художественного выражения; величественное спокойствие, гармония в соотношении целого и частей. Сколько раз приходилось нам слышать эту сонату у Рихтера! И всегда восхищали образность и колорит отдельных частей, столь непохожих одна на другую, их четкий облик и взаимная связь. Каждый раз они пленяли наше воображение, и каждый раз – по-новому.
12 прелюдий Дебюсси (2-я тетрадь) – вот где столкнулись мы с поистине неподражаемой живописной образностью! Все словно оживало под пальцами пианиста – и легкое волнение водной глади, и стихийные порывы ветра, и яркий свет солнечного дня, и меркнущая атмосфера предвечернего часа. Незабываемыми остались таинственная звуковая облачность «Туманов» с их короткими бликами света, мягкое печальное кружение листьев в «Мертвых листьях», легкий взлет призрачных видений в «Феях – прелестных танцовщицах», скорбно-нежное пение в «Канопе». Можно ли забыть сверкание укачивающих волн «Ундины» (скорее нежной, лукавой, чем вызывающей), добродушие и сочную насмешливость «Пиквика, эсквайра», шуточный гротеск (в духе Тулуз-Лотрека) «Генерала Левайна – эксцентрика», фантастические звучания «Чередующихся терций»?! А сколь необычным и – не боюсь сказать этого слова – уникальным было исполнение «Фейерверка» – с его праздничным сиянием, треском загорающихся огней, красочными giissando, искрящимися пассажами, световыми бликами. Звуки здесь словно вылетали, как бы окруженные светящимися искорками; все было фантастично, причудливо; рояль исчезал, и казалось, что перед нами совсем другой инструмент, сверкающий десятками красок. Исполнение это основывалось на «образном» использовании различных пианистических приемов, на их контрастном чередовании и комбинировании. (Вообще следует заметить, что движения рук у Рихтера поразительно точно соответствуют характеру образа. Вспомним резкий отскок рук – вниз за спину – в конце прелюдии «Генерал Левайн - эксцентрик». Или легкие, как бы струящиеся движения пальцев в «Ундине».)
В прелюдиях Дебюсси мы столкнулись не только с живописной образностью, но и с тончайшими звуковыми градациями, почти неуловимыми педальными эффектами. Напомним хотя бы нежно вибрирующие нити трелей в прелюдии «Феи – прелестные танцовщицы» (звучание редкого совершенства!), или мягкие трезвучия, словно окутанные сеткой мелких нот, в «Туманах», или воздушную звучность (достигаемую с помощью порхающего попеременного движения рук) в «Чередующихся терциях», или, наконец, какие-то особые «полупроводники» звучности в «Канопе» и «Ундине». Казалось, все помогало пианисту воссоздавать на фортепиано самые зыбкие, неуловимые эффекты. Казалось, все давалось ему словно само собой, без всякого напряжения и труда. А ведь на самом деле это было не так! И нам вспомнились слова Рихтера, сказанные им как-то по поводу «Чередующихся терций»: «До чего же трудно играть эту прелюдию... Это что-то вроде «Feu follet». Мучаюсь, мучаюсь – и все не выходит!» Но не все ли равно, как достигается впечатление легкости и совершенства? И не более ли ценно и дорого то, что достигается ценой преодоленных усилий?
Характерно, что в интерпретации Рихтером прелюдий Дебюсси колорит поражает не столько сам по себе, сколько в сочетании с ясностью мышления. Каких бы звуковых красок не добивался пианист, он ни в чем ни на йоту не поступался логикой выражения. Как-то в разговоре он заметил, что нет ничего хуже, чем играть Дебюсси неясно. И эти слова невольно вспомнились нам после исполнения 12 прелюдий в концерте 26 мая. Да, в этом поразительном исполнении отдельные фразы завораживали своей нежнотомной неповоротливостью, пассажи легко набегали, как волны на отлогий берег, иные фразы настолько тонко очерчивались, что невольно вызывали потребность в каком-то резком контрасте, а мощные звучания рождались словно из глубины рояля. Но во всем чувствовалась предельная ясность и органичность мысли, точное соблюдение меры. Профессионал, исполнитель знает, сколь трудно бывает уловить момент, когда найденные и отобранные средства перестают давать нужный, единственно верный эффект. В определении этого момента Рихтер непогрешим. Чувство меры и пропорций ни разу не покинуло его в интерпретации Дебюсси.
Говорят, что у совершенства есть один изъян: оно может наскучить. Но то совершенство, с которым мы соприкоснулись в рихтеровском исполнении прелюдий, всегда будет радовать и вызывать лишь чувство восхищения.
Заметное место в концертах занимали сочинения Шопена (Баркарола, Первая баллада). Как и всегда, Рихтер играл их своеобразно, содержательно, великолепно по мастерству. И как всегда, его исполнение Шопена вызвало различные суждения. Одних оно удовлетворило в полной степени, другим – показалось несколько натянутым, искусственным. Мне и раньше и теперь представляется, что к рихтеровскому Шопену нельзя подходить с обычной меркой. Это совсем не тот Шопен, к которому старшее поколение советских слушателей привыкло хотя бы по исполнению К.Игумнова, или Г.Нейгауза, или, наконец, по исполнению В.Софроницкого. Это и не Шопен Артура Рубинштейна или Альфреда Корто, столь памятный по их концертам в Москве в тридцатых годах. Это совсем другой Шопен. Предельно ясный, цельный – словно высеченный из единого куска мрамора. Ему, быть может, порой не чужд целомудренный холодок. Но зато он стройный, сдержанно благородный, более строгий. Это Шопен, органически чуждый чувственным преувеличениям, субъективным излияниям, повышенно лирическому пафосу. В нем преобладает внутренняя интенсивность мысли, стремление к сжатости, лаконичности выражения. В нем все проникнуто ясным духом, чистотой намерений. Словом, это Шопен, выраженный в совершеннейшей форме благородства и эмоциональной сдержанности.
Для интерпретации Сонаты h-moll Листа Рихтер использовал совсем иной арсенал выразительных средств. Его игра – с начала до конца – была стихийной, одухотворенной до предела. Казалось, перед нами развертывается сама жизнь человека с ее радостями и горестями, взлетами и падениями. Поэтические представления, драматические коллизии доминировали здесь над всем. Они словно входили в сферу музыки и сами превращались в нее. Была использована вся шкала силы и выразительности чувства – от нежнейших проявлений (вспомним хотя бы doicissimo в среднем эпизоде сонаты или cantando espressivo во второй побочной теме) до бурной страсти (вспомним неукротимо-неистовые взрывы чувства и главной партии и в разработке сонаты).. Покой, тишина и сосредоточенность органически перемежались с высочайшим накалом, крайней напряженностью, высшей степенью возбуждения. Причем взволнованности, нагнетанию чувства полностью отвечали градации силы и характер звучания. Внутренней динамике выразительности соответствовала динамика внешняя, штрихи и инструментовка (можно указать, например, на решительно-волевое, неукротимое исполнение первой темы, едко острое исполнение саркастического мотива, таинственно затянутые pizzicato вступления, как бы приоткрывающие завесу основного действия, торжественно-утверждающее ослепительное звучание Grandioso, наступательный характер fugato, сумрачно трагический колорит заключения и т. д.).
Интерпретация Рихтером Второго концерта Бартока раскрыла еще некоторые стороны его исполнительского искусства. Но заниматься детальным разбором этой интерпретации (а она того стоит) в пределах данной статьи невозможно. Пришлось бы следить за развитием пианистического действия шаг за шагом. Ибо здесь каждый такт – это шедевр. Тем не менее можно сразу же определить ее отличительные черты. Рихтер играл концерт Бартока не просто ярко, увлекательно, энергично и совершенно в виртуозном отношении. Он играл его с удивительно верным ощущением стиля, с полным проникновением в мир композитора. В его исполнении было все – и стихийный размах, и ясность мысли, и величие чувства, и тонкость нюансировки, наконец, безупречный вкус. Не знаешь, чему отдать здесь предпочтение – первой ли части концерта с ее ярким праздничным колоритом и энергичным движением, или второй, где сильная душевная напряженность была передана в сдержанных тонах, или же третьей, напористой, бурной, исполненной волевой устремленности, изобилующей неожиданными сдвигами и перебоями ритмических акцентов. Да, все соединилось здесь в одно неразрывное целое. О таком исполнении, в котором личность автора, насколько она проявилась в данном сочинении, и личность исполнителя гармонично слились, можно лишь мечтать.
Образы прокофьевского Пятого концерта были воссозданы с отнюдь не меньшей артистической силой. Надо быть музыкантом и пианистом, чтобы понять, насколько трудно слепить воедино и преподнести «во весь рост» различные эпизоды этого концерта. Легко здесь впасть в детализацию, потерять единую смысловую нить, еще легче – сыграть бесцветно, неопределенно. Между тем в интерпретации Рихтера музыка поразила как раз необычайной цельностью и рельефностью образов, верностью взятого тона В каждой его части выступало нечто характерное (вспомним, например, добродушный гротеск первой части, поистине неудержимый натиск третьей, скупую нежность четвертой и. наконец, особый свет, излучаемый в финале), и в то же время во всем чувствовалась сквозная линия развития. Ни тени нарочитости, надуманности. Подобная интерпретация – это особый мир, воссозданный с поистине великим мастерством.
Главной особенностью исполнения Концерта B-dur Брамса являлась огромная внутренняя мощь в сочетании со сдержанностью выражения. Все усилия, казалось, были направлены на то, чтобы произведение предстало широко, величественно, полно и вместе с тем сжато, лаконично. В каждой части Рихтер заметно выделял основную линию действия, которую от начала до конца развертывал на первом плане. Отсюда и оригинальность его интерпретаций Брамса: словно могущественный ваятель лепит образы, полные жизни, контрастов.
Конечно, такое исполнение, которое дает нам Рихтер, требует всего человека без остатка. Оно основано на максимуме напряжения душевных и физических сил. Оно никогда не бывает равнодушным, безликим. Рихтер играет много. Но он никогда и ни в чем – его майские концерты в Москве это лишний раз подтвердили – не теряет способности слышать исполняемое своими ушами, в своей индивидуальной окраске. Он всегда неповторимо своеобразный. Ничто не притупляет его восприимчивости, не тормозит его воображения.
И с каждым годом проникаешься все более глубоким уважением к сверхчеловеческому труду Рихтера. Он, казалось бы, достиг самых высоких вершин искусства, а идет все дальше и дальше в своем мастерстве. Поистине странные вещи творятся на свете: гиганты тоже растут...

Виктор Юльевич Дельсон
“Музыкальная жизнь” # 16 [258], август 1968 года
Мудрое искусство
Мало кто – даже из самых выдающихся советских и зарубежных исполнителей так заставляет слушателя размышлять о музыке, как Святослав Рихтер. Размышлять об эпохе и стиле исполняемого, об авторском замысле и его воплощении, о принципах интерпретации, об особенностях пианизма. Искусство Рихтера будит мысль прежде всего потому, что оно само – продукт глубочайшей мысли. Страстный интеллектуализм исполнительства Рихтера – тот источник, из которого вытекают и кристальная ясность в лепке формы, и сторогость динамики во фразировке, и чистота накала в экспрессии, и мудрая соотносимость целого и деталей. В этом музыкальном созидании вдохновенность замысла и высокая эстетическая идея удивительно сочетаются с точностью плана и гармоничностью конструкций.
Исполнительское искусство Рихтера не только будит мысль, но и порождает споры, стимулирует столкновения взглядов и вкусов. Только недооценка проблемной сущности рихтеровского искусства, его дискуссионности в постановке исполнительских задач приводит к тому, что концерты выдающегося мастера редко вызывают серьезную эстетическую полемику.
К такого рода проблемным выступлениям пианиста следует отнести и один из его фортепианных вечеров в мае 1968 года в зале им. П.И. Чайковского, когда Рихтером были сыграны не столь часто исполняемая Соната Моцарта до мажор (по Кёхелю - # 309), очень редко звучащее у нас на большой концертной эстраде Пятнадцвть вариаций с фугой на тему из балета “Творения Прометея” Бетховена и “Симфонические этюды” Шумана, с включением в цикл пяти посмертных этюдов.
Сочиненное почти 200 лет тому назад (в 1777 году), произведение австрийского гения прозвучало исключительно свежо, не побоюсь даже сказать, современно. Пианист играет сонату (особенно ее первую часть, Alltgro con spirito) c предельной увлеченностью, с доведенной до высшей точки интенсификацией всех средств выразительности, с богатейшими градациями динамики и темповым разнообразием. Он решительно отказывается от всего, что могло бы привнести в интерпретацию черты “музейного показа” клавесинной литературы (к сожалению, такой стиль исполнения Моцарта практикуется даже рядом видных музыкантов). Характерно, что и образы грациозные, изящные Рихтер органично вводит в сферу классицизма, решительно выключая их из “галантного стиля” рококо (стиля, едва ли не наиболее далекого современному мироощущению). Сохраняя в неприкосновенности определяющие черты моцартовского духа, Рихтер добивается обновления давно знакомых образов.
Трактовка бетховенских вариаций (соч. 35 ми бемоль мажор), сочиненных на тему контрданса из финала балета “Творения Прометея”, является образцом симфонизации материала. Нет сомнения в том, что такой исполнительский замысел соответствует авторскому: не случайно же тема послужила основой для финала “Героической” симфонии.
Прослушивается в интерпретации Рихтера и “направленность” формы выриаций: они воспринимаются как трехчастное сонатное построение, в которм первую часть составляют первые четырнадцать вариаций, пространное adagio пятнадцатой как бы олицетворяет медленную срединную часть сонатной формы, а завершающие фуга и кода образуют сонатный финал. Такое восприятие было потому обоснованно, что быстрые темпы вариаций были пианистом еще убыстрены, а долго длящееся adagio подчеркнуто замедлено (явление типичное для Рихтера, за редким исключением склонного к поляризации темпов).
С другой стороны, артист великолепно раскрывает демократические, бытовые темы контрданса (он был сперва написан в жанре бального танца). Надо полагать, что столь яркое и мастерское прочтение вариаций вызовет последователей, как это уже не раз бывало с произведениями, утверждение которых на концертной эстраде принадлежало Рихтеру (напомним хотя бы о мало исполнявшихся до Рихтера шубертовских сонатах).
В трактовке “Симфонических этюдов” Шумана пианист открывает немало нового. Он меньше всего стремится зачеркнуть возвышенно опоэтизированное, истинно романтическое прочтение гениального цикла, лучшие образцы которого были, начиная с середины 20-х годов, преподнесены советскому слушателю в концертах Робера Казадезюса, Владимира Горовица и, в особенности, Владимира Софроницкого. Воспоминания об этих выступлениях нетленны, и даже столь могучему исполнению, как рихтеровское, их не стереть.
Дело не в отрицании предшествующего, а в том, что здесь воплощена иная концепция – более монументальная, более объективная, однако менее “осердеченная”, как любил говорить Станиславский. Рихтер делает упор не на прочувственности образов, а на их интеллектуальной содержательности. Он преднамеренно поступается интимностью высказывания, но зато выигрывает в компактности целого, теряет в деталях, но приобретает грандиозность единой вариационно-циклической линии. В этой интерпретации есть приближение к современному восприятию романтического начала в искусстве.
Трактовка Рихтера столь проблемна, что о ней хочется поговорить со всей конкретностью. Пианист исполняет трагическую тему с подчеркнутой сдержанностью, почти на ровном и сплошном piano (coвершенно по-иному, чем Софроницкий, акцентировавшей часть темы и возвышавший ее трагедийную выразительность) . В третьем аккорде тема, отданная левой руке, выделялась очень мало – “фоновые” пассажи правой руки приобрели почти равноценную роль с темой (здесь нам показалось, что Рихтер несколько гипертрофированно воплощал свои намерения). Четвертый, исполненный абсолютно ровно и медленнее обычного, и пятый этюды звучали превосходно – власть над звуком и управление ритмом восхищали! Особо крупно, “фресково” был исполнен восьмой этюд (седьмая вариация). Подчеркнуто сухими тембрами играет пианист девяты этюд. Широкими мазками и с огромной интенсивностью выполняется замысел десятого. В интимно-лирическом одиннадцатом хотелось большей откровенности высказывания; за поразительным мастерством ведения кантилены на ритмически взволнованном фоне порой проскальзывает холодок абстрагирования от живых эмоций. В двенадцатом поражала ровность в передаче расходящихся движений. Рихтер отказывается даже от намека на общепринятую задержку перед последним аккордом сфорцандо – никакого “оседания” в завершении – вот немаловажная особенность исполнительской концепции созидаемого образа. Может быть, это один из способов преодоления несомненной “длиннотности” формы этюда? Вспомним, кстати, что в свое время Горовиц, с удивительной выразительностью игравший двенадцатый этюд, как раз тяжело “садился” на эти завершения фразы, чем заметно тормозил общее поступательное движение. Но даже после прекрасного рихтеровского исполнения склоняешься к мысли, что в этюде, вероятно, необходима купюра…
Несколько слов о дополнении цикла пятью посмертными этюдами. Они превосходны, изысканны, но их стилистическая чужеродность очень заметна. Сказывается значительность творческого пути, пройденного Шуманом от периода написания первых двенадцати этюдов до вторых пяти. Как известно, Клара Шуман не включала их в цикл. На большую концертную эстраду эти этюды стали проникать главным образом после Софроницкого. Но он их “незаметно” вкрапливал между этюдами первого цикла, чем достигал большей их “вписанности ” в общий поток. Зато у Рихтера они звучат единым комплексом, утонченным и благоухающим.
И еще одно соображение. Любопытная вещь: Рихтер остро заинтересовывает и в тех случаях, когда его точку приемлешь не до конца или не во всем. Может быть, еще и поэтому концерты Святослава Рихтера – всегда значительное событие в нашей музыкальной жизни.

К изучению творчества
Д.Д.Шостаковича
Д.Шафран.
«Советская музыка», 1969, №9
ЖЕМЧУЖИНА КАМЕРНОГО РЕПЕРТУАРА
Чувство огромного волнения сопровождает встречу с каждым новым опусом Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Какой гранью своего исполинского дарования предстанет художник перед нами на этот раз, как проявится его образно-философское мышление, в какую форму будет облечено композиторское мастерство?
Эти и многие другие вопросы возникали и перед премьерой Сонаты для скрипки и фортепиано. И хотя я не предполагал писать о ней, впечатления от услышанного оказались столь сильными, что затмили трезвую мысль о том, что прежде всего должны быть выслушаны мнения слециалистов-музыковедов...
Соната буквально ошеломляет с первого прослушивания. И сразу же возникает желание слушать ее еще и еще, чтобы познать глубже, вникнуть в сущность, попытаться открыть для себя то прекрасное, мудрое, совершенное, что лежит в основе всего творчества композитора и особенно сочинений последних лет. И действительно, недавно созданные Второй виолончельный концерт, блоковский цикл, Двенадцатый квартет, а также скрипичная Соната как бы наглядно подтверждают известную истину: путь к совершенству безграничен. Объемность замысла, богатство содержания сочетаются в них с многогранностью музыкального стиля. Он вбирает в себя элементы разных эпох, несхожих приемов техники, которые органично переплавляются мощной индивидуальностью Шостаковича. Таков, например, Второй виолончельный концерт. Процесс его постижения представляется мне поистине беспрерывным: все новые и новые стороны высвечиваются при ближайшем знакомстве с произведением. Такова, мне кажется, и Соната, о которой в данном случае я говорю с позиций слушателя, а не интерпретатора. (Особое счастье исполнителя – суметь, следуя за автором, раздвинуть границы текста, открывая при этом невидимые горизонты, уходя в непознанные глубины.)
При знакомстве со скрипичной Сонатой, подлинно философской по содержанию, с особо ощутимым внутренним подтекстом, от исполнителей и слушателей требуется прежде всего напряженная работа интеллекта. Размышления художника в ней столь значительны, что перестают быть сугубо личными, становятся общезначимыми. Подобная идейно-смысловая нагрузка произведения в сочетании с огромной силой его эмоционального воздействия позволяет говорить о возникновении здесь «нового качества камерности». При этом высшая мудрость художника претворена в обобщающих афористически точных формах, что не исключает богатства оттенков эстетической палитры. Отдельные пласты (лирико-философский, гротескный, драматически-трагедийный) не получают прямолинейного выражения. Пожалуй, даже можно сказать, что строжайший отбор музыкальных средств способствует в Сонате обращению образного конфликта «вовнутрь». Видимо, этим и объясняется потенциальное напряжение тем-образов в некоторых частях сочинения, в то время, как внешне они сохраняют классическую пропорциональность, удивительную уравновешенность и ясность.
Действительно, – если вспомнить хотя бы Второй виолончельный концерт – Шостакович развивает в Сонате сравнительно небольшой интонационный материал, но тем ценнее потрясающая сила его выразительности.
Цикл здесь – не совсем обычный по строению (крайние, спокойные части обрамляют моторную, действенную среднюю) – хотелось бы истолковать следующим образом. Первая часть – музыка, простирающаяся «до горизонта»; лабиринт философских раздумий кажется бесконечным. Уже в ней дан основной тезис Сонаты, который подтверждает и вторая часть. Но и в последнем разделе цикла композитор не дает завершения концепции. Он как бы лишь заставляет слушателя вернуться вновь к исходной точке сочинения, еще раз прочувствовать услышанное и подумать о нем...
В целом образно-драматургическое движение в Сонате мне представляется в виде некоей спирали, где финал, завершающий виток, словно бы призван олицетворить непрерывность бытия.
Шостакович, Ойстрах, Рихтер – символы величайшего творческого могущества. Созвездие этих имен на концертной эстраде – событие огромного значения. Ойстрах – первооткрыватель многих сочинений композитора, ему же и посвящена скрипичная Соната. Вечер 3 мая подарил нам великолепный и незабываемый камерный дуэт Ойстрах – Рихтер. Их интерпретация станет эталоном для дальнейшей жизни произведения. И хотя партии инструментов в Сонате равноценны, хочется специально сказать о блестящих технологических приемах и находках, о великолепных каденциях скрипки, которые не производят самодовлеющего впечатления, а целиком порождены требованиями музыкального образа. Да, поистине счастливы исполнители, соприкасающиеся с творениями Шостаковича! И сейчас испытываешь хорошую зависть к скрипачам и пианистам, получившим такую жемчужину для своего репертуара. И невольно ловишь себя на мысли о том, как хочется, чтобы скорее родилась Вторая виолончельная...

А.Предтеченский. «Перелистывая концертные программы».
«Советская музыка», 1969, №12.
Святослава Рихтера я услышал впервые 16 февраля 1949 года. В сопровождении оркестра под управлением Е.Мравинского он исполнил Второй концерт Рахманинова. Пианист играл совсем не так, как сам автор. Интерпретация была куда мягче.