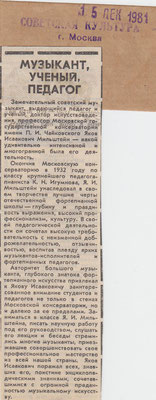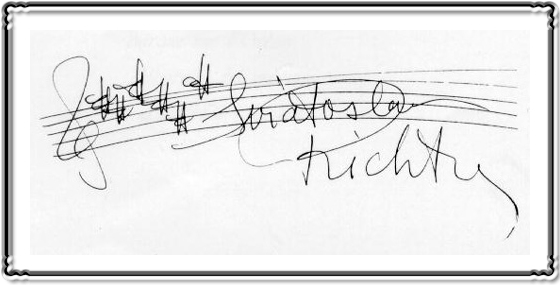


Святослав Рихтер
В книге: C.C.Прокофьев.
Материалы, документы, воспоминания. М.:1961, 708 с.
О Прокофьеве
https://yadi.sk/i/LYWpov_y37E33L
У меня было больше встреч с прокофьевской музыкой, чем с ее автором. Я никогда не был особенно близок с Прокофьевым как с человеком. Я стеснялся. Он для меня весь в своих сочинениях и раньше и теперь. Встречи с его сочинениями были встречи с Прокофьевым. О них я могу говорить. Вместе с тем, играя Прокофьева, я в какой-то степени исчерпываю то, что мог бы сказать о нем словами (в этом трудность моего положения). Но несколько ярких моментов непосредственных встреч с Сергеем Сергеевичем запомнились мне на всю жизнь.
Первая встреча. Первое, что связано у меня с именем Прокофьева, это — как все играют марш из «Любви к трем апельсинам». Новинка, которая всем очень нравилась. И когда Прокофьев приехал в Одессу и играл свои сочинения, все решили: единственное, что хорошо, — это марш. Он играл много, целый вечер, но ждали только марша. И музыканты говорили: «Да, замечательно, замечательно»... но все сводилось к маршу. Марш был издан в обложке с кружочками, квадратиками (новое! футуризм!).
Мне было двенадцать лет. Все мы — папа, мама и я — жили в Одессе. Папа преподавал в консерватории. Я любил сидеть дома и проигрывать с листа оперы — с начала до конца. Однажды папа взял меня с собой — в консерваторском зале должен был выступать Прокофьев.
Это был один из зимних дней. В зале были сумерки. К публике вышел длинный молодой человек с длинными руками. Он был в модном заграничном костюме, короткие рукава, короткие гитаны, — и, ве-
67
роятно, поэтому казалось, что он из него вырос. И все такое же клетчатое, как обложка «Трех апельсинов».
Помню, мне показалось очень смешным, как он кланяется. Он как-то так переламывался — чик! Притом глаза его не изменяли выражения, смотрели прямо и потому устремлялись куда-то в потолок, когда он выпрямлялся. И лицо его было такое, как будто оно ничего не выражало.
Потом играл. Помню, на меня произвело впечатление, как он играет все без педали и очень «законченно». Он играл свои мелкие вещи, и каждая была как элегантный деликатес в строго обдуманном меню. Для меня это было очень необычным и сильно отличалось от того, что я раньше слышал. По глупости и по детскости мне казалось, что все им сыгранное похоже одно на другое (такими же похожими друг на друга казались мне тогда и сочинения Баха).
В конце был марш.
Публика осталась довольна. Прокофьев тоже. Он кланялся с аккуратным довольным видом: не то цирковой фокусник, не то персонаж из Гофмана.
Потом я ничего о нем не знал. Нет, я знал со слов музыкантов, что существует такая «Классическая симфония». Что «Классическая симфония» хорошая, очень хорошая. Что она — образец для новых композиторов.
И еще, что одесский композитор Вова Фемелиди, написавший оперу «Разлом» и балет «Карманьола», находится под влиянием Прокофьева. Впоследствии я сам в этом убедился, но тогда он казался мне оригинальным. И все. О самом Прокофьеве я ничего не знал. Можно было подумать, что он «вышел из моды» и забыт.
Я знал, что есть Рахманинов, Пуччини, Кшенек (в те годы в Одесском оперном театре шли оперы «Турандот» и «Джонни наигрывает»), даже Пфицнер (клавир «Палестрины» был у меня дома), я знал Стравинского — слышал дважды «Петрушку», знал Шостаковича — смотрел клавир «Леди Макбет», но о Прокофьеве не знал ничего.
Так, вне Прокофьева, прошло десять лет.
Москва. В 1937 году я приехал в Москву и, став учеником Г. Г. Нейгауза, сразу погрузился в настоящую музыкальную жизнь. Открылись совершенно новые горизонты. Я узнал, «что такое» Мясковский. Появилась Пятая симфония Шостаковича — это было большое событие. В консерватории шли разговоры о Прокофьеве.
Как-то в солнечный день я шел по Арбату и увидел необычного человека. Он нес в себе вызывающую силу и прошел мимо меня, как явление. В ярких желтых ботинках, клетчатый, с красно-оранжевым галстуком.
Я не мог не обернуться ему вслед — это был Прокофьев.
Теперь его всегда можно было встретить. Хотя я почти его не знал, но это стало бытовой возможностью: я жил у Нейгаузов, а Нейгауз и Прокофьев жили в одном доме. Это было настроением той жизни — здесь живет Прокофьев.
Можно было услышать фразу: «Эти мальчики, что там ходят, такие прелестные... Это же сыновья Прокофьева: один старше, а другой вон какая куколка! Очарование!» Всегда можно было встретить жену Прокофьева — изящную женщину в синем берете, с нетерпеливым выражением лица. Б концертах я видел их вместе. Как-то мы шли, возвращаясь с концерта из Большого зала: Нейгауз, Толя Ведерников и я. Выходя из метро «Курская», у поворота на Чкаловскую улицу, Нейгауз радостно воскликнул: «Ах, Сергей Сергеевич, здрасте!»
Они пошли вперед, разговаривая. Прокофьев говорил что-то о Рихарде Штраусе. Кажется, иронизировал над его балетом «Легенда об Иосифе». Нейгауз не соглашался. Мы с Толей шли сзади, наблюдали за ними и «прохаживались» на их счет — на кого похож Нейгауз, на кого — Прокофьев. В общем, болтали неприличности, простительные в том возрасте.
К прокофьевской музыке я пока относился с осторожностью. Вернее сказать, я ее еще «не раскусил». Слушал всегда с интересом, но оставался пассивным. «Мешало» воспитание на романтической музыке. Мне казалось, что последнее достижение новой музыки — Рихард Штраус.
Когда в 1938 году появился прокофьевский виолончельный концерт, мне неожиданно предложили разучить его с виолончелистом Березовским. Я отнесся к этому как ко всякой другой работе, которую вынужден был делать для того, чтобы заработать деньги. Ходил к Березовскому в Кривоколенный переулок, на шестой этаж, в течение двух месяцев. Настроен был по-деловому. Березовский, с одной стороны, был доволен поручением, с другой — музыка была ему чужда. Он пожимал плечами, вздыхал, сокрушался насчет трудностей, но учил и очень волновался. Не могу сказать, что концерт мне нравился, но я уже чувствовал, как эта работа вызывает во мне интерес.
Когда мы впервые показали концерт в накуренной комнате Союза композиторов, который тогда находился на Собачьей площадке в «готическом» домике, он вызвал восторженный прием: «Настоящее событие. Такое же, как Второй скрипичный концерт». Был оживленный положительный диспут. Высказывались благожелательные напутствия Березовскому. Никто не сомневался в том, что сочинение будет иметь колоссальный успех. «Это новая страница». Тем не менее сочинение вскоре постигла неудача.
Когда мы пришли показать концерт Прокофьеву, он сам открыл дверь и провел нас в маленькую, канареечного цвета, комнату. На стенах висели эскизы декораций, кажется «Трех апельсинов», в карандаше или туши. Тут же он прикрикнул на детей: «Уходите, дети! Не мешать тут!» Потом сел. У Березовского был страшно сконфуженный
68
вид. Вероятно, поэтому Прокофьев не хотел особенно с ним распространяться, сам сел за рояль и стал ему показывать: так и так... Я стоял в стороне, совершенно «никак». Прокофьев был деловой, но не симпатичный. Его, должно быть, раздражали вопросы Березовского. Я был доволен, что его требования совпадали с моим представлением. Он хотел того, что написано в нотах, — все! У Березовского была тенденция к сентиментальности, и он никак не мог найти место, где ее применить. Ну хоть в одном местечке где-нибудь звук показать! А, как нарочно, такое место было совсем не сентиментальным. Я так и не сел ни разу за рояль, и мы ушли.
Березовский перешел в руки Мелик-Пашаева, который дирижировал концертом. Как они вместе работали, я уже не знал.
Я пришел на премьеру и сидел в первом амфитеатре. Забился и волновался. Просто за сочинение, и за Березовского, конечно, тоже. У него, можно сказать, почва уходила из-под стула во время исполнения. Мелик-Пашаев брал весьма неудобные, да и не те темпы. Совершенно, как мне кажется, не прочел сочинения внутренне.
Провал был полный. Кое-как они поклонились, и на этом все кончилось.
Новое отношение. Вскоре состоялся авторский концерт Прокофьева, в котором он дирижировал. Исполнялись «Египетские ночи», Второй скрипичный концерт в исполнении Буси Гольдштейна, сюита «Ала и Лоллий» и сюита из балета «Шут». Опять было «интересно».
Но сочинением, которое заставило себя полюбить и через себя вообще Прокофьева, оказался для меня Первый скрипичный концерт. Позже я встречал многих людей, у которых любовь к Прокофьеву также началась с этого сочинения. Мне кажется, невозможно, любя музыку, остаться им не захваченным. По впечатлению можно сравнить с тем, когда первый раз весной открывают окно и первый раз с улицы врываются в него неугомонные звуки. Я влюбился в концерт, еще не зная скрипичной партии. Я просто слушал, как А. Ведерников учил аккомпанемент. С этих пор каждое сочинение Прокофьева, которое я узнавал, я воспринимал с удивленным восхищением и даже с завистью.
Очаровавшись скрипичным концертом, я решил обязательно играть какое-нибудь сочинение Прокофьева. Мне даже приснилось, что я играю Вторую сонату. И я решил, что выучу ее. Соната оказалась совсем не той, что мне снилась. Я учил ее на втором курсе в 1938 году. учил без особого удовольствия. Она так и осталась не очень любимым мною сочинением.
На это время приходится встреча с Сергеем Сергеевичем в Союзе композиторов на Миусской. А. Ведерников и я проигрывали на двух роялях «Царя Эдипа» Стравинского. Ведерников исполнял оркестро-
69
вую партию, я — хоры. Организовано исполнение было серьезно, с рецитатором. Перед этим в зале что-то происходило, кажется, заседание. Присутствовало много композиторов. Прокофьева кто-то спросил: «Бы остаетесь слушать?» — «Да что вы, не в оркестре, без хора. Нет, я ухожу». Все-таки его уговорили остаться. Мы играли крепко и с настроением. Некоторые молодые композиторы демонстративно уходили. Когда мы кончили, Прокофьев подошел к Ведерникову, сидевшему за первым роялем. Я видел — он был доволен, говорил, что хорошо и не ожидал, что на двух роялях так будет звучать.
Одно из сильнейших впечатлений было от исполнения его Третьей симфонии в 1939 году. Дирижировал автор. Ничего подобного в жизни я при слушании музыки не ощущал. Она подействовала на меня как светопреставление. Прокофьев использует в симфонии сверхинтенсивные средства выражения. В третьей части, скерцо, струнные играют такую отрывистую фигуру, которая как бы летает, точно летают сгустки угара, как если бы что-то горело в самом воздухе. Последняя часть начинается в характере мрачного марша — разверзаются и опрокидываются грандиозные массы — «конец вселенной», потом после некоторого затишья все начинается с удвоенной силой при погребальном звучании колокола. Я сидел и не знал, что со мной будет. Хотелось спрятаться. Посмотрел на соседа, он был мокрый и красный... В антракте меня еще пробирали мурашки.
Как-то Нейгауз пришел и сказал: «Вот какой Сергей Сергеевич! Всегда у него что-то новое! Был у него "Ромео". Теперь написал еще оперу, и замечательную! Я был на репетиции — чудная!»
Это был «Семен Котко».
Премьера оперы — колоссальное событие в моей жизни. Из тех, которые меня к Прокофьеву в полном смысле слова притянули!
Потом мы ходили толпой студентов три или четыре раза, хотя исполнение и постановка оставляли желать много лучшего.
Тогда же я видел кинокартину «Александр Невский», от которой у меня осталась главным образом музыка. Никогда раньше музыка в кино не производила на меня впечатление как таковая. А тут я не мог ее забыть.
Вообще Прокофьев после своего Пятого концерта, по-моему, нашел стиль новый и вместе с тем очень доходчивый и даже общедоступный. Я считаю, что «Семен Котко» именно из таких произведений. Вместе с тем это одно из самых богатых и самых совершенных созданий Прокофьева и, безусловно, лучшая советская опера.
В «Семене Котко» Прокофьев продолжает путь, начертанный Мусоргским. Этот путь по-своему продолжали многие (Дебюсси, Яначек), но думаю, что прямой наследник Мусоргского в области национальной, народной музыкальной драмы — наш Прокофьев.
Он доводит свой музыкальный рисунок, идущий от интонаций человеческой речи, до предельной выпуклости. Слушая оперу, начина-
70
ешь жить единой жизнью с произведением, которое дышит юностью, как и то время, тот период истории, который в нем воплощен.
Сочинение это настолько совершенно и доходчиво, что восприятие его зависит лишь от охоты слушателя слушать. А такой слушатель всегда есть, в этом мое глубокое убеждение. Надо только иметь реальную возможность слышать этот перл оперной литературы.
В тот вечер, когда я впервые услышал «Семена Котко», я понял, что Прокофьев — великий композитор.
Шестая соната. У Ламмов, в старомосковской темноватой квартире, уставленной главным образом нотами, собиралось серьезное музыкальное общество. Основное ядро составляли композиторы-москвичи, видные музыканты старшего поколения. Мясковский бывал всегда. Молчаливый, беспредельно деликатный. Если спрашивали его мнение, он говорил как знающий, но тихо и в то же время так, будто он был ни при чем. Бывали и приглашенные — пианисты, дирижеры. Собирались регулярно, как бы продолжая традицию русских музыкальных кружков времен Балакирева.
Было просто. Основное — музицирование в восемь рук. Подавался чай с бубликами. Все переложения для рояля делал Павел Александрович Ламм. Для каждого четверга он ухитрялся приготовить что-нибудь новое.
Меня привел с собой Нейгауз.
Предстояло особенное — должен был прийти Прокофьев.
Мрачновато... Пятно на стене — ее ел грибок...
Очень скоро я оказался за роялем — играющим Тринадцатую симфонию Мясковского. Играли в восемь рук по писаным нотам. Я сидел с Шебалиным, Нечаев — с Ламмом.
Пришел Прокофьев. Он пришел не как завсегдатай, а как гость — это чувствовалось. У него был вид именинника, но... и несколько заносчивый.
Принес свою сонату и сказал: «Ну, за дело!» Сразу: «Я буду играть».
...Быстрота и натиск! Он был моложе многих, но чувствовался подтекст, с которым как бы все соглашались: «Я хоть моложе, а стою вас всех!» Его несколько высокомерное отношение к окружающим, однако, не распространялось на Мясковского, к которому он был подчеркнуто внимателен.
Прокофьев вел себя деловито, профессионально. Помню, послушался совета Нейгауза, считавшего, что басовое ля не сможет прозвучать пять тактов, и переделал.
По-моему, он играл сонату дважды и ушел. Он играл по рукописи, и я ему перелистывал.
Когда позже, во время войны, я слушал в его исполнении Восьмую сонату, он не играл уже так хорошо, как тогда.
Прокофьев еще не кончил, а я решил: это я буду играть!
71
Необыкновенная ясность стиля и конструктивное совершенство музыки поразили меня. Ничего в таком роде я никогда не слышал. С варварской смелостью композитор порывает с идеалами романтики и включает в свою музыку сокрушающий пульс XX века. Классически стройная в своем равновесии, несмотря на все острые углы, эта соната великолепна.
Соната заинтересовала меня и с чисто исполнительской точки зрения; я подумал: поскольку в этом роде я ничего никогда не играл, так вот попробую себя и в таком. Нейгауз одобрил. Уезжая на каникулы в Одессу, я взял с собой ноты.
Папа признавал достоинства прокофьевской музыки, но для его уха она была слишком экстравагантна. «Ужасно, — говорил он, — как будто бьют все время по физиономии! Опять ттррахх! Опять... нацелился: ппахх!»
Я же, помню, учил ее с большим удовольствием. За лето выучил и 14 октября играл в концерте.
Это было мое первое нестуденческое публичное выступление. И какое ответственное! Нейгауз поставил меня — студента 4-го курса — рядом с собой! Он играл в первом отделении Мясковского, Александрова, Ю. Крейна, во втором выступал я с сочинениями Прокофьева. Три небольшие пьесы: рондо из «Блудного сына», «Пасторальная сонатина» и «Пейзаж» — были как бы прелюдией к Шестой сонате. Перед концертом страшно волновался. Последние три дня запирался в классе и играл по десять часов. Помню, я был недоволен тем, как играл в концерте, но соната имела очень большой успех. Публика была специфическая — музыкальная. Была абсолютно «за» и никаких «против» не имела. Понравилась и соната, и как я играл.
Пятый концерт. Прокофьев, улыбаясь, прошел через весь зал и пожал мне руку. В артистической возник разговор: «Может быть, моло-
72
дой музыкант сыграет мои Пятый концерт, который провалился и не имеет нигде успеха?! Так, может быть, он сыграет и концерт понравится?!»
Я Пятого концерта не знал, но сразу же мне стало интересно. Когда же я взял ноты, он мне не очень понравился. И Нейгауз как-то не очень одобрял этот выбор — он советовал Третий. Вообще, концерт был с какой-то подорванной репутацией. Я посмотрел Третий. Третий я много раз слышал. Существовала его авторская запись. Он считался самым лучшим, но меня к нему почему-то не тянуло. Я опять посмотрел его и опять подумал: нет, буду играть Пятый. Раз Прокофьев так сказал — значит, судьба.
В феврале 1941 года я уезжал в Одессу и взял с собой Пятый концерт.
Через месяц я вернулся в Москву с готовым концертом. Прокофьев хотел меня послушать. Встреча состоялась у Нейгаузов, где вдвоем с А. Ведерниковым мы дважды проиграли концерт.
Прокофьев пришел с женой, комната наполнилась крепким запахом парижских духов. С места в карьер он стал рассказывать какие-то невероятные истории из гангстерского быта в Америке. Рассказывалось это по-прокофьевски оригинально — с юмором и деловито.
Мы сидели за маленьким столиком, под которым не помещались ноги, и пили чай с неизменной нейгаузовской ветчиной.
Потом играли.
Прокофьев остался доволен и, стоя перед нами за двумя роялями, откуда он дирижировал, вынул одновременно из двух карманов две шоколадки и вручил их нам шикарным жестом. Тут же условились о репетициях.
На первой же репетиции он посадил меня за рояль, чтобы оркестр привык. Дирижерский жест Прокофьева как нельзя лучше «подходил» к его сочинениям, так что оркестранты, мало что понимавшие в этой музыке, играли все же хорошо. Прокофьев обращался с ними без обиняков и прямо говорил: «Потрудитесь делать то-то и то-то... А вы — потрудитесь так-то...» В общем, был естественно требовательным. Всего было три репетиции, весьма продуктивных.
Приближался день концерта. Прокофьев дирижировал всей программой.
Исполнялись сюита «Поручик Киже», «Скифская сюита», Пятый концерт и в конце «Классическая симфония».
Последовательность мне казалась странной и не очень нравилась. Хотелось, чтобы «Скифская сюита» была в конце.
Я приехал в зал Чайковского заранее — стоял и слушал. Волнение, неуверенность и сильное впечатление от «Скифской сюиты» смешались во мне. Я думал: сейчас выйду и все... конец... ничего не смогу сыграть.
Играл я все точно, но от волнения удовольствия, помню, не получил.
73
После первой части аплодисментов не было, как это обычно бывает, но мне стало казаться (я взглянул в зал и увидел в первом ряду кислые лица), что никто ничего не понимает. Был какой-то холодок... и весьма пусто. А незадолго до этого я играл концерт Чайковского — было полно.
И все же концерт имел большой успех. Нас вызывали много раз, и Прокофьев говорил: «Как странно, смотрите, имеет успех! Я не думал... Гмм... Гмм...» А потом вдруг: «А! Я знаю, почему они так аплодируют, — ждут от вас ноктюрна Шопена!»
Я был счастлив. Б двадцать два года я решил, что буду пианистом, и вот, в двадцать пять лет, играю сочинение, которое никто, кроме автора, не исполнял. Вместе с тем осталось чувство неудовлетворения и от пережитого большого волнения (попробуйте сыграйте Пятый концерт — поймете) и как бы от предчувствия, что так долго не буду его исполнять — почти восемнадцать лет!..
Седьмая соната. Вскоре началась война и всех разъединила. Долго у меня не было никаких встреч с Прокофьевым.
Я готовился к концерту, первому своему сольному концерту в Москве, объявленному на 19 октября 1941 года. Афиши висели по всему городу. От волнения я не замечал, что делается вокруг.
К тому времени я сыграл концерт для фортепиано с оркестром Баха, шумановский концерт, квинтет Брамса и с А. Ведерниковым двойной концерт Баха, но от волнения перед первым сольным концертом меня буквально трясло.
Концерт отложили — время оказалось неподходящим. Он состоялся в июле 1942 года. В программе — Бетховен, Шуберт, Прокофьев и Рахманинов. Итак, в первом своем сольном концерте я играл Прокофьева — Вторую сонату. Играл неважно.
Приблизительно в это время появилась опера «Война и мир». Событие из ряда вон выходящее! Опера по роману Толстого! Это казалось невозможным. Но поскольку за это взялся Прокофьев, приходилось верить.
Опять вместе с Ведерниковым мы проигрывали оперу группе музыкантов, среди которых был Шостакович.
Стояли хмурые зимние дни, темнело рано.
В начале 1943 года я получил ноты Седьмой сонаты, страшно ею увлекся и выучил за четыре дня.
Готовился концерт советской музыки, и Прокофьеву хотелось, чтобы я выступил с его новой сонатой. Он только что вернулся в Москву и жил в гостинице «Националь». Я пришел к нему проиграть сонату. Он был один. В номере стоял инструмент, но началось с того, что педаль оказалась испорченной, и Прокофьев сказал: «Ну что ж, давайте тогда чинить...» Мы полезли под рояль, что-то там исправляли и в
74
один момент стукнулись лбами так сильно, что в глазах зажглись лампы. Сергей Сергеевич потом вспоминал: «А мы ведь тогда все-таки починили педаль!»
Встреча была деловой; оба были заняты сонатой. Говорили мало. Надо сказать, у меня никогда не было серьезных разговоров с Прокофьевым. Ограничивались скупыми определениями. Правда, кроме этого случая с Седьмой сонатой, мы не бывали с ним наедине. А когда был кто-то третий — всегда говорил именно этот третий.
Премьера сонаты состоялась в Октябрьском зале Дома союзов. Я оказался ее первым исполнителем. Произведение имело очень большой успех. (Так и позже сопровождал сонату неизменный успех везде, кроме одного города ... Киева. Там ее поначалу весьма неохотно слушали. То же было и со Второй сонатой.)
Прокофьев присутствовал на концерте, его вызывали. Когда же почти вся публика ушла и остались в основном музыканты (их было много — помню Ойстраха, Шебалина...), все захотели послушать сонату еще раз. Обстановка была приподнятая и вместе с тем серьезная. И я играл хорошо.
Слушатели особенно остро воспринимали дух сочинения, отражавшего то, чем все жили, дышали (так же воспринималась в то время Седьмая симфония Шостаковича).
Соната бросает вас сразу в тревожную обстановку потерявшего равновесие мира. Царит беспорядок и неизвестность. Человек наблюдает разгул смертоносных сил. Но то, чем он жил, не перестает для него существовать. Он чувствует, любит. Полнота его чувств обращается теперь ко всем. Он вместе со всеми — и вместе со всеми протестует и остро переживает общее горе. Стремительный наступательный бег, полный воли к победе, сметает все на своем пути. Он крепнет в борьбе, разрастаясь в гигантскую силу, утверждающую жизнь.
Седьмая соната должна была исполняться в Совинформбюро, где во время войны показывались различные новые произведения. В Калашном переулке в старом особняке собиралась политическая и официальная Москва. Писатели читали свои произведения. Обстановка была не очень благоприятной: рояль был весь витой и золоченый, но клавиатура почти не работала. Я играл неважно. Во второй теме чуть совсем не запутался.
Сергей Сергеевич потом сказал: «А там что-то было... Ну ничего. Ловко выкрутились. Я уже боялся, вот-вот... что будет!»
Вспоминаю С. С. в другой обстановке, когда он казался почти мальчиком. Я всегда замечал в нем заинтересованность необычными или странными явлениями. В этом было что-то от мальчика или путешественника. Когда в 1943 году я впервые играл его Первый концерт, он был на репетиции. Он потом сказал вдруг:
— А вы знаете, какое я явление наблюдал удивительное... Когда начались заключительные октавы, знаете, стулья пустые вокруг
75
меня задвигались в том же ритме... Подумайте, и они тоже... Как интересно!..
Б этом же году были мои первые гастрольные поездки, во время которых среди других сочинений я исполнял Четвертую и Седьмую сонаты Прокофьева.
Восьмая соната. Следующая существенная встреча с Прокофьевым — знакомство с его Восьмой сонатой в 1944 году. Прокофьев играл ее в Союзе композиторов, а первым ее исполнителем в концерте был Гилельс.
Прокофьев сыграл ее дважды. После первого раза стало очевидно, что сочинение совершенно замечательное, но когда меня стали спрашивать, буду ли я его исполнять, я еще не знал, что ответить.
Сергею Сергеевичу было трудно играть, прежней уверенности не было. Он как-то шмякал руками.
После второго прослушивания я твердо решил, что буду играть сонату. Кое-кто подхихикивал: какая устаревшая музыка, неужели вы хотите это играть?!
Из всех прокофьевских сонат она самая богатая. В ней сложная внутренняя жизнь с глубокими противопоставлениями. Временами она как бы цепенеет, прислушиваясь к неумолимому ходу времени. Соната несколько тяжела для восприятия, но тяжела от богатства — как дерево, отягченное плодами.
Наряду с Четвертой и Девятой она остается любимым моим сочинением. Гилельс великолепно играл ее в Большом зале в своем сольном концерте.
Проводился Всесоюзный конкурс пианистов, на участие в котором меня усиленно толкали самые близкие друзья. Я взял в программу Восьмую сонату.
У меня не было тогда своей квартиры, и я жил у А. Ведерникова под Москвой.
Играть я должен был последним, но что-то напутал и опоздал на целый час. Все уже кончилось. Прокофьев ждал, долго ждал. Многие выходили на улицу, но повернули назад, узнав, что будет продолжение. Пошел назад и Сергей Сергеевич. Он был очень строг в таких случаях, а тут как-то отнесся просто: «Да-а-а... час опоздания... Ну что ж, придется все-таки послушать сонату». Ему было интересно послушать свое сочинение.
Помню, Восьмая соната произвела большое впечатление на Гедике: «Знаете, Слава, а эта музыка все-таки хорошая. Какая потрясающая соната!»
С Сергеем Сергеевичем, точнейшим человеком, вышел у меня еще один казус. В 1946 году в Октябрьском зале Дома союзов я должен был выступать с Шестой, Седьмой и Восьмой сонатами в абонементном концерте из произведений Прокофьева. Только что Нина Дорлиак и я вер-
76
нулись из Тбилиси, где концерты начинают в девять часов вечера. Нам позвонили в восемь часов и спросили, в чем дело, почему мы не едем. Был День победы — 9 мая. Транспорт не работал. улицы запружены людьми. Мы жили на Арбате. Только четверть десятого я был на месте. Сергей Сергеевич ждал вместе со всеми. Когда вышли сказать, что концерт начинается, и объявили Шестую сонату, какой-то пожилой человек, интеллигентный на вид, вдруг встал посреди зала и сказал: «Ну, это уж такое свинство — дальше некуда!» — и ушел. Он ждал, что скажут «концерт отменяется».
Сергей Сергеевич был доволен, что концерт состоялся. По поводу опоздания что-то съязвил, но добродушно.
К этому времени он очень изменился. Стал мягким, снисходительным. Правда, к нему по делу я никогда не опаздывал. Тут уж он, наверное, рассердился бы крепко. Договариваясь, он подчеркивал: «Ну, а как время?» Подчеркивал, что нужно быть точным.
Флейтовая соната. «Ахматовский цикл». После Седьмой сонаты Прокофьев написал флейтовую сонату, которую позже переделал в скрипичную, потому что флейтисты не торопились ее исполнять. Сейчас ее играют все скрипачи. Она считается Второй скрипичной сонатой, но в оригинале для флейты она несравненно лучше.
Первое ее исполнение состоялось не в концерте, а на прослушивании сочинений Комитетом по присуждению премий в Бетховенском зале Большого театра. Мы играли ее с Харьковским. Она не прошла ни на какую премию. Потом мы не раз играли ее в концертах, и всегда с неизменным успехом.
Соната эта исполнялась в авторском концерте Прокофьева в 1945 году, в котором было также мое первое совместное выступление с Ниной Дорлиак, певшей «Ахматовский цикл».
Вечер получился густой. Мельникова пела «Русские песни». Пела хорошо. Г. Цомык играл балладу для виолончели. В конце я исполнял Шестую сонату.
В общем, сочинения Сергея Сергеевича звучали в концертах непрерывно. Нельзя было представить музыкальную жизнь Москвы без его музыки.
Прокофьев работал неутомимо. Он, можно сказать, неутомимо пополнял сокровищницу новейшей классики.
Николина гора. В день своего рождения, когда я впервые был у него в гостях на Николиной горе, Прокофьев сказал мне: «А у меня что-то интересное есть для вас. — И показал наброски Девятой сонаты. — Это будет ваша соната... Только не думайте, это будет не на эффект... Не для того, чтобы поражать Большой зал».
77
Действительно, с первого взгляда она показалась мне простенькой. Я даже немного разочаровался.
Об этом дне, фактически очень ярком и интересном, я как-то ничего не могу рассказать. Это была первая очень близкая встреча с Прокофьевым, в его доме, среди его друзей. Я не мог подавить смущения, все проходило как-то мимо меня.
Помню, разговоры шли о «Войне и мире», о «Каменном цветке». Что их надо ставить. Помню раннюю весну, шоссе, поворачивающее к Николиной горе, переезд через Москву-реку на лодке (моста не было), Сергея Сергеевича, идущего навстречу по саду, элегантный завтрак, первый раз устроенный на прохладной веранде — в чем была большая прелесть, запах весны...
Еще одна встреча. Наступил 1948 год. Лично мне непонятно отношение к творчеству Прокофьева в тот период.
На 28 января 1948 года был объявлен мой совместный концерт с Ниной Дорлиак (программа — Римский-Корсаков, Прокофьев). В этом концерте было все удачно: программа, исполнение...
Это был большой успех Сергея Сергеевича. Его вызывали, он вышел на эстраду, благодарил Нину Дорлиак и сказал, улыбаясь: «Спасибо, что вы оживили моих покойников!»
Болезнь. Потом я помню Сергея Сергеевича больным. Кремлевская больница.
Мы с Мирой Александровной пришли к нему в палату. Он лежал один, был какой-то совершенно размякший. Тон голоса был донельзя обиженный. Он говорил: «Мне не дают писать... Доктора не разрешают мне писать...»
Мира Александровна его успокаивала: «Сереженька... Сереженька». Как говорят с больными детьми — успокоительно, монотонно.
Он жаловался, что отбирают бумагу, но что он пишет и прячет под подушку в постель маленькие бумажные салфетки...
Это так не вязалось с представлением о великане русской музыки. Не хотелось верить в действительность: человек, сам творящий энергию, был в положении беспомощного существа... Трудно примириться.
Потом мы были у него второй раз — через месяц. Прокофьев выздоравливал. Писать ему было можно. Он шутил, что-то рассказывал. Был милый, симпатичный, светлый.
Он провожал нас до лестницы и, когда мы были внизу, на прощанье помахал нам... ногой. В этом было что-то такое мальчишеское, как будто перед нами был озорной школьник.
78
60 лет. В 1951 году было его шестидесятилетие.
В день своего рождения Прокофьев опять был нездоров. За два дня до этого в Союзе композиторов устроили концерт, который он слышал по телефонной трубке. Тут-то я и сыграл впервые Девятую сонату. Эта соната светлая, простая, даже интимная. Мне кажется, что это в каком-то смысле соната доместика. Чем больше ее слышишь, тем больше ее любишь и поддаешься ее притяжению. Тем совершеннее она кажется. Я очень люблю ее.
Второй виолончельный концерт. Ростропович, после того как мы сыграли прокофьевскую виолончельную сонату, цепко схватился за Сергея Сергеевича. Он был беспредельно увлечен его музыкой. Наблюдая их вместе, можно было принять Сергея Сергеевича за его отца — так они были похожи. На каком-то своем вечере М. Ростропович играл (под рояль) виолончельный концерт, тот самый, который играл Березовский. Потом вместе с С. С. они подготовили вторую редакцию этого концерта, которая и превратилась во Второй виолончельный концерт. Не знали только, кто будет дирижировать. У меня был сломан палец на правой руке, и я только что сыграл леворучный концерт Равеля. Сломанный палец помог мне решиться выступить впервые в качестве аккомпанирующего дирижера. Кондрашин дал мне несколько уроков. Сергей Сергеевич был очень доволен, сказал просто: «Пожалуйста», и мы приступили к репетициям.
Вся эта история была для меня крайне волнующей. На репетициях, хотя музыканты московского молодежного оркестра относились ко мне чутко и доброжелательно, все же не обошлось без конфликтов. Некоторые строили удивленно-юмористические гримасы и едва подавляли смех. Это была реакция на большие септимы и жесткое звучание оркестра. Партия солиста, неслыханно трудная и новаторская, вызывала бурное веселье у виолончелистов.
Кондрашин сидел в оркестре и своим характерным неподвижным взглядом следил за моим жестом.
Репетиций было всего три, и мы еле-еле в них уместились. С Ростроповичем мы условились: что бы ни случилось, он будет в своих паузах приветливо мне улыбаться, чтобы поддерживать мой дух. Шутка сказать, весьма опасное предприятие! Сергей Сергеевич не присутствовал на репетициях. Ростропович считал, что его присутствие будет нас сковывать, и был прав. Он пришел прямо на концерт.
Когда я вышел, я похолодел. Посмотрел — нет рояля... Куда идти?.. И... споткнулся о подиум. Зал ахнул. От этого спотыкания страх вдруг пропал. Я рассмеялся про себя («какой сюжет!») и успокоился. Нас встретили неистовыми аплодисментами. Аплодисменты авансом — они разозлили меня. Ростропович отвечал поклонами на приветствие публики, но она не давала начать...
79
То, чего я больше всего боялся, не случилось: оркестр вступил вместе. Остальное прошло как во сне.
От большого напряжения мы после конца были в полном изнеможении. Мы не верили себе, что сыграли, и настолько потеряли голову, что не вызвали Прокофьева наверх. Он жал нам руки снизу, из зала. Мы ошалели. В артистической прыгали от радости.
Тогда концерт, в общем, успеха не имел. Все его критиковали буквально «в пух и прах». «Теперь я спокоен. Теперь есть дирижер и для других моих сочинений», — сказал Прокофьев.
Он подошел, как всегда, по-деловому.
Последний раз Сергей Сергеевич присутствовал на моем сольном концерте в Большом зале 4 апреля 1952 года, где я играл одно отделение Прокофьева. Он сидел в директорской ложе вместе с Н. Дорлиак и Б. А. Куфтиным.
В следующем году он умер.
Великий музыкант. Когда жив был Сергей Сергеевич, всегда можно было ожидать чуда. Будто находишься во владениях чародея, который в любой момент может одарить вас сказочным богатством. Трахх! и вы вдруг получаете «Каменный цветок» или «Золушку».
Не забыть впечатления от одного из самых лучших его сочинений — коротенькой «Здравицы». Это озарение какое-то, а не сочинение...
Вспоминаю, как хороший строгий рисунок, сжатую, но очень яркую и терпкую сюиту «1941 год»...
Никогда не забуду первое исполнение Пятой симфонии в 1945 году, накануне победы... Это было последнее выступление Прокофьева как дирижера. Я сидел близко — в третьем или четвертом ряду. Большой зал был, наверное, освещен как обычно, но когда Прокофьев встал, казалось, свет лился прямо на него и откуда-то сверху. Он стоял, как монумент на пьедестале.
И вот, когда Прокофьев встал за пульт и воцарилась тишина, вдруг загремели артиллерийские залпы.
Палочка его была уже поднята. Он ждал, и пока пушки не умолкли, он не начинал. Что-то было в этом очень значительное, символическое. Пришел какой-то общий для всех рубеж... и для Прокофьева тоже.
Пятая симфония передает его полную внутреннюю зрелость и его взгляд назад. Он оглядывается с высоты на свою жизнь и на все, что было. В этом есть что-то олимпийское...
В Пятой симфонии он встает во всю величину своего гения. Вместе с тем там время и история, война, патриотизм, победа... Победа вообще и победа Прокофьева. Тут уж он победил окончательно. Он и раньше всегда побеждал, но тут как художник он победил навсегда.
Это свое сочинение Сергей Сергеевич и сам считал лучшим.
80
После этого Прокофьев становится композитором «в возрасте». Началось последнее действие его жизни. Так чувствовалось в музыке. Очень высокое. Может быть, самое высокое... Но последнее...
Я узнал, что Прокофьев умер, в утро, когда вылетал самолетом из Тбилиси в Москву. В Сухуми мы застряли. Небывалый снег нескончаемо сыпал на черные пальмы и черное море. Было жутко.
Я думал о Прокофьеве, но... не сокрушался.
Я думал: ведь не сокрушаюсь же я оттого, что умер Гайдн или... Андрей Рублев.
Александр Владимирович Вицинский.
Беседы с пианистами (фрагмент, 14 июня 1947 г.)
М. : Классика-XXI, 2004 (ПИК ВИНИТИ), 227 с.
А. В. Вицинский: Святослав Теофилович, хотелось бы прежде всего узнать историю вашего музыкального развития.
С. Т. Рихтер: У меня, может быть, несколько необычно сложилась музыкальная жизнь. По существу, я очень мало занимался музыкой в учебном плане, мало учился, почти не брал уроков музыки. Я приехал в Москву, поступил в консерваторию, занимался с Генрихом Густавовичем Нейгаузом, а до этого все шло как-то самотеком...
Тем, что я стал музыкантом, я обязан главным образом своему отцу — он создавал в семье музыкальную атмосферу. Это получалось совершенно естественно: он был пианист, окончил Венскую консерваторию — очень давно! Он был довольно пожилого возраста, гораздо старше матери, на много лет. У отца были ученики. Как музыкант, он пользовался авторитетом, но сам я с ним не мог заниматься совершенно. У меня он не пользовался авторитетом — вероятно, именно потому, что я был его сыном. Трижды мы пробовали, и каждый раз кончалось тем, что он отказывался со мной заниматься. Отец был очень мягким человеком, а я почему-то делал все наоборот.
Музыкой я заинтересовался лет с семи-восьми, когда стал жить с родителями. До этого, с четырех до семи лет, я жил у родственников моей матери. Там я был увлечен другим искусством: сестра моей матери была довольно талантливая художница, и у меня было желание стать художником.
В.: Вы учились рисовать!
Р.: Нет, это было безо всякой школы. Моя тетя работала в Киеве, в издательстве, иллюстратором. Со стороны матери было много родных, занятых искусством, все больше в плане живописи. В этой области были и таланты. Отец тоже рисовал очень хорошо, но занимался он музыкой. А я и сейчас очень люблю рисовать. Я перестал рисовать с десяти лет, а в семнадцать как-то целое лето опять рисовал, но уже совершенно по-другому. И я до сих пор думаю, что, как только будет время, обязательно займусь этим серьезно.
В.: Вы рисуете с натуры?
Р.: Да, позже я рисовал с натуры, рисовал и портреты, а в детстве это были фантазии, это были какие-то крылатые люди. Рисовал я и просто с натуры, карандашом, — хотя, говорят, что красками легче рисовать. Во всяком случае, я это очень любил. А музыка... она меня заинтересовала как-то производно... не вообще музыка, а отдельные темы — например, мелодии из Семнадцатой и Восемнадцатой сонат Бетховена: мне они страшно понравились, я стал подбирать. А Моцарт и Гайдн мне казались очень скучными. Я не играл их.
Отец тогда еще играл на рояле, но когда мне исполнилось пятнадцать лет, он уже перестал играть на нем, теперь он был органистом. Он перестал играть на рояле тогда, когда я стал больше интересоваться фортепианной игрой, стал заниматься этим. И тут тоже не все очень обычно было. Одни мои знакомые устраивали музыкальные «четверги», там бывали какие-то молодые люди, не окончившие консерваторию, и кое-кто из окончивших. Они пели, играли... Там собирались какие-то подающие надежды певцы, устраивали оперные ансамбли. Были среди певцов и очень безголосые, но была и одна прекрасная певица, она теперь в Ленинграде. Меня очень привлекала сюжетность оперы. У меня всегда в детстве была тяга к театру. И сейчас я страшно люблю театр.
Мне тогда было лет одиннадцать-двенадцать. Первоначальную фортепианную школу я к тому времени уже прошел. Это когда мне было еще лет восемь, я немного занимался с одной ученицей отца. Не помню, Бургмюллера, кажется, я играл. Коверкал страшно! Отец услышал и пришел в ужас. Но все-таки он говорил: «Пускай играет, что хочет, это очень хорошо!»
В.: Ваши занятия имели систематический характер?
Р.: Нет, я занимался сам. Мне просто было интересно. А потом я начал сочинять. С восьми лет я сочинял довольно интенсивно лет до пятнадцати.
В.: За инструментом?
Р.: Да, за инструментом. Это были импровизации. Я и потом немного сочинял, до двадцати двух лет, но уже не за инструментом. Как будто бы в этом плане я был одарен. Позже — бросил. Но в детстве — в этом было кое-что. Я сейчас вспоминаю: для того возраста это было здорово, очень оригинально! Я совершенно не знал новых композиторов, может быть, немного Дебюсси, и то позже. Я не знал Рихарда Штрауса, Шостаковича не знал. Самое позднее, что я знал в то время, это были Вагнер и Лист, но больше всего на меня производили впечатление Бетховен, Шопен... А получалось у меня что-то вроде Равеля и Прокофьева. Даже сейчас какие-то вещи у Прокофьева и Шостаковича вроде как мне «знакомы» — что-то в этом роде я сам сочинил. У меня встречались какие-то гармонические ходы, которые вошли в современный музыкальный обиход.
...Я начал говорить насчет кружков. У моих знакомых был сын. Он аккомпанировал, и я приходил слушать. Колоссальное впечатление на меня произвела опера «Риголетто», главным образом, последнее действие — там, где гроза. И вот тут я в первый раз пошел в настоящую оперу, и вообще «заболел» оперой. До этого у меня было такое же увлечение кино и еще чем-то. Всякие увлечения были, но опера!.. Тут уж и я стал входить в атмосферу аккомпанирования оперным ансамблям и ариям. Мать настаивала, чтобы я занимался как пианист, а я с листа очень хорошо читал для такого возраста. И когда началось мое страшное увлечение оперой, то все уроки, все дела пошли побоку. Я знал все оперные арии Доницетти, Пуччини, Верди, Гуно, Чайковского... Я и сейчас очень люблю оперу, пожалуй, больше, чем другую музыку.
С пятнадцати лет я начал бесплатно работать в качестве концертмейстера-стажера в любительском кружке при Дворце моряков, где собирались преимущественно неудачники-артисты. С ними я разучивал оперные партии. Конечно, все это было ужасно, пели они ужасно! Тут очень много комических воспоминаний... После этого в шестнадцать-семнадцать лет я выступал как аккомпаниатор на концертах Одесской филармонии. Аккомпанировал в сборных концертах, в которых могли участвовать и скрипачи, и фокусники, и жонглеры. Там я был один год, потом рассорился, и меня уволили.
На следующий год была договоренность, что меня опять возьмут, но я больше в филармонию не вернулся. Я поступил концертмейстером в Одесский оперный театр, но не в оперу, а в балет. И целый год я аккомпанировал в балете. У меня тогда уже выработался свой собственный пианистический стиль, оркестровый несколько. Были в нем и какие-то хорошие черты, которые меня спасали. И каждый раз я играл, как на концерте: я исполнял.
На следующий год я перешел в оперу. Три года работал в опере концертмейстером. Главным дирижером там был Столерман — настоящий дирижер, талантливый. Он всегда дирижировал в больших театрах — в Киеве, в Одессе, в Харькове...
В опере мне было не трудно, потому что к тому времени я знал почти всю оперную литературу, которую следует знать музыканту, а то, что мне надо было играть, я очень хорошо знал. Конечно, я умел хорошо играть «под дирижера», — потом мне это принесло очень большую пользу. Важно, что у меня был такой хороший дирижер, c хорошим вкусом. В Одессе был в то время довольно интересный репертуар, там шел ряд новых опер — «Турандот» Пуччини, «Джонни наигрывает» Кшенека...
Отец мой работал тогда органистом в опере, и я, до того как поступил в оперу, раза два в неделю ходил и слушал спектакли, где он играл. С четырнадцати лет я иногда даже заменял отца.
В.: А фортепианной музыкой вы занимались в то время?
Р.: Тут дело было так: в семнадцать лет я вдруг почувствовал, что фортепиано — очень хорошая вещь. Это было странно... Я летом находился в Житомире, и туда приехал Ойстрах с Топилиным. Я пошел на этот концерт, и мне было немножко скучно на таком чисто музыкальном концерте, ведь я был отравлен театральностью, мне нужны были декорации, сюжет...
Но на концерте меня сразила Четвертая баллада Шопена, Топилин ее играл. Вероятно, тут имел значение возраст: в семнадцать лет это особенно действует. И вот я начал играть фортепианную литературу. С отцом не занимался, но советовался с ним. Но отец мне всегда говорил: «Ты сам знаешь, зачем ты меня спрашиваешь?» И я действительно знал. Но между нами было некое содружество: именно с отцом мы понимали друг друга без слов. Даже трудно сказать, почему так было; мы не говорили много, но я всегда чувствовал, что именно он меня молча понимал. Еще когда я поступил концертмейстером в балет, мне пришла и голову очень смелая мысль — дать свой концерт, за один год работы на рояле, может быть, за полтора-два года. В Одессе был Дом инженера, где я решился дать концерт из произведений Шопена. Конечно, это был странный концерт! С одной стороны, он, по-моему, был ужасный, а с другой, — как будто ничего... Он был очень многолюдным и прошел с большим успехом. Первое отделение и половина второго отделения — это было что-то ужасающее, как я волновался. Я в самый последний момент понял, как это страшно. И вообще я все вещи к концерту выучил недостаточно профессионально.
Начал я с cis-moll'ного прелюда. Потом было еще шесть прелюдов, потом был g-moll'ный ноктюрн с хоралом и Полонез-фантазия. Это одна из самых первых вещей Шопена, которую я и сейчас могу играть. А вообще вещи, выученные теперь, очень быстро вылетают из памяти... Затем, во втором отделении, было Четвертое скерцо. Это вещь, с которой я начал заниматься фортепианной музыкой — не с Бетховена, не с Моцарта, а с Четвертого скерцо. Далее Es-dur-'ный ноктюрн ор. 55, медленный. Очень трудный. Потом С-dur'ная мазурка, Первый, С-dur'ный этюд Шопена, Десятый, As-dur'ный, и на бис была Четвертая баллада, которую я сыграл неплохо. Вообще программа довольно трудная. Еще был Четвертый этюд Шопена, его я с тех пор ни разу не играл. А тогда я на протяжении года учил этот этюд каждый день в течение часа, и сыграл — дай Боже! Хорошо бы теперь так сыграть — в настоящем темпе presto, виртуозно...
Затем в оперном театре дело сложилось так: поскольку я выявился как концертмейстер — у нас все репетиции шли со мною, так как я всегда играл «с настроением», — меня стали прочить в дирижеры. Я продирижировал «Раймондой», как будто очень удачно, но вдруг возникли какие-то «побочные» соображения, боюсь, не слишком высокого порядка, — и меня от этого дела отставили. Оказалось, что там был еще какой-то свой кандидат в дирижеры. Стали говорить, что у меня рука не та, и даже Столерман в этом принимал участие. Тут я почувствовал, что в Одессе для меня пользы больше никакой не будет. Я немножко обиделся и решил уехать в Москву. Решил почему-то поступить к Нейгаузу, именно к Нейгаузу. Почему — не знаю, но определенно к Нейгаузу. Он приезжал в Одессу, когда мне было двенадцать лет, и произвел на меня тогда очень сильное впечатление. И я сказал: «Только к нему!» Это было какое-то очень верное чутье.
И вот я поехал в Москву и поступил к Нейгаузу. Это было в 1937 году. Здесь все более или менее известно, но и более сложно... Конечно, я очень мало готовился к экзаменам, потому что до последнего времени был занят в опере. Но я приготовил сонату Бетховена ор. 101 и прелюдию и фугу Баха. Эта программа мне была неинтересна, но ее надо было играть. Я тогда играл очень плохо и Баха, и Бетховена. И опять же Четвертую балладу я приготовил, которую я удачно сыграл. Еще удачно сыграл свое собственное сочинение — это тоже полагалось. То был мой последний композиторский опыт, потом меня пианизм окончательно убил как композитора — я просто перестал этим заниматься, не было ни места, ни времени.
Ну, Генрих Густавович меня принял. Рассказать, как я занимался с Генрихом Густавовичем?
В.: Конечно, все это чрезвычайно интересно.
Р.: Генрих Густавович сначала серьезно занимался со мной Бетховеном, искал каких-то путей его исполнения. У нас не так много было с ним уроков, но все очень значительные. Я как всегда был неаккуратен, приходил к нему довольно редко, обещал, но забывал. У меня условия были очень плохие: я жил в одном месте, а занимался в другом; так же, впрочем, как и теперь. Генрих Густавович мне сразу дал As-dur'ную сонату ор. 110, потом h-moll'ную сонату Листа. Мне было очень трудно. Потом я еще что-то играл... Но благодаря этим вещам, все как-то пошло само.
Четыре года я занимался с Генрихом Густавовичем. Я не хотел играть какую-нибудь бетховенскую сонату, а Генрих Густавович меня заставлял ее играть. У меня всегда было так: мне не очень хотелось играть что-нибудь одно, а хотелось играть как можно больше разнообразных вещей в контрастном сопоставлении, например, — сонату Листа, сонату Скрябина... Мне хотелось побольше, и мне всегда казалось, что, если быть пианистом, то нужно быть таким пианистом, чтобы играть произведения различных авторов и настолько по разному, чтобы казалось, что это играют разные пианисты. А чем дальше, тем больше видишь, что это невозможно...
Пожалуй, легче всего мне было играть импрессионистов. Они мне легче всего давались. Теперь, в последние годы, я несколько нарочито отошел, например, от Шопена, чтобы вобрать в себя еще больше классиков — Баха, Бетховена, Моцарта. Меня всегда больше тянуло к такой музыке, как Шопен. Затем Вагнер — это у меня с детства, и сейчас я его очень люблю. После Шопена идет Дебюсси, затем Шуман, Бетховен ранний. Позднее пришло более сознательное влечение к Баху. Бахом «увлечься», конечно, невозможно, надо ближе подойти к нему, и тогда начинаешь его понимать. Нужно сначала в него поверить, а потом уже... Увлекаться им — это как-то слишком легкомысленно.
Моя концертная деятельность началась с 1940 года. Первое мое выступление, уже не студенческое, было с Прокофьевым. Генрих Густавович так устраивал, что брал себе первое отделение, а мне предоставлял второе. Это был концерт из произведений советских композиторов. Я там играл Шестую сонату Прокофьева. Потом я играл Первый концерт Чайковского, 30 декабря 1940 года и в начале 1941 года. Во время войны сыграл Седьмую сонату Прокофьева, затем концерты Шумана, Баха. Да, еще надо сказать о консерваторском кружке. У нас совместно с А. Ведерниковым со второго курса был организован кружок; он все время существовал, пока мы учились. Там мы подготовили и исполнили в четыре руки и на двух роялях очень много редко исполняемых вещей.
В.: Вернемся немного назад. Как вы читали партитуру в пору вашей подготовки к дирижерским выступлениям!
Р.: Я никогда этим специально не занимался. Но, когда был случай, я за неделю, за две недели садился за партитуру. Для этого нужна только тренировка, но потом это ощущение уходит. Сейчас я не читаю партитур, но, думаю, что если позанимаюсь, буду опять читать легко.
В.: А в тот период, когда вы готовились к своему первому концерту - как вы разучивали новые для вас фортепианные произведения? Возникла ли какая-то система занятий, последовательность в работе?
Р.: Да нет... У меня никакого опыта не было. Все было очень стихийно. Я за месяц до концерта решил, наконец, серьезно заниматься, и потом у меня было волнение, что я не успею. А перед тем наоборот — казалось, что все можно быстро доучить и играть.
В.: Был ли у вас такой период времени, когда вы ставили задачу двигательного, технического развития? Играли ли вы какие-то упражнения, тренировали себя пианистически?
Р.: Говорят, что упражнения полезны. У меня нет отрицания этого, хотя, может быть, я многого не понимаю. Я играл упражнения Брамса, когда был в консерватории, но потом это как-то ушло. Сейчас я думаю, что это полезно, неплохо.
В.: А в порядке практического применения? Ведь в Одессе был очень силен виртуозный уклон...
Р.: Я в то время не занимался там в консерватории. И вообще у меня был некоторый протест против школы. В общей сложности, в жизни я не больше десяти часов гаммы играл. Если я начинал играть гаммы, то через десять минут вставал от инструмента. У меня были виртуозные вещи, над которыми я долго работал — над сонатой Листа, например. Все зависит от вещи. «Feux follets» — над этим я сидел год.
В.: А как вы над этой пьесой работали?
Р.: Играл все двумя руками.
В.: Медленно играли?
Р.: Медленно.
В.: А ритмические варианты играли?
Р.: Иногда играл. В том же году я работал над Пятой сонатой Скрябина: берется виртуозно трудный эпизод и играется медленно полчаса...
В.: А какова медленность этого темпа?
Р.: Вообще я всегда начинаю медленно, а потом, к сожалению, начинаю непроизвольно убыстрять. Это очень плохо. Потом опять медленно начинаю — и опять ускоряю...
В.: А в «Feux follets» как это было?
Р.: Вот так. (Показывает в темпе moderato.) Сейчас у меня уже выработался опыт, я иду по пути осознания, что нужно сделать, чтобы все вышло. Я теперь знаю, что нужно, например, играя медленно, максимально освободить руки. Я играю медленно только те вещи, которые; идут в быстром, очень быстром темпе. Остальные, конечно, нет.
В.: А зачем вообще медленно играть, как вы думаете?
Р.: Преимущественно для запоминания движений.
В.: А когда вещь уже выучена?
Р.: Для того, чтобы проверить себя на ощущение свободы.
В.: Вам приходится играть уже выученные вещи в медленном темпе?
Р.: Вообще это неплохо, но для меня почти всегда исключается — из-за недостатка времени. Иногда я иду и думаю, что надо это сделать. Но надо сказать, что у меня произведения очень быстро вылетают из головы, так что нужно все-таки их повторение. Когда могу, я играю медленно и точно, потом повторяю в темпе. Это работа длительная, систематическая.
В.: Что в этом медленном движении является объектом вашего внимания?
Р.: Когда я медленно играю, я хочу свободно себя чувствовать, чтобы было приятное физическое ощущение, — тогда все выходит ровно. Хотя о ровности я специально не думаю ...
В.: У вас в репертуаре много произведений, которые вы играете впервые. Как складывается путь работы над вещью, если она новая, трудная? Конечно, если это не выходит за рамки обычной работы, вследствие спешки...
Р.: У меня все именно так и бывает — всегда экстренное задание, приходится учить новые вещи скоропалительно. В этом году было довольно большое пополнение репертуара, как и в прошлом. Была Пятая соната Скрябина, которая технически представляет большие трудности. Самая большая трудность - этюды Скрябина. Я над ними работал в течение месяца. Остальное заняло меньше времени.
В.: А как протекает работа с самого начала?
Р.: Я раскрываю те страницы, где самое трудное место, и начинаю учить. А бывает так, что части, где andante или adagio, я прохожу в последние два дня.
В.: А произведение в целом?
Р.: Произведение в целом... Проигрываю несколько раз медленно. Это со Скрябиным бывает особенно важно.
В.: Это вроде разбора?
Р.: Да, это первое знакомство — совершенно точный разбор текста. Я добросовестно просматриваю все и повторяю некоторые страницы несколько раз.
В.: А затем что происходит?
Р: Я выучиваю сонату за неделю — если есть неделя. Когда я учил Седьмую сонату Прокофьева, я выучил ее через пять дней и сыграл Сергею Сергеевичу. А потом она перестала у меня выходить, совсем перестала, хотя до того получалась... Потом опять стала выходить. Это как-то волнообразно происходит: то идет, а на следующий день после этого— абсолютно не получается. А потом опять налаживается...
В.: Когда вы учите сонату, пять дней, эта работа происходит в медленном темпе?
Р.: Да, но тут же и в исполнительском темпе играю некоторые места, некоторые страницы. ...Это когда я хорошо занимаюсь. А иногда я плохо занимаюсь — некогда...
В.: Какая задача ставится в первый момент?
Р.: Одна и та же, и в первый момент, и потом, позже. Я сразу представляю себе, что я буду делать, с первой же страницы. В конце концов, это очень просто — в тексте все написано, все темпы указаны, динамические оттенки также...
В.: Но вы не играете еще в темпе?
Р.: Я играю медленно, и потом в первый же день играю в темпе. Но есть страницы, которые я еще буду играть медленно, — те, что труднее.
В.: И здесь вы уже даете всю выразительную характеристику произведения?
Р.: Всю характеристику сразу.
В.: Вы играете еще по нотам или наизусть?
Р.: Это зависит от того, сколько времени до концерта. Когда срок маленький, я начинаю сразу учить наизусть. Но это немножко утомительно, и потом, я хоть играю наизусть, но на следующий день могу забыть. Лучше этого не делать, я и так очень быстро выучиваю... Потому что в таких случаях бывает, что я вдруг на концерте споткнусь от какой-нибудь самой внешней причины; я знал, был уверен, но... Нужно, чтобы выучивание наизусть происходило без принуждения, тогда все будет хорошо! Две недели, чтобы выучить наизусть, вполне достаточно.
Когда я играл впервые Первый концерт Рахманинова, я выучил его в общей сложности дней за десять. Особенно первые пять дней я замечательно поработал, по восемь-девять часов! У меня всегда так бывает: если маленький срок до концерта — играю большое количество часов. Правда, иногда могу играть только час — совершенно нет физических сил... Бывает так, что я могу три дня играть по одиннадцать часов, а потом неделю не могу почти совершенно играть — не хочется, скучно, совсем нет энтузиазма. Потом опять желание пробуждается, сажусь и играю двенадцать часов... Я очень быстро учу вещи, но в такой период, когда мне не хочется, ни одной ноты не могу сыграть. Это очень трудно — заставить себя систематически играть в день два-три часа. У меня так никогда не бывает. Я всегда неделю играю, неделю не играю.
В.: А как вы будете повторять, если вам надо за два дня повторить! Тоже медленно будете играть?
Р.: По-разному бывает. Если какой-нибудь ноктюрн Шопена, то его можно повторить за два часа до концерта. А Седьмую сонату Прокофьева надо учить целый день. А вообще я считаю, что перед концертом я все время должен играть, но вдруг выясняется, что я еще не повторил какое-нибудь скерцо, а сегодня концерт... И бывает так, что повторить уже нельзя — что-то помешало. Тут, конечно, очень волнуешься. Идешь, как на эшафот...
В.: Значит, бывает так, что можно играть на концерте не повторенное произведение?
Р.: Все-таки это очень трудно. Но бывает и так, что некоторые вещи, которые не были повторены, играешь очень удачно. Конечно, если они в конце программы ...
В.: А виртуозные вещи, технически трудные?
Р.: Некоторые виртуозные вещи, которые я давно играю, я могу не повторять. Хотя лучше, спокойнее, конечно, повторить.
В.: Вы их медленно играете, когда повторяете?
Р.: Да, вообще лучше играть медленно. Хотя я не всегда так делаю.
В.: А почему не всегда? Просто не успеваете?
Р.: Да нет, дело не в этом. Иногда бывает так, что начинаешь медленно, а продолжаешь быстро.
В.: На концерте вы волнуетесь?
Р.: Конечно, я волнуюсь всегда, но иногда больше, иногда меньше.
В.: А что в концерте вас волнует? Присутствие публики?
Р.: Нет, не присутствие публики. Меня, например, волнует, если сделаешь какой-нибудь ляпсус. Но, конечно, это зависит от состояния. Приблизительно знаешь, где что может случиться, и начинаешь спотыкаться, а нужно чувствовать себя совершенно свободно. Но иногда эта свобода не приходит. Вообще состояние на концерте — совсем особенное дело. Тут может быть не столько волнение, сколько какая-то холодная рассеянность: начинаешь играть и чувствуешь, что играть не в состоянии. Начинаешь «мазать», и вдруг вообще становится безразлично, что будет.
В.: А волнение, которое мотивируется страхом забыть?
Р.: Конечно, бывает. Я знаю, что это место мало повторял, и могу на нем запнуться. Я всегда боюсь забыть в самых простых пьесах. Тут все зависит от случайности, и еще от ткани произведения. Например, В-dur'ный прелюд Рахманинова: я всегда боюсь, что забуду что-нибудь в нем. Там такая ткань! Все хорошо, со вкусом расставлено, но все немножко по-разному. Или, например, «Etudes Tableaux» Рахманинова — я их очень много играл, но всегда боялся, что что-нибудь вдруг не выйдет.
В.: И в такой момент лучше всего - что?
Р.: Если знаешь, например, что можешь забыть в левой руке, тогда усиленно обращаешь внимание на правую руку, и только чуть следишь за левой. И это почти всегда удается! Есть такие места в Третьей балладе Шопена, где начинается C-dur. Там два раза одно и то же немножко по-другому. На концерте всегда боишься забыть; и когда думаешь об этой мелочи, обязательно забудешь, споткнешься, запутаешься... Когда я играю это медленно, то ухо не забывает, я всегда точно знаю, то есть слышу. Лучше играть «ухом»: слушаешь, а руки играют. А если думать о пальцах, то гораздо хуже получается — сразу нарушается движение. То же самое с фугами Баха. Основное в них — это где мелодия, тема. Все остальное — восьмые, шестнадцатые — на них надо обращать поменьше внимания, а там, где целые ноты, — нужно хорошо прослеживать. Но бывают трудные места, где, если обращать внимание на длинные ноты, то в чисто слуховом смысле очень трудно распределять звучание.
В.: Когда вы играете на концерте, у вас зрительных представлений текста нет? Вам не помогает зрительная память?
Р.: Нет, почти не помогает. Мне это не нужно.
В.: Для некоторых пианистов это очень важный момент, они все представляют зрительно, «видят» текст.
Р.: Я могу нарочно восстановить зрительно текст, но это мне ни к чему. У меня чисто слуховое представление. Перед концертом мне всегда кажется, что я ничего не знаю, но когда начинаю все представлять слухом, я, конечно, понимаю, что знаю, что начну, и все выйдет.
В.: Еще очень важный вопрос: внемузыкальное содержание пьесы, то есть образы и представления, которые, возникают в связи с данной вещью, как ее программа, - это имеет для вас значение?
Р.: Нет, все-таки музыкальное содержание важнее.
В.: Тут могут быть какие-то жизненные ассоциации, переживания природы или ассоциации из области искусства, литературы...
Р.: Это может иметь значение, но больше важно не как что, а как.
В.: А именно?
Р.: Какой-то внутренний образ приходит в голову, но не навязчиво, он не обязательно очень рельефный, может быть и какой-то другой образ. Вот, например, соната Бетховена E-dur op.14. Для меня вообще E-dur это всегда что-то весеннее, какие-то долины зеленеющие... Повторяю, я не вижу этого, но это всегда зеленое. G-dur'ная соната Бетховена — нечто летнее. Патетическая соната, первая часть, - это все-таки гроза. Говорят, что эта соната навеяна «Бурей» Шекспира.
В.: Образы возникают в момент исполнения?
Р.: Нет, в момент исполнения все время думаешь о другом — о звуке, темпе, дыхании. Образы могут появляться, но они ни на что не влияют, это не так, что все время думаешь о них.
В.: И подобные образы связаны почти со всеми произведениями, которые вы играете?
Р.: Не обязательно. Если я подумаю об образе, я его сразу найду, но я могу и не думать об этом.
В.: А эти образы помогают чему-то в вашей работе?
Р.: Они помогают выбору репертуара. Это то, что может обусловить выбор. Но не то, что обязательно с ним связано, — они же случайно приходят... Они не всегда осознанны. Но вообще о каждой вещи, которую я играю, я могу что-то сказать.
В.: А об образах надо думать специально?
Р.: Нет, они сразу приходят в голову. Ведь музыка не может быть совершенно оторвана от всего, как всякое искусство, она откуда-то из жизни черпает содержание.
В.: А жизненные, свои личные переживания связываются у вас с некоторыми произведениями?
Р.: Бывает, что произведение связано с какими-то воспоминаниями. Но сами воспоминания при игре никакого значения не имеют, — имеет значение состояние. Просто вот, у меня сейчас такое-то состояние, я играю, и эти воспоминания могут мне помогать. Но я никогда не связываю их с конкретным произведением, это мне может только помешать.
В.: А воспоминания, связанные с тем, в какой обстановке, в какой ситуации вы эту вещь учили, что-то, что было связано с работой над этой вещью, играет роль?
Р.: В первый период работы так бывает, а потом — нет. Может быть, жалко, что это уходит, но это уходит.
В.: А со старыми вещами так бывает? С теми, которые вы учили в юности?
Р.: Нет. Они ведь сами по себе имеют большое значение, больше значат, как произведения искусства, чем как воспоминания. Они всегда перевешивают те воспоминания, которые с ними связаны. Есть произведения, которые я очень люблю с детства, они вошли в мои плоть и кровь. Эти вещи я удачно играю, я в них себя хорошо чувствую. Это, например, Фантазия Шуберта, Симфонические этюды Шумана, почти весь Вагнер. Я его очень много играл до 20 лет, изучил по клавирам почти все, знал очень хорошо! Затем многие этюды Шопена. Какие-то ассоциации у меня связаны с Вокализом Рахманинова.
В.: А что преимущественно вас интересовало в пору вашего общего образования?
Р.: Мне говорили, что я не так уж был бездарен. Вот математика - это был предмет, которого я совершенно не понимал. Вероятно, я и сейчас в ней ничего не смыслю. Так что математика хромала. А всегда очень интересовала история. К сожалению, я никогда ею не занимался всерьез. Меня, может быть, интересовала внешняя сторона истории, со стороны как бы театральной. География очень интересовала. Она меня и сейчас интересует в плане путешествий: я хотел бы всюду путешествовать, все увидеть, всюду побывать, но не с комфортом путешествовать, а с одной котомкой. Это я очень люблю. Люблю прогулки, люблю ходить, очень люблю природу.
Интересовали меня ботаника, физика. Вообще, конечно, музыка у меня очень много забрала, так что в смысле остальных предметов я довольно-таки отстал. Именно «предметов». Искусство меня всегда увлекало, с литературой я знаком неплохо. Есть у меня в характере такая педантичность: я не люблю все быстро воспринимать. Я люблю воспринимать медленно, основательно. Если я прочту книжку, я прочту ее на всю жизнь. Поэтому я читаю только самые значительные произведения в мировой литературе, и читаю их медленно. Так что я много чего не читал.
В.: Вы говорили, что в периоды усиленных занятий занимаетесь по восемь-девять, даже по одиннадцать часов в день. Как вы располагаете ваши занятия в это время?
Р.: Как выйдет. Я занимаюсь всегда с утра до трех часов, затем вечером. Иногда собираешься сесть играть, а не выходит; в этом отношении я не очень педантичен. Но у меня есть большая движущая сила — жадность: я хочу сыграть возможно больше музыки! Мне кажется, надо больше и больше играть, а потом можно будет отшлифовывать. Я играю очень много и больших вещей тоже.
В.: А забываются вещи быстро?
Р.: Я быстро забываю, но быстро и восстанавливаю.
В.: Вам надо повторять вещи в промежутках между концертами?
Р.: Нет. Я как-то играл программу Скрябина и Метнера. Первый раз сыграл в Москве. Затем в Ленинграде надо было играть, после перерыва в четыре месяца. Я восстановил за три дня. Конечно, может быть, не слишком хорошо...
В.: Восстанавливаете вы по нотам?
Р.: По нотам.
В.: У вас слух абсолютный?
Р.: Да, у меня абсолютный слух, я могу спеть заданную ноту. Но у меня в последнее время слух стал страдать, я беру почему-то на полтона выше...
В.: Вы проигрываете перед концертом всю программу на том рояле, на котором будете играть на концерте?
Р.: Иногда, бывает, проигрываю, а иногда такой возможности нет. Последнее время я не стремлюсь репетировать, а сразу выхожу на эстраду. Я начинаю очень волноваться, когда пытаюсь репетировать. А когда я просто «выпущен» на концерт, тогда уже слишком поздно думать, что на этом рояле что-нибудь не получится.
В.: А как вы публику воспринимаете? Как единое целое или как собрание отдельных лиц в какой-то части вам знакомых?
Р.: Как единое целое. Я не думаю о ней.
В.: Вы воспринимаете первые ряды партера?
Р.: Ой, да! Я все время смотрю, и это ужасно. Я очень наблюдателен, я вижу какие-то лица, и это меня очень волнует, мешает мне, выводит из того состояния, которое должно быть.
В.: А кашель, шумы?
Р.: Это не мешает. Нельзя, однако, сказать, что так всегда бывает. Был однажды такой случай: я играл на открытой эстраде где-то на курорте. Там был сад, и вдруг из сада донесся издали пронзительный свист. Я очень испугался. Я играл с-moll'ный этюд Рахманинова и уже думал, что ничего у меня не выйдет, но в результате этот свист меня вдруг подхлестнул, и я стал очень хорошо играть.
В.: А реакция публики вас волнует?
Р.: Я чувствую, когда я играю удачно. Когда я знаю, что удачно играю, тогда я уверен, что и публика будет хорошо слушать, будет тихо сидеть. Я не думаю о публике, а главным образом, думаю о самом исполнении.
В.: А когда переживается кульминация - на концерте или в момент работы дома?
Р.: Я всегда лучше всего себя чувствую — то есть, чувствую, что лучше всего играю, — в домашней обстановке. В домашней, но как бы концертной обстановке, в тесном кругу. Даже иногда на плохом рояле. На концерте такое настроение редко бывает, там всегда какой-то холодок ощущаешь. Вероятно, оттого, что надо хорошо играть. В бисах я себя ощущаю лучше.
В.: А бывает, что вы испытываете творческий подъем, воодушевление на концерте?
Р.: Это бывает, но не гарантировано. Иногда бывает и так: тебе кажется, что очень хорошо играл, а потом тебе говорят — «эта первая вещь странно прозвучала»... Я как-то прослушал в записи своего концерта Седьмую сонату Прокофьева. Когда я играл на эстраде, мне казалось, что это было очень хорошо, что было настоящее исполнение, но то, что получилось в записи, меня разочаровало: какая-то бесконтрольная нервность, какие-то ускорения темпов, что совершенно не входило в мои планы. Я сам, на эстраде, этого не слышал, не воспринимал совсем. Это было, очевидно, чисто нервное...
В.: А в день концерта вы занимаетесь?
Р.: Последнее время всегда занимаюсь, и порядочно. Часов по шесть. Проигрываю какие-то отдельные места. Но по-настоящему проигрываешь главным образом уже после второго концерта, когда все выучено и нужно лишь повторить. Это очень помогает, только не нужно играть целиком. Надо играть не всю вещь, чтобы не испортить ощущение, а отдельными кусками. Играть одно, потом другое, с полным накалом. Этюды какие-нибудь поиграть всегда полезно...
В.: Вы играете в таком случае только те вещи, которые будете играть на концерте?
Р.: Всегда что-нибудь из того, что буду играть на концерте. Другого не играю никогда.
В.: А Генрих Густавович делает совсем по-другому...
Р.: Я знаю, но я не понимаю, как это можно. В Ленинграде у меня как-то был концерт, а я не успел к нему все повторить и боялся там за пальцы, потому что было уже двадцать пять минут девятого, половина девятого, а я только встал из-за рояля, надо фрак уже надевать, а я все что-то повторяю...
В.: Целый день так занимались?
Р.: Целый день занимался. С симфоническим оркестром лучше бывает, потому что играешь одну вещь, хотя бы и крупную, и если ее раньше не повторишь, то в последний день уж обязательно повторишь, и не один, а с оркестром. А вот с сольным концертом так бывает не всегда. Я-то всегда намечаю какой-нибудь план занятий, сколько часов нужно на каждую вещь программы, но времени бывает в обрез, и не всегда удается точка в точку все осуществить. Наоборот, всегда что-то помешает, чего-то не доделаешь, и потом бывает такое состояние... В общем, несколько легкомысленно: намерения добрые, а не получается...
В.: А как протекает само формирование исполнения, то есть окончательное становление музыкального образа? Бывают ли моменты сомнений, поисков? Ведь наиболее удовлетворяющая исполнителя фразировка, темповая, динамическая и звуковая характеристика отдельных эпизодов может придти не сразу?
Р.: Нет, у меня этого не бывает. Мне как-то с самого начала все бывает ясно. Да и в нотах ведь все основное указано. Конечно, в процессе выучивания все отшлифовывается, дорабатывается, углубляется, становится на свое место. А искать — нет, не помню таких моментов.
14 июня 1947 г.
"Советское искусство", 1949, 1 января.
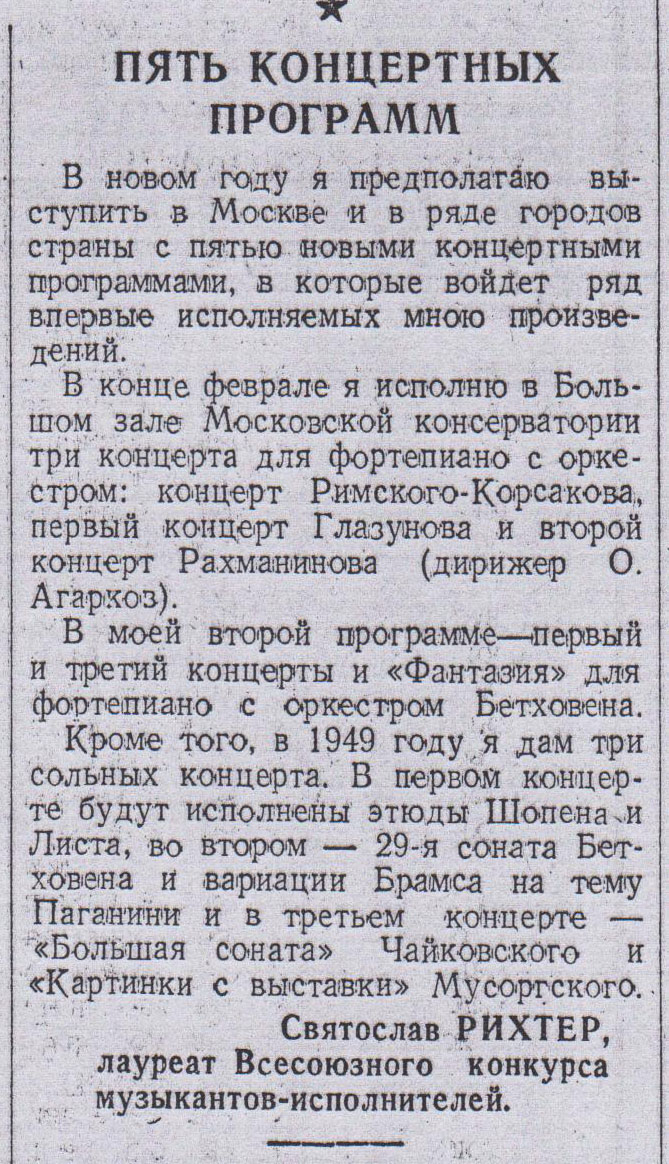
«Советское искусство», 01/01/1949.
В новом году я предполагаю выступить в Москве и в ряде городов страны с пятью новыми концертными программами, в которые войдет ряд впервые исполняемых мною произведений.
В конце феврале я исполню в Большом. зале Московской консерватории три концерта для фортепиано с оркестром: концерт Римского-Корсакова, первый концерт Глазунова и второй концерт Рахманинова (дирижер О. Агарков).
В моей второй программе — первый и третий концерты и «Фантазия» для фортепиано с оркестром Бетховена.
Кроме того, в 1949 году я дам три сольных концерта. В первом концерте будут исполнены этюды Шопена и Листа, во втором — 29-я соната Бетховена и .вариации Брамса на тему Паганини и в третьем концерте — «Большая соната» Чайковского и «Картинки с выставки» Мусоргского.
Святослав РИХТЕР, лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей.

«Огонек», 1950, №12.
Передовая школа пианизма
Святослав Рихтер,
пианист
Где бы ни встречались на международных конкурсах наши пианисты с пианистами других стран: а Брюсселе или Вене, Праге или Варшаве, – первое место всюду и неизменно оставалось за питомцами советской школы пианизма.
Что же отличает нашу школу, что составляет «секрет» ее превосходства, ее неоспоримых творческих побед!
Нетрудно ответить на этот вопрос. Если пианисты буржуазного Запада, в особенности пианисты за океаном, вынуждены удивлять своих пресыщенных слушателей прежде всего чистым техницизмом, погоней за внешними эффектами, то нашей школе пианизма свойственно стремление к идейной ясности и одухотворенности исполнения.
Советские пианисты-виртуозы, не уступая никому в совершенстве исполнительской техники, главную задачу видят в раскрытии «души» произведения. Проникнуть в мысли и чувства композитора, выразить их с наибольшей отчетливостью, глубиной, силой – вот к чему стремится каждый из нас, пианистов, воспитанных консерваториями Москвы и Ленинграда Киева и Тбилиси, Баку и Ташкента...
Эти замечательные качества нашей школы, унаследовавшей лучшие традиции выдающихся русских исполнителей и педагогов, позволяют говорить о советском пианизме как о высшем этапе мировой фортепианной культуры.
Всякий раз, когда я приступаю к новой работе, я вспоминаю слова Льва Толстого о том, что «художник должен уметь найти то единственное выражение, которое существует для каждого чувства. Для того же, чтобы найти это выражение, он должен чувствовать то, что выражает.
Только при этом условии произведение искусстве заразительно и потому есть искусство».
Сейчас я работаю над этюдами высшей сложности – Франца Листа... Это один из наиболее трудных «барьеров» для пианиста- виртуоза. Очень труден он и для меня. Но будут ли мои слушатели удовлетворены, если я только «блесну» легкостью и свободой исполнения этих этюдов? Для чего же добиваться этой легкости, этой свободы, как не для того, чтобы выразить чувства и мысли, заключенные в каждом произведении?
Большую творческую радость доставляет мне обращение к сокровищнице русской классической фортепианной музыки. Какие огромные и разнообразные богатства раскрываются передо мной, когда в проникаю в яркий и красочный мир единственных а своем роде «Картинок с выставки» гениального произведения Мусоргского, в простые, лирические размышления «Большой сонаты» Чайковского!.. В моем репертуаре Рахманинов, Скрябин, Глазунов; в каждом из них я стараюсь услышать, почувствовать, выразить то, что наиболее близко и дорого моим современникам.
Но не только русские классики, – Бах и Бетховен, Шуберт и Лист, Шопен и Дебюсси также находят у нас многочисленных благодарных и внимательных слушателей.
Самое радостное для пианиста – сознание, что фортепианная музыка из искусства для избранных превратилась в нашей стране в искусство для самых широких народных масс.
Я от души благодарю свою большую и отзывчивую аудиторию, благодарю правительство, высоко оценившее мой творческий труд.

С.Рихтер.
«Советская культура», 1954, 17 апреля.
Богатая музыкальная жизнь
Недавно вернувшийся на родину из Венгрии пианист Святослав Рихтер в беседе с нашим корреспондентом просил через «Советскую культуру» еще раз передать глубокую благодарность за сердечный, радушный прием, оказанный в Венгрии советским музыкантам и ему лично.
Венгеро-Советское общество, - говорит С.Рихтер, - ведет большую и успешную работу по усилению культурного обмена и сближению народов обеих стран. Слушатели очень благожелательны к советским гостям. Публика, наполняющая концертные залы, хорошо знает и любит музыку.
Большую благодарность выразил Рихтер венгерским музыкантам, выступавшим вместе с ним. – прекрасному оркестру и дирижерам Ференчику и Комору.
«Особенно хочется от души поблагодарить Яноша Ференчика, – сказал Рихтер. – Это дирижер с большим горением, с ярким темпераментом, и выступать с ним было для меня большой радостью. Нам удавалось достичь такой свободы такого полного контакта в исполнении, какие не часто существуют между дирижером и пианистом,
В исполнении оркестра под управлением | Ференчика я впервые слышал концерт для оркестра Бартока, пронизанный интонациями народной песни. В этом чрезвычайно интересном произведении хочется отметить изумительную, своеобразную инструментовку, Хотелось бы. чтобы с этим концертом Бартока шире ознакомились советские слушатели.
Из других незнакомых мне раньше произведений Бартока я имел возможность слышать также одно из его ранних творений - балет «Деревянный королевич
В музыке балета чувствуются и сила и своеобразие Бартока, но есть еще заметные следы модернизма, экспрессионизма. Поставлен балет великолепно:простыми и выразительными средствами создается впечатление то бури в лесу, то обрушивающихся потоков воды, то ночи, то а цветущего утра. Режиссер и декоратор балета – Густав Ола.
Очень привлекательна идея «Деревянного королевича»*; богатство не может дать счастья, настоящие ценности жизни – мужество, труд, любовь. Балет построен на движениях классического танца, но этим двмжениям придается порой нечто от гротеска. В балете-сказке это, по-моему, уместно и сделано очень удачно.
В тот же вечер (балет одноактный) слышал я и новую для меня одноактную оперу Кодая «Прядильня», целиком построенную на подлинном народном творчестве. Это, собственно говоря, не опера в привычном смысле слова, а полуопера, полуконцерт: широкая картина народных образов, песен и танцев, объединенных неторопливо развивающимся сюжетом. «Прядильня» очень хорошо принималась публикой, зрители с радостью узнавали знакомые им с детства танцы и мелодии. Хотя для меня, незнакомого с народным творчеством Венгрии, восприятие этого произведения и затруднялось (такую оперу следовало бы прослушать несколько раз, чтобы вполне войти в ее мир), но все же мне ясно, что «Прядильня» относится к значительным и очень положительным явлениям современной венгерской музыкальной жизни.
Несколько раз побывал я в оперном театре. Во всех оперных постановках, с которыми я ознакомился, хочется отметить глубокое понимание сути произведения. При этом нет погони за внешним блеском, помпы и перегрузки, мешающих восприятию музыки.
Замечательный бас Секей особенно хорош в «Дон Карлосе» (кстати сказать, все советские музыканты и артисты, посетившие спектакль, сожалеют, что эта опера Верди уже несколько десятилетий не идет в Москве), а также «Похищение из сераля», где он неподражаем в роли Осмина. Большой культурой обладает певица Анна Бати – я слышал ее в «Дон Карлосе» и в «Фиделио». Богат красками талант молодой Марии Матьяш: у нее голос большого диапазона, от почти хроматических до колоратурных партий, и выразительная, проникновенная игра. Сильное, темпераментное меццо-сопрано артистки большого масштаба Клары Палашкаи также произвело на меня прекрасное впечатление. Замечательные декорации, особенно «Кармен», создал высокоталантливый Густав Ола, надавно вторично награжденный премией Кошута. К сожалению, многих выдающихся музыкантов и артистов мне не пришлось услышать.
Лучшей из оперных постановок, слышанных мной в Будапеште, я считаю «Фиделио». Гениальная музыка, хорошая игра, большое внутреннее напряжение… Оркестр оперы под управлением Ференчика и весь ансамбль сделали для меня этот вечер незабываемым музыкальным событием.
С. РИХТЕР.
«Советская музыка», 1956, №1
НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О СОВЕТСКОЙ МУЗЫКЕ
Меня попросили написать, что я думаю о нашей современной музыке. Эта область очень обширна – и по множеству музыкальных произведений и по их разнообразию. Поэтому я вынужден буду затронуть лишь некоторые волнующие меня вопросы, и то не рассчитывая на .исчерпывающую полноту.
Прежде всего мне хочется подчеркнуть, что мы очень богаты – это подтверждает даже беглое знакомство с творчеством таких мастеров, как Н.Мясковский, С.Прокофьев, Д.Шостакович. Советская музыка непрерывно пополняется работами таких крупных композиторов, как Д.Кабалевский, В.Шебалин, Ю.Шапорин, А.Хачатурян.
Богатство нашей музыки велико, и это обязывает относиться к нему с должным уважением и энтузиазмом. Находясь в постоянном ожидании новых и новых музыкальных «шедевров», мы подчас проявляем равнодушие и забывчивость по отношению к тому, что имеем. И, как это ни странно, не используем богатств, которыми уже давно обладаем.
У нас часто говорят об отсутствии советской оперы. Это положение глубоко тревожит все слои музыкальной общественности. Но почему, почему не вспомним мы о замечательных операх С. Прокофьева «Война и мир», «Дуэнья», «Семен Котко», об опере Д.Кабалевского «Кола Брюньон»?
Мне бы хотелось коротко остановиться на опере С. Прокофьева «Семен Котко», которая особенно дорога мне и которую, на мой взгляд, незаслуженно забыли. Я слышал оперу давно, до войны в слабом исполнении, однако она произвела на меня незабываемое впечатление. Опера «Семен Котко» – это эпическая повесть о гражданской войне. Она отличается целостностью, многогранностью, подкупает своей свежестью. Долго пришлось бы говорить о музыкальных достоинствах оперы, о ее колоритной оркестровке, о богатстве и разнообразии вокальных партий, о широком звучании народных хоров. Опера превосходна по композиции. Действие, развиваясь в неослабевающем сценическом ритме, движется от мягкой лирики первого акта (приезд Семена домой, в деревню) к трагической кульминации (потрясающая слушателя до глубины души ораториальная сцена – погребение в лесу) и завершается светлой, оптимистической сценой, где герои уходят вдаль – к новым подвигам, к жизни.
Опера прекрасно отражает героику того времени. Ее образы естественны, исполнены лирики, подчас юмора. Им веришь, их любишь – они живые люди. Я считаю, что это подлинно реалистическая, народная музыкальная драма. Мы должны гордиться такой советской оперой.
Мы ждем новых замечательных произведений, инструментальных и вокальных, забывая о тех, которые у нас есть. Наш репертуар в основном построен на уже давно знакомых слушателю сочинениях (притом – не всегда лучших); они повторяются из года в год.
Двадцать семь симфоний – наследие Н.Мясковского. По праву добрая половина этого наследия должна была бы фигурировать в симфонических программах каждого сезона наряду с произведениями Танеева, Глазунова, Рахманинова. К сожалению, исполняются всего две-три симфонии Мясковского, да и то редко.
Совсем недостаточно представлено в концертах творчество С.Прокофьева. Если сравнительно часто звучат Классическая и Седьмая симфонии или сюиты из «Ромео и Джульетты», то многие другие прекрасные сочинения этого композитора просто забыты. Редко исполняется Пятая – лучшая симфония С.Прокофьева, полная светлой мудрости, сильных переживаний, ликующей радости; в ней композитор с наибольшей полнотой выразил свой музыкальный гений. Совсем не исполняются другие его симфонии. Очаровательную Симфониетту постигла та же печальная участь. Редко слышим мы фортепианные и скрипичные концерты Сергея Прокофьева, а какой благодарный материал представляют они для наших инструменталистов!
Ярким воплощением советской музыкальной классики является творчество Д.Шостаковича. Я твердо убежден, что лучшие его симфонии и квартеты входят в золотой фонд советской музыки. Естественно желание чаще слушать эти произведения.
Не надо забывать, что подлинное классическое произведение не всегда легко воспринимается с первого раза. Примером могут служить последние сонаты Бетховена и его квартеты. Новая классика, как и старая, требует от слушателя активного внимания, предполагает «творческое соучастие». Слушатель же нередко идет по линии наименьшего сопротивления: прослушав однажды пьесу и с первого раза не вполне разобравшись в ней, он вместо того, чтобы прослушать ее еще и еще раз, предпочитает решить, что произведение плохое.
Дать исчерпывающую оценку крупному музыкальному произведению сразу почти невозможно. И не только потому, что трудно уловить особенности композиции и формы, усвоить своеобразный язык автора, но прежде всего потому, что таковы свойства нашего слуха. Наше ухо гораздо быстрее и легче воспринимает привычное, знакомое, неоднократно слышанное. Знаю по себе, что, слушая новое произведение, испытываешь всегда определенное внутреннее сопротивление. Поэтому надо быть готовым к тому, что новое, оригинальное произведение неминуемо вызовет спор. При этом приходится принимать в расчет возможные случайности: неподготовленность аудитории, настроение исполнителей, не говоря уже о таком досадном явлении, как предубеждение.
Мне кажется, что если зарекомендовавший себя исполнитель берет какое-нибудь современное сочинение, то он тем самым утверждает его качество. Слушатель может отнестись с полным доверием к исполняемому произведению и должен стараться его понять. Слух исполнителя более тренирован, его музыкальная культура позволяет ему более глубоко судить о достоинствах произведения.
Большое значение для воспитания вкусов слушателя и профессионального мастерства исполнителей имеет подбор репертуара. Не слишком ли односторонне, с расчетом на легкое восприятие строится наш концертный репертуар? Не слишком ли мы приучили слушателя к романтической музыке? Следовало бы гораздо больше исполнять классическую музыку добетховенского периода – Баха, Генделя, Моцарта, Гайдна и т. д.; на мой взгляд, стоило бы предоставить ей по меньшей мере треть всего нашего репертуара. Эта музыка воспитывает хороший вкус. Она является «пробным камнем» для исполнителя, служит источником вдохновения для поколений композиторов. Она – основа всей музыки.
Мало знакомим мы нашу аудиторию и с лучшими образцами новой западной музыки. Думаю, что доля вины лежит в данном случае на исполнителях.
Часто меня спрашивают, чем я руководствуюсь, составляя свои программы, почему играю то или другое сочинение. К сожалению, не в человеческих возможностях сыграть все хорошее, что написано для фортепиано. Тут отбор происходит по иным принципам, тут многое решает индивидуальный вкус исполнителя. Не надо забывать, что исполнитель одновременно и музыкант и артист, а это далеко не одно и то же. Есть множество сочинений, которые я люблю слушать и высоко ценю, но у меня не возникает желания играть их. В то же время другие сочинения, быть может, и не всегда свойственные моему мироощущению, привлекают, заставляют ухватиться за них. В данном случае это влечение артиста, потребность перевоплотиться, раскрыть еще один новый для себя образ, довести его до слушателя.
Я думаю, что задача настоящего исполнителя – целиком подчиниться автору: его стилю, характеру и мировоззрению.
Меня, например, спрашивают, почему я играю Третью сонату Н.Мясковского? Думаю, что тут привлекает яркое воплощение субъективных настроений композитора, до боли остро выраженное чувство смятения.
Сонаты С.Прокофьева являются полной противоположностью упомянутой Сонате Н.Мясковского; из них особенно дороги мне Восьмая и Девятая. Восьмая соната – монументальное сочинение, по форме близкое симфонии, полное глубоких философских обобщений. Каждое исполнение этой Сонаты является большим событием в моей артистической жизни.
Исполнитель Девятой сонаты С.Прокофьева должен преодолеть немало скрытых, особых, лишь ей присущих трудностей. Светлая, интимно камерная по характеру, она таит в себе не сразу различимые богатства. Эта Соната, лишенная каких бы то ни было внешних эффектов, дорога мне чистотой и искренностью, с которой проявляется в ней авторский замысел.
Прелюдии и фуги Д. Шостаковича принадлежат к чрезвычайно сложным для исполнителя (равно и для слушателя) произведениям. В этом сочинении я вижу прямую преемственность традиций высокой классики. Эта классика по-новому воссоздана ныне Д. Шостаковичем в замечательном цикле прелюдий и фуг. Создание этого цикла – большое музыкальное событие наших дней.
Как исполнитель и как слушатель я также жду от наших композиторов новых музыкальных произведений, стоящих на уровне лучших образцов русской и советской классики. Такие произведения должны появиться и несомненно появятся.

С.Рихтер.
«Литературная газета», 1957, 28 марта.
Пробовать, добиваться, убеждать
Когда я думаю, о том, что мешает нашей работе, я прихожу к выводу, что очень многое из нас, музыкантов, виноваты перед своим искусством. Привычка работать только наверняка, боязнь пробы, риска, поиска – как всё это препятствует и расширению репертуара, и подлинно творческой активности! Разве не должен каждый из нас, исполнителей постоянно помнить о тех сокровищах родного искусства, которые мы не имеем права оставлять втуне, разве можем мы спокойно мириться с тем, что многие прекраснейшие страницы нашей музыки – русской и особенно советской – остаются неизвестными слушателю? Что может быть хуже холодного равнодушия профессионала, спокойно обходящего произведения, без которых так обедняется, так многое теряет наша концертная жизнь?
Постоянно, не зная усталости и отступлений, должны мы бороться за то, чтобы звучало всё лучшее, живое, высокое. Мы должны стремиться к восстановлению истинной репутации того или иного произведения, которое было когда-то скомпрометировано неудачным исполнением или оценкой поспешной и неверной. Мы должны возвращать к жизни то, что было незаслуженно объявлено умершим.
Это трудная задача! В самом деле, не легко бывает преодолеть предубежденность, нелегко бывает заглушить недобрый голос снобов и критиканов, которые не хотят отказываться от привычных мнений, к тому же часто воспринятых из чужих рук. Как часто у нас обвиняют композитора е на самом деле виноват исполнитель! Мне порой хочется сравнить наш творческий труд с трудом художника-реставратора, который должен бережной рукой снять с полотна тусклый налет и вернуть людям живые краски оригинала, по которому равнодушный взор привык скользить невнимательно и холодно.
Традиция исполнения – хорошая вещь. Но она хороша лишь тогда, когда музыкант умеет уберечься от механического повторения закрепленных приемов. Мне кажется, что мы всякий раз должны читать музыку, как впервые, должны ощущать всю меру нашей ответственности и перед автором, и перед слушателем.
Да, музыки у нас сегодня звучит много. Но всегда ли она исполняется так, как должно? Нет, не всегда. К примеру, как горестно мне видеть, когда даже в наших ведущих театрах произведения нашей оперной классики беспощадно купируются или исполняются в неудачных редакциях, когда постановщики руководствуются диктатурой своего вкуса, а не идут от музыки. «Руслан и Людмила», «Князь Игорь», «Садко», «Борис Годунов», шедевры нашей оперной классики, даже они идут сегодня с непростительными музыкальными потерями. А какой ущерб понесла опера Прокофьева «Война и мир» после того, как отказались от ее исполнения, рассчитанного на два вечера, и прокофьевская партитура была урезана, сжата, попросту искалечена. Мне думается, что и в этом сказалась власть рутины. Добрый пример должного отношения к оперному искусству показывают нам наши друзья из стран народной демократии: я вспоминаю, ка порадовал нас Пражский национальный театр во время своих московских гастролей своим безупречным в музыкальном отношении исполнением «Далибора» Сметаны. Хочется дождаться такого времени, когда наша сцена обогатится «Каменным гостем» Даргомыжского, «Чародейкой» Чайковского, когда на нее придут оперы Глюка и Вагнера, когда дождутся своего подлинного рождения прокофьевский «Семен Котко» и его же «Сказ о каменном цветке», когда богатой вольной жизнью заживут на ней новаторские советские оперы.
Мне хотелось бы чтобы Второй съезд советских композиторов оказал должное внимание вопросам всей нашей музыкальной жизни, взятой в целом, в единстве ее творческих и исполнительских проблем. Не будем же ленивы и нелюбопытны, станем решительнее в поисках, опытах, наверстаем упущенное и сделаем несделанное. И тогда высокое удовлетворение принесет нам наш творческий труд, и драгоценной для каждого художника благодарностью ответят наши слушатели.
Святослав РИХТЕР,
Народный артист РСФСР
Святослав Рихтер.
«Советская культура», 1958, 15 апреля.
В Беседе с нашим корреспондентом.
РАДОСТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Подытоживая свои впечатления о только что закончившемся конкурсе пианистов, я не могу не начать с молодого американского музыканта Вана Клиберна, завоевавшего первую премию и золотую медаль. Ван Клиберн – явление незаурядное. Уже в первом туре, когда Ван Клиберн сыграл Прелюдию и фугу си-бемоль минор из 1 тома «Хорошо темперированного клавира» И.-С. Баха, а затем Сонату до мажор Моцарта, стало складываться мнение, что за роялем сидит подлинный художник. Исполнение последующих четырех этюдов – Шопена, Листа, Скрябина и Рахманинова лишь укрепило в этом решении.
Из произведений, сыгранных Ваном Клиберном на всех трех турах, хотелось выделить совершенное исполнение ля минорного этюда (№ 11, соч. 25) Шопена, Двенадцатой венгерской рапсодии Листа, фуги из сонаты (соч. 26) американского композитора С. Барбера, «Рондо» Д. Кабалевского и особенно поразившую всех интерпретацию Третьего концерта для фортепиано с оркестром Рахманинова, в котором редкое дарование Вана Клиберна развернулось во всю свою ширь и мощь.
Было бы странным, если бы пианист всю программу сыграл одинаково «непогрешимо». Так, Чайковский лучше всего удался Вану Клиберну в «Вариациях» фа мажор, тогда как исполнение «Большой сонаты» соль мажор было очень спорным, что в значительной степени относится и к Концерту № 1. Это можно сказать также и о Фантазии фа минор Шопена.
Но такому пианисту, как Ван Клиберн, хочется простить все. Он принадлежит к той категории начинающих артистов, которые играют «самих себя», а не замысел композитора, воплощенный в нотном тексте, пока годы упорной работы не приносят с собой зрелости и столь важного для художника качества, как чувство стиля. Я считаю Вана Клиберна гениально одаренным пианистом. Его врожденный артистизм и тончайшая музыкальность облагораживают все, что он играет. Его победа на таком трудном конкурсе по праву может быть названа блистательной.
Лауреаты второй премии, удостоенные серебряной медали, Лев Власенко (СССР) и Лю Ши-кунь (Китайская Народная Республика) – очень интересные и бесспорно талантливые пианисты. Л. Власенко – большой артист, он порадовал превосходным исполнением си минорной сонаты Листа, произведения, предельно сложного и по глубине замысла, и по технике. Великолепное чувство формы и стиля столь разных сочинений, как Соната Листа, Прелюдии и фуга ре минор Д.Шостаковича, вселяет твердую уверенность, что в будущем Л. Власенко обещает вырасти в крупного музыканта.
Дарование китайского пианиста Лю Ши-куня удивительно гармонично. Лучшим его достижением на конкурсе я считаю трактовку Сонаты соль мажор Моцарта, Третьей сонаты Д.Кабалевского и Шестой венгерской рапсодии Листа.
Лауреат третьей премии Наум Штаркман (СССР), получивший бронзовую медаль, – очень яркий пианист. Исполнительское искусство Н. Штаркмана я знаю давно, и мне хочется выразить сожаление, что он выступил на этом конкурсе ниже своих возможностей, особенно на третьем туре. Тем не менее хочется отметить, что из участников второго тура никому так хорошо не удалась «Большая соната» Чайковского, как Н.Штаркману. На редкость тонким и изящным было его исполнение пьесы М. Равеля «Игра воды».
Эдуард Миансаров (СССР, четвертая премия; показал себя с самой лучшей стороны в «Рапсодии на тему Паганини» Рахманинова и «Сарказмах» Прокофьева, а также во второй части Сонаты ля минор Моцарта.
В игре Милены Молловой (Народная Реопублика Болгария), самой молодой в группе пианистов, привлекает строгость и чистота. Многое в ее исполнении выглядит еще незрелым, но у нее есть своя индивидуальность, а это очень ценно. Получение М. Молловой пятой премии – большое достижение пианистки.
Лауреат шестой премии Надя Гедда-Нова (Франция) проявила себя умным и культурным музыкантом. Она входит в небольшое число соревновавшихся, кому удались классическая простота сонат Моцарта и лиризм «Вариаций» Чайковского. Однако можно упрекнуть пианистку в том, что, отлично справившись с труднейшей ре-бемоль-мажорной прелюдией и фугой Д. Шостаковича, показав при этом техническое мастерство, она уделила явно недостаточное внимание Второму концерту для фортепиано с оркестром Рахманинова, чем заметно испортила свое положение в третьем туре.
Тоиоаки Мацуура (Япония) и Даниэл Поллак (США), завоевавшие седьмую и восьмую премии, имеют немалый опыт в концертной деятельности. Надо отдать предпочтение Д.Поллаку, сложившемуся профессионалу. Он хорошо исполнил очень интересную сонату С.Барбера и первую часть Седьмой сонаты С.Прокофьева.
Не имея возможности сказать о многих других исполнителях, не получивших звания лауреата, но ярко проявивших себя в игре отдельных произведений, я назову имена француженок Эвелин Кроше (Соната Бетховена, соч. 110; «Скарбо» М. Равеля), американца Жерома Ловенталя («На вольном воздухе» Б. Бартока), советского пианиста Александра Ихарева (Прелюдия и фуга си-бемоль минор из II тома «Хорошо темперированного клавира» И.-С. Баха), чеха Йозефа Ситека (Соната Моцарта).
Считаю своим долгом высказаться об исполнении участниками третьего тура Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Чайковского. Меня поразило и крайне огорчило то, что ни один из пианистов, исключая, может быть, Э.Миансарова и В.Клиберна, пытавшихся по-своему «прочесть» Концерт, до конца не понял замысла гениального творения Чайковского, не передал той богатейшей гаммы чувств и красок, которыми так полно это сочинение. Казалось, что все стараются перещеголять друг друга в лихости и бравурности. Это тем более непростительно для советских пианистов, ибо они должны знать о традициях К. Игумнова – незабываемого, проникновенного интерпретатора фортепианного творчества Чайковского, могли слушать его в великолепном исполнении таких выдающихся пианистов, как Л.Оборин и Э.Гилельс.
Заканчивая беседу, С. Рихтер просил передать через газету всем участникам конкурса пианистов, независимо от результатов, достигнутых ими в этом соревновании, творческих успехов в их благородном служении искусству, а лауреатам напомнить, что высокое звание налагает серьезную ответственность, ибо, как говорится, теперь с них больше спросится.
«Пионер», июль, №7, 1964
Дорогой товарищ Рихтер!
От имени ста пятидесяти членов клуба «Интересные встречи» обращаемся к Вам с большой просьбой: мы очень просим дать свое согласие стать почетным членом нашего клуба «Интересные встречи». Приглашаем Вас заочно выступить на заседании нашего клуба. Будьте добры, расскажите нам о себе. Вы так много путешествовали по странам мира, и нам хотелось бы хоть немножко узнать о Ваших гастролях.
Мы знаем, что Вы очень заняты, но, пожалуйста, не откажите Вашим поклонникам. Мы будем очень Вам благодарны.
Крепко Вас целуем и обнимаем.
Совет актива.
Наш адрес: г.Чертков
Дорогие друзья пионеры!
Только недавно я вернулся из большой концертной и поэтому не мог вам сразу ответить. Теперь же спешу на ваше заочное заседание…
О всех странах сразу, конечно, не расскажешь, но вкратце расскажу о последней поездке.
Вылетел я из Москвы и через короткое время оказался в столице Австрии Вене. Вена – город музыки, веселый город, где бывали Шуберт, Моцарт, Бетховен и почти все большие музыканты. И всех этих людей мы узнаем по прекрасным памятникам, украшающим вместе с чудными фонтанами город Вену. Однако в тот раз я ничего этого не видел, так плохо чувствовал себя после полета. Вечером того же дня я сел в поезд и уехал в Италию. Первый город, в котором я выступал, была Виченца – город, построенный великим архитектором Палладио. Зал был освещен настоящими факелами; во время исполнения их пламя колебалось и фантастически отражалось на стенах. В программе были три сонаты Бетховена.
Следующий город – это Неаполь с видом на Везувий, на залив. Город, где всё кипит, очень шумно и весело. Здесь у меня было два концерта.
Флоренция – город, который считается по праву самым красивым в Италии.
Рим – о нём вы сами, наверное, много знаете.
В Риме я жил в отеле, который находится против знаменитой «испанской лестницы». На этой лестнице целый день и вечер продают цветы и сидят мальчишки, ожидая случайной работы (безработные). Сверху лестницы возвышается красивая церковь и египетский обелиск, вывезенный Наполеоном из Египта и подаренный Риму. Внизу фонтан в виде большой раковины (мальчишки моют в нем ноги).
Публика в Италии очень радушная и принимала мои концерты сердечно и горячо.
Следующий город был Модена, где особенно сильно влияние Итальянской коммунистической партии.
Парма славится своими «Пармскими фиалками» (прекрасные духи) и знаменитым сыром пармезан (с пармезаном итальянцы едят макароны).
Верона – город Ромео и Джульетты шекспира. Через город протекает река Адиге, бурля водоворотами. Часто бывают наводнения.
Падуя – там я выступал в зале университета – концерт был организован студентами. Зал университета называется «Залом гигантов», потому что на его стенах изображены герои Древней Греции.
Последние дни я жил в Венеции, в городе, где вместо улиц каналы, а вместо автомашин – лодки (гондолы). На главной площади тысячи голубей, настолько привыкших к людям, что садятся на руки, на голову.
После Италии я поехал в столицу Швейцарии Берн, где сразу же сойдя с поезда, играл на вечере, устроенном советским посольством. На следующий день я играл в другом швейцарском городе – Базеле.
Оттуда поехал в столицу Франции Париж. Против моего окна я видел Эйфелеву башню, которая ночью, наподобие маяка, освещала небо крутящимися прожекторами. Играл я и в городе Туре. Это старинный город на реке Луаре, окруженный многочисленными средневековыми замками. Из Тура я опять вернулся в Париж, а потом поехал через Австрию (город Зальцбург) в город, лежащий у Дуная, - Братиславу (столицу Словакии). Тут немя ожидали мои старые чехословацкие друзья Карел и Яник, и это была радостная встреча. Однако она длилась недолго. На следующий день после концерта я уехал в Лейпциг – немецкий город, в котором жил великий композитор Бах. Этот город с давних времен славится также книгопечатанием, там очень много книжных магазинов.
Веймар – город великих поэтов Германии Гете и Шиллера. Перед городским театром, в котором я играл, стоит памятник. Оба поэта смотрят вдаль, держа друг друга за руку.
И вот через Польшу я возвратился в СССР, но не в Москву, а в Калининград, город – свидетель страшных битв Великой отечественной войны. Играл я там в Доме культуры рыбаков, а на следующий день на машине уехал в Ригу (где и раньше мне случалось бывать). После двух концертов, сыгранных в Риге, я возвратился в Москву, где выступил в Большом зале консерватории.
Но Москву я вам описывать не буду, потому что каждый наш пионер хорошо знает ее, если даже пока еще не побывал в ней.
Вот еще что мне хотелось бы вам сказать: когда будете читать мое письмо, чтобы вам не было очень скучно, возьмите географическую карту и следите по ней. Это будет как бы путешествие вместе со мной.
Желаю вам всем больших успехов в жизни, в учебе и в дружбе.
Шлю привет и целую.
Ваш
Святослав Рихтер,
член клуба «Интересных встреч»
Благодарю за избрание и письмо.
"Pioneer", July, No. 7, 1964
Dear Comrade Richter!
On behalf of one hundred and fifty members of the club "Interesting meetings" we appeal to you with a big request: we kindly ask you to give your consent to become an honorary member of our club "Interesting meetings". We invite you to speak in absentia at a meeting of our club. Please, tell us about yourself. You have traveled so much around the world, and we would like to know at least a little about your tours.
We know you are very busy, but please don't say no to your fans. We will be very grateful to you.
We kiss and hug you tightly.
Asset Council.
Our address: Chertkov
Dear fellow pioneers!
Only recently I returned from a large concert and therefore could not answer you right away. Now I'm hurrying to your absentee meeting ...
Of course, you can’t tell about all the countries at once, but I’ll briefly talk about the last trip.
I flew from Moscow and after a short time ended up in Vienna, the capital of Austria. Vienna is a city of music, a cheerful city where Schubert, Mozart, Beethoven and almost all great musicians have been. And we recognize all these people by the beautiful monuments that adorn the city of Vienna along with wonderful fountains. However, at that time I did not see any of this, I felt so bad after the flight. In the evening of the same day I got on the train and left for Italy. The first city I spoke in was Vicenza, a city built by the great architect Palladio. The hall was lit by real torches; during the performance, their flames fluctuated and fantastically reflected on the walls. The program included three Beethoven sonatas.
The next city is Naples overlooking Vesuvius, the bay. The city, where everything is in full swing, is very noisy and fun. Here I had two concerts.
Florence is one of the most beautiful cities in Italy.
Rome - you yourself probably know a lot about it.
In Rome, I lived in a hotel that is located opposite the famous "Spanish Steps". On this staircase, flowers are sold all day and evening, and boys sit, waiting for odd jobs (unemployed). At the top of the stairs rises a beautiful church and an Egyptian obelisk, taken by Napoleon from Egypt and donated to Rome. Below is a fountain in the form of a large shell (the boys wash their feet in it).
The audience in Italy is very hospitable and received my concerts cordially and warmly.
The next city was Modena, where the influence of the Italian Communist Party is especially strong.
Parma is famous for its "Parma violets" (beautiful perfumes) and the famous Parmesan cheese (Italians eat pasta with Parmesan).
Verona is the city of Shakespeare's Romeo and Juliet. The Adige River flows through the city, seething with whirlpools. There are often floods.
Padua - there I performed in the hall of the university - the concert was organized by students. The hall of the university is called the "Hall of the Giants" because the heroes of ancient Greece are depicted on its walls.
The last days I lived in Venice, in a city where instead of streets there are canals, and instead of cars there are boats (gondolas). There are thousands of pigeons in the main square, so accustomed to people that they sit on their hands, on their heads.
After Italy, I went to Bern, the capital of Switzerland, where I immediately got off the train and played at a party hosted by the Soviet embassy. The next day I played in another Swiss city - Basel.
From there he went to the capital of France, Paris. Against my window, I saw the Eiffel Tower, which at night, like a lighthouse, illuminated the sky with rotating searchlights. I also played in the city of Tours. This is an ancient city on the Loire River, surrounded by numerous medieval castles. From Tours, I again returned to Paris, and then went through Austria (the city of Salzburg) to the city lying on the Danube - Bratislava (the capital of Slovakia). Here my old Czechoslovak friends Karel and Janik were waiting for me, and it was a joyful meeting. However, it did not last long. The day after the concert, I left for Leipzig, the German city where the great composer Bach lived. This city has also been famous for printing since ancient times, there are a lot of bookstores there.
Weimar is the city of the great German poets Goethe and Schiller. There is a monument in front of the city theater where I played. Both poets look into the distance, holding each other's hand.
And so, through Poland, I returned to the USSR, but not to Moscow, but to Kaliningrad, the city - a witness to the terrible battles of the Great Patriotic War. I played there in the Fishermen's House of Culture, and the next day I went by car to Riga (where I had happened to be before). After two concerts played in Riga, I returned to Moscow, where I performed in the Great Hall of the Conservatory.
But I will not describe Moscow to you, because each of our pioneers knows it well, even if he has not yet visited it.
Here is another thing I would like to tell you: when you read my letter, so that you are not very bored, take a geographical map and follow it. It will be like traveling with me.
I wish you all great success in life, studies and friendship.
I send greetings and kisses.
Your
Svyatoslav Richter,
member of the club "Interesting meetings"
Thank you for the choice and the letter.

С.Хентова цитирует Рихтера.
Из книги «Вэн Клайберн»,
М.: "Музыка"., 1989, 104 с.
Святослав Рихтер в статье «Радостные впечатления», опубликованной на страницах газеты «Советская культура», пошел в своих выводах гораздо дальше, категорически утверждая, что очень спорным было исполнение не только Фантазии, но и Сонаты соль мажор и Первого концерта Чайковского. По мнению Рихтера, Клайберна следовало отнести «к той категории начинающих артистов, которые играют „самих себя“, а не замысел композитора, воплощенный в нотном тексте, пока годы упорной работы не приносят с собой зрелости и столь важного для художника качества, как чувство стиля». Иными словами, Рихтер считал, что исполнительские замыслы, созданные воображением Клайберна, иногда вступали в противоречие с объективным содержанием произведения. Индивидуальность артиста как бы подчиняла себе авторский замысел, и авторская концепция получала новый, неожиданный смысл.
В газете "Советская культура", 1958, 24 апреля.
Поздравление Г.Г.Нейгаузу.


Святослав Рихтер
Три ответа на вопросы о Сонате Бетховена оп.57 ("Аппассионата"). Беседа с Д.Благим.
Из книги “Пианисты рассказывают”. Выпуск первый. Второе издание. 1990.
Исполнитель должен стараться
чувствовать в самой музыке
пульс эпохи композитора и
передавать самое характерное в ней.
С. Рихтер
В начале 1969 года, только что вернувшись из зарубежных гастролей и чуть ли не на следующий день отправляясь в новую поездку, Святослав Теофилович Рихтер любезно откликнулся на мою просьбу: побеседовать о Сонате Бетховена ор. 57 («Аппассионата»). Беседа эта велась, разумеется, в менее последовательной форме в сравнении с данной публикацией. Однако сущность ее оказалось легко свести к трем ответам выдающегося пианиста на заданные вопросы, ответам, смысл, а по возможности, и текст которых я стремился воспроизвести с максимальной точностью.
Д. Благой
Какое место занимает, по вашему мнению, Соната ор. 57 в творчестве Бетховена, каково ваше отношение к этому произведению?
С. Рихтер
«Аппассионата», как мне кажется, занимает совершенно особое, единственное место в ряду других сочинений Бетховена. Можно говорить в целом о ранних сонатах композитора, отличающихся необычайной свежестью, молодостью, непосредственностью, хотя, разумеется, каждая из них также неповторимо индивидуальна. Добавлю, что некоторые из этих сонат, например Седьмая, Одиннадцатая, Третья и, пожалуй, «Патетическая», особенно мне дороги и близки (быть может, субъективно, даже ближе поздних сонат). Можно также говорить о ряде общих особенностей, присущих поздним сонатам Бетховена, которые, как и другие поздние его произведения, объективно я все же считаю самыми совершенными созданиями композитора (в частности, Соната op. 111 — это поистине уникум). Но «Аппассионата», повторяю, стоит совершенно особняком, отдельно, ее ни с одним сочинением не хочется и не нужно сравнивать. Как исполнитель же, я бы сказал, что это прямо-таки «чудовище», с которым всегда чувствуешь себя «между Сциллой и Харибдой»...
Д. Благой
Как воспринимаете вы образность «Аппассионаты», ощущаете ли элементы программности в ее музыке, в частности, в связи со словами самого Бетховена о «Буре» Шекспира?
С. Рихтер
Сейчас, после моего десятилетнего перерыва в исполнении Сонаты ор. 57 (когда-то я ее играл очень много, даже, может быть, слишком много, что, видимо, и вызвало мой отход от нее на столь длительное время) скажу лишь несколько слов по поводу образности этого произведения. Мне кажется, что все здесь происходит ночью. Вспоминаются слова Генриха Густавовича Нейгауза, сравнивавшего вторую часть «Аппассионаты» с горным озером. Это очень точное и тонкое сравнение: действительно, я ощущаю в ней как бы таинственное мерцание звезд, отражающихся в таком горном озере...
Само собой разумеется, что средняя часть резко контрастирует полным катастроф крайним частям произведения, где, кстати сказать, человек, мне кажется, выступает не непосредственным участником событий, а скорее как наблюдатель, что вообще у Бетховена — очень редкое явление. Космическое дыхание в финале, «голоса, перекликающиеся в пространстве»? Да, пожалуй, и это. Вообще же здесь действуют огромные силы, вся соната полна их титанической мощи.
Что же касается слов Бетховена: «Прочтите „Бурю" Шекспира»,— я считаю, что они очень важны, так как сказал их сам композитор. Однако в творческом процессе ассоциация эта — у меня, во всяком случае — никогда не участвовала, и я думаю, что важна она, скорее, для слушателей, воспринимающих «Аппассионату».
Д. Благой
Что вам кажется особенно существенным при передаче текста этой сонаты? Каково должно быть соотношение между творческой инициативой исполнителя и следованием авторским указаниям?
С. Рихтер
С величайшей строгостью и тщательностью необходимо относиться к тексту «Аппассионаты», как и вообще сочинений Бетховена. Совершенно нетерпимы здесь, на мой взгляд, какие-либо пианистические облегчения или добавления фактурных эффектов. Правда, это относится, по существу, ко всей музыкальной классике (можно назвать лишь несколько исключений,— например, трельное место в обеих руках из фортепианного концерта Дворжака). Что касается динамических оттенков, то если в произведениях Шопена, Рахманинова (пожалуй, в меньшей мере — Шумана, Скрябина) можно все же иногда варьировать их в зависимости от настроения (не говоря уже о сочинениях Баха, который почти совсем не писал оттенков), то бетховенским произведениям неавторские динамические указания совершенно противопоказаны.
Очень неприятна мне манера многих исполнителей менять в «Аппассионате» темп на протяжении одной и той же части произведения. Прежде всего это относится к ускорению движения при наступлении повторяющихся триолей в первой части. От подобных смен музыка многое теряет. Особенно скверно, когда начинают торопить чередующиеся в обеих руках аккорды в начале связующей партии, между тем как аккорды эти должны звучать очень раздельно. Часто также технически более легкие места пианисты склонны играть быстрее. При таких ускорениях у меня сразу теряется интерес к исполнению, и, как ни странно, я ощущаю в нем появление внутренней вялости, несмотря на более быстрый темп; возникает ощущение какой-то «размазни», пианистической распущенности. Вообще хотя можно сказать, что Бетховен — первый романтик, однако романтизм его, конечно, не должен выявляться при помощи таких внешних, чуждых духу его музыки средств, как темповые вольности.
Абсолютно не принимаю я сокращения повторного проведения разработки и репризы в финале «Аппассионаты». Я считаю, что если не соблюдать здесь повторения, то лучше вообще не играть этого произведения. Только при передаче всего текста полностью соната производит впечатление по-настоящему «большого сочинения», иначе это, право же, какая-то «игра в прятки» — кусочек музыки, за которым без достаточной внутренней оправданности сразу наступает кода.
Вообще если я слышу, что исполнитель не повторяет того, что автор хочет повторить (это относится и к сонатам Шопена, и к симфониям Малера, и ко всей классической музыке), то у меня возникают опасения, что он не очень любит музыку, которую играет. Кроме того, повторения ведь очень облегчают публичное исполнение: во второй раз всегда легче «войти в образ», найти и выявить главное в музыке. Да и почему вообще нужно бояться повторений? Опасаются наскучить слушателям? Нет, уж если говорить о боязни и опасениях, то бояться нужно только автора, которого играешь, а не публики.
Из книги “Пианисты рассказывают”. Выпуск первый. Второе издание. Составление, общая редакция и вступительная статья М.Г. Соколова. М.: “Музыка”, 1990

Автор: Журнал «Spiegel»
Почему музыка обязательно должна быть вычурной?
Советский пианист Святослав Рихтер дал свой первый концерт в Западной Германии.
Шпигель: Господин Рихтер, вы впервые выступаете в ФРГ. Почему ранее вы обходили своим вниманием нашу страну?
Рихтер: Были какие-то проблемы с организацией.
Может быть, это также проблема отсутствия культурных связей между СССР и Западной Германией?
Рихтер: Но скрипач Давид Ойстрах и виолончелист Мстислав Ростропович все же здесь играли.
Вы ездили в Германию в гости, поскольку ваша мать жила недалеко от Штутгарта, неужели вы не думали о возможности дать тут один-два-концерта?
Рихтер: Видите ли, я не думаю о таких вещах – где мне играть. Я думаю, что мне играть. Я не занимаюсь планированием поездок и ненавижу быть связанным планами. Я знаю, что со мной сложно. Мне больше всего понравилось бы, если бы я просто мог сказать: сегодня в двенадцать часов я играю, к примеру, в Бонне, просто потому что у меня есть такое желание. Все это планирование, когда уже за год вперед определено, где ты должен будешь выступать, мне совершенно неинтересно. Прибавьте сюда, что я не летаю самолетом, с концерта на концерт я езжу на машине. И это означает, что я даю меньше концертов, чем другие артисты. В этом году 44, а раньше бывало и по 120 в год.
А в том, что публика в Западной Германии должна была так долго вас дожидаться, тоже виновато ваше нежелание вкупе с организационными проблемами?
Рихтер: Да, верно. Однако я очень рад, теперь, когда я уже тут сыграл, что публика оказалась чудесной…
И кроме того, у вас личные связи с Германией.
Рихтер: Да, но это все неважно.
Что ж, может быть. Но надо вспомнить о вашей любви к самому немецкому из всех немецких композиторов. Ведь вы большой поклонник Вагнера?
Рихтер: Да, Вагнер для меня больше, чем музыка. Его произведения – это чудо природы. Мне просто не хватает слов, чтобы это выразить. Это необъяснимо, почему в некоторых пассажах пробирает до дрожи, если брать чисто музыку. Вроде бы ничего особенного не происходит, но у Вагнера это имеет огромный смысл.
В этом и есть магия его музыки.
Рихтер: Да. Лейтмотив меча из «Нибелунгов» довольно-таки прост, но в контексте он действует как гипноз. Я полагаю, что Вагнер многое подслушал у природы. Это не сделанная музыка, его вдохновение подлинное.
Вы как-то раз выступали в качестве дирижера. Вам бы хотелось продирижировать оперой Вагнера?
Рихтер: Не только продирижировать, но и поставить, и больше всего «Тристана и Изольду». Но до этого, вероятно, никогда не дойдет, поскольку нужно делать все на совесть, а для этого у меня нет времени. Я должен много заниматься на рояле, чтобы оставаться в форме. И потом у меня есть еще другая идея, которую я обязательно осуществлю. Я хочу записать на пластинки весь свой репертуар.
Скажите, пожалуйста, сколько произведений насчитывает ваш репертуар?
Рихтер: Ну, подсчета я не веду.
Тогда сколько концертов для фортепиано и оркестра вы играете?
Рихтер: Где-то сорок.
И сколько сольных программ?
Рихтер: Тоже примерно сорок.
То есть, вы собираетесь записать на пластинки все искусство Рихтера, но в то же время, как вы сами когда-то сказали, вы бываете очень недовольны своими записями.
Рихтер: Это верно. Мне очень тяжело даются записи, у меня никогда нет для этого нужного настроения. Вообще существует одна-единственная запись, которая не вызывает у меня возражений: это Концерты Листа с Лондонским симфоническим оркестром и дирижером Кириллом Кондрашиным.
Не означает ли все это, что вы просто связаны договором с одной известной звукозаписывающей компанией?
Рихтер: Я не связан никаким договором..
Неужели? Но вы сотрудничаете с советской фирмой «Мелодия», которая выступала от вашего имени при заключении контракта с немецким «Евродиском».
Рихтер: Ах, как это интересно для артиста!
И как много дисков должно включать ваше собрание?
Рихтер: Что-то около пятидесяти. В Зальцбурге, где я часто делаю записи, у меня есть возможность задержаться и работать дольше. Это значит, что я могу сказать: «А вот сейчас я хочу делать пластинку». Я не так уж жестко ограничен в сроках. Трудности возникают в основном при записи концертов, поскольку я – по разным причинам – не всегда могу работать вместе с теми дирижерами, с которыми мне очень хотелось бы.
С кем из дирижеров вы больше всего любите играть?
Рихтер: У меня нет особых предпочтений. В последнее время мы много вместе играем с молодым итальянским дирижером Рикардо Мути. Раньше в течение долгого времени мы часто играли с Лореном Маазелем. Ну и конечно с советским дирижером Евгением Мравинским. Это наш лучший дирижер.
А с Караяном, говорят, у вас были разногласия по поводу Тройного концерта Бетховена?
Рихтер: Я очень уважаю этого дирижера. Многие считают, что он сейчас сильнейший. Но в Тройном концерте было еще два других солиста – Ойстрах и Ростропович. И все это вместе не очень хорошо. Что явилось самой, наверное, первейшей причиной разногласий, так это то, что мы должны были срочно сделать запись. Мы не могли ничего повторить, чтобы понять, как сыграть лучше. У нас не было возможности для самокритики, что совершенно неестественно.
Правда ли, что скоро состоится ваш дирижерский дебют в Германии? Вы получили приглашение дирижировать оркестром Берлинской филармонии.
Рихтер: Это пока еще неточно. Было бы слишком преждевременно это сейчас обсуждать.
Но вы бы с охотно это сделали?
Рихтер: Если бы у меня было время, то да.
А чем бы вы хотели дирижировать?
Рихтер: Есть так много произведений, которые я люблю.
Например?
Рихтер: «Симфония Доместика» Рихарда Штрауса.
Штраус – это еще одна ваша привязанность? Может быть, наравне с Вагнером?
Рихтер: Нет, многое из написанного им меня совсем не трогает. Но «Симфонию Доместику» я люблю. У меня есть три любимых композитора: Вагнер, Шопен, Дебюсси. Все трое, в некотором роде, выходят за всякие рамки, они совершенно особенные, оригинальные, вне традиций. Но если я называю троих своих любимых композиторов, это не значит, что другими я пренебрегаю.
А вы не забыли упомянуть имя одного современного композитора, которому вы, как известно, симпатизируете? Бенджамин Бриттен. Чем он вас привлекает?
Рихтер: Мне просто нравится его музыка.
Вы даже записали его концерт для фортепиано.
Рихтер: Да, мне это доставило большое удовольствие. Концерт совершенно очаровательный. Я считаю, что он и в опере сделал много интересного. Это по-настоящему большой композитор. Я им искренне восхищаюсь.
С какой уверенностью вы об этом говорите.
Рихтер: Бриттена принято считать сухим и консервативным. Это абсолютная чушь, наоборот, в его музыке есть очарование. Я знаю, что мои слова идут вразрез с устоявшимся мнением о нем. Но возьмите хотя бы его Концерт для фортепиано, который я играю. Это его очень давняя вещь. Но мне она нравится, потому что там есть шарм, она доставляет радость и поднимает настроение. Почему музыка непременно должна быть вычурной, почему? Разная музыка красива по-своему.
Господин Рихтер, вас считают виртуозом в традиционном смысле…
Рихтер: Это не слишком лестное мнение, какое-то поверхностное…
А вас интересует экспериментальная музыка? Могли бы вы себе представить, что однажды сыграете произведение Штокхаузена?
Рихтер: Да, я могу себе это представить. К сожалению, я этого пока не сделал.
Почему?
Рихтер: Все та же проблема – недостаток времени. И иногда бывает, что хочется вообще отвлечься от музыки. Да, я серьезно. Есть одна вещь, которую я люблю даже больше музыки – жизнь.
Кто из молодых советских композиторов вам нравится?
Рихтер: Прокофьев, который, как вы знаете, мне кое-что посвятил. А он вечно молод.
И больше никто для вас специально ничего не написал?
Рихтер: Нет. Среди прочих я выделяю еще одного композитора – Шостаковича. Вообще же композиторов конечно очень много. Даже слишком.
И вам не встречались другие таланты?
Рихтер: Я не общаюсь с композиторами, потому что это опасно: они нагрузят вас своими нотами, которые надо будет рассматривать. У меня уже и так их набралось целый чемодан. И однажды я сказал себе: нет, хватит. Я не стану тратить все свое время на чтение партитур. Я знаю, что по-человечески это отвратительно, эгоистично, но это все в целях самосохранения.
С исполнителями, однако, у вас складываются более добрые отношения…
Рихтер: В сущности нет…
Но вы, например, пригласили для репетиций молодого скрипача по фамилии Каган.
Рихтер: Да, он очень хорош.
Другой советский музыкант, виолончелист Ростропович, до недавнего времени не мог выезжать за пределы Советского Союза. Он написал открытое письмо в защиту писателя Солженицына…
Рихтер: Я не слишком хорошо знаком с обстоятельствами этого дела, чтобы его обсуждать.
Господин Рихтер, вы всегда играете, где хотите?
Рихтер: В Китае – нет.
И вы там уже выступали.
Рихтер: Да, в 1957 году.
Обязаны ли вы давать определенное число концертов в Советском Союзе?
Рихтер: В принципе нет. Чем больше я играю, тем лучше.
Но вскоре вы надолго покидаете Советский Союз и отправляетесь в длительное мировое турне.
Рихтер: Пока это только планы, на самом деле, секретные. Откуда вы узнали?
А вы не могли бы рассказать подробнее? Как долго будет продолжаться поездка?
Рихтер: Это один большой проект, такая поездка, которую артист нечасто может совершить. Это не просто концертное турне в общепринятом смысле, но такое путешествие, которое связано с посещением важнейших культурных центров на разных континентах и их изучением.
Господин Рихтер, большое спасибо за беседу.
«Шпигель», № 52 от 20.12.1971 стр. 114
Перевод Ксении Ересько
"Правда", 1962, 19 июля

Г.Цыпин. «В восприятии наших современников» Фрагмент: Рихтер о Равеле.
«Советская музыка», 1965, №3.
С. Рихтер: «Больше всего люблю у Равеля Форлану и «Виселицу». Произведения эти поистине гениальны. Чем меня пленяет Равель? Яркой декоративностью и сочностью красок, богатейшей экзотикой, благоуханным и пряным звуковым колоритом – тем, что можно было бы назвать «гогеновским» мировоззрением в музыкальном искусстве. Очарован всем этим с юношеских лет...
И вот что еще важно: Равель всегда глубоко человечен. Во всем он гуманист и жизнелюб, даже в трагедийных пьесах. Это светлое, доброе, ласковое в искусстве Равеля делает его одним из самых дорогих мне композиторов.
Его произведения слишком динамичны, темпераментны, чтобы быть типично импрессионистскими, и слишком многоцветны, красочны, колоритны, чтобы совсем не быть ими. В конце концов не так существенно, как их именовать. Главное – это очень хорошая музыка...»

«Советская музыка», 1970, №11
Беседы с мастерами
Святослав Рихтер: «Произведение нужно ставить в подлиннике»
Предлагаем вниманию читателей беседу нашего корреспондента со Святославом Теофиловичем Рихтером и Ниной Львовной Дорлиак в связи с постановкой оперы Бизе «Кармен», которую осуществил на сцене Московского академического Музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко профессор Вальтер Фельзенштейн – художественный руководитель берлинского театра «Коmische Оper» (ГДР).
Вопросы были записаныi на бумаге и пронумерованы. Первым стоял вопрос об общих впечатлениях от постановки, вторым – о музыкальной стороне спектакля. Далее следовал самый важный: «Вы увидели оригинал оперы. Вам известна обработка Гиро. Аутентичны ли они?» Два первых вопроса должны были подвести беседу к этому третьему. Но задать их наш корреспондент не успел. Святослав Теофилович повел разговор сам. Он заговорил сразу о самом важном.
– Вариант с речитативами – искажение. Об этом надо сказать прямо. Говорю об этом с полным убеждением. Я считаю, что чем ближе к источнику, тем лучше. Источник, первозданное, то, что несет руку автора, – вот что самое главное. Обидно сознавать, что в театральной практике далеко не всегда исходят из авторской воли. И особенно обидно, когда это происходит у нас. Как мы часто относимся к постановкам русских опер – «Руслана», «Бориса Годунова»?! «Князь Игорь» идет у нас без одного действия. Можно подумать, что те, кто так ставит оперы, не любят нашу музыку. Венгры любят своего Бартока, чехи – Сметану. Они смотрят на творчество этих композиторов как на часть национального сознания и берегут каждую ноту.
А любят ли в наших театрах Мусоргского, самого великого русского гения в музыке? «Борис Годунов» идет обычно в редакции Римского-Корсакова. Но сам же Корсаков считал ее временной обработкой. Он стремился лишь открыть опере дорогу на сцену. Он не собирался «придавать опере окончательный вид». А идет ведь именно этот вариант. Люди привыкли к нему. И по существу лучшая русская опера остается не известной публике в своем подлинном авторском звучании. В этом смысле судьба «Бориса Годунова» трагична для искусства.
А если бы поставить «Руслана» и «Игоря» без сокращений? Эта мысль покажется многим театральным деятелям безумной. Напрасно! Я хорошо знаю русскую оперную литературу. Я .вообще много занимался оперой и люблю ее. Мое глубокое убеждение: произведение надо ставить в подлиннике. На переработку его имеет право только лишь сам автор. Перерабатывая сочинение, он продолжает свою творческую работу, добивается совершенства. Я понимаю Вагнера, переделавшего своего «Тангейзера». Но что сказать о публике, которая любит в искусстве прежде всего свои привычки? Эти привычки оказываются часто сильней, чем творческая воля автора, биение его живой мысли! Не обращая внимания на всемирно знаменитого Вагнера, театры, в угоду публике, ставят привычный первый вариант «Тангейзера».
Корр.: Принято считать, что Эрнест Гиро «стилистически точно» перенес в речитативы те сцены «Кармен», в которых использована драматическая форма театра: диалоги без музыки и диалоги «на музыке».
С.Рихтер: Я слышал «Кармен» бессчетное число раз. Я привык к речитативам, сочиненным после смерти Бизе. Они написаны ловко. Они меня не интересуют, хотя и не коробят меня. Но я их... дарю.
Мне очень нравится весь спектакль, поставленный Вальтером Фельзенштейном, за исключением одного: я не могу принять занавесы и боковые порталы. Занавесы, по-моему, мешают слушать музыку Бизе. Они страдают недостатком хорошего вкуса. Это единственное, что меня не устроило, что меня отвлекало. Главное впечатление от спектакля – это Кармен, Микаэла, Хозе, которые предстали перед нами живыми людьми. Это большое достижение.
Я знаю Эмму Саркисян по другим спектаклям, например по «Донье Жуаните», и я никак не мог представить себе, что она может быть такой Кармен. Саркисян в роли Кармен – это рождение актрисы.
То, что Вальтер Фельзенштейн смог открыть в ней такое дарование, то, что с помощью Фельзенштейна Саркисян смогла стать такой Кармен, – это прекрасно!
А Хозе? Вячеслава Осипова я раньше никогда не слышал. Его Хозе глубоко тронул меня. Этот Хозе запоминается своим драматизмом, непосредственностью, юностью. Молодой артист несомненно очень талантлив.
А Микаэла? Галина Писаренко мне хорошо знакома. Я видел многие ее интересные работы. В образе Микаэлы она для меня тоже была открытием. Вся партия прочтена заново. Микаэлу в постановке Фельзенштейна отличает народная подлинность. Наконец мы услышали Микаэлу, обладающую сильным характером. Мне понравился Моралес – Ян Кратов. Изящно сделал он эту роль.
Хор... Хор – это очень здорово. Но это не было для меня сюрпризом. Я знал, как Вальтер Фельзенштейн умеет работать с ансамблем, я ждал артистического решения массовых сцен и не обманулся в ожиданиях. Сценическое поведение хора прекрасно, но отсутствие чувства музыкального ансамбля меня огорчило.
Спектакль «Кармен», поставленный Фельзенштейном, – «большой», даже массивный. Все это очень весомо. Вальтер Фельзенштейн вообще склонен к добротным, основательным, массивным вещам. А почему, собственно, спектакль должен быть непременно «легким», легковесным? Я – за такую массивность. Она несет в себе много реально осязаемого. Такой спектакль наполнен, насыщен. В нем могут быть элементы, которые нравятся больше и которые нравятся меньше. Иногда что-то очень хорошо задуманное оказывается не доведенным до конца. Вспомните момент из первого акта, когда за решеткой появляются работницы фабрики. Это великолепно. Здесь большая заявка на жизненную, очень жизненную сцену. И становится жаль, когда табачницы, сойдя вниз, теряют ту жизненную правдивость, которую они принесли на сцену в первый момент своего появления. В мизансцене заложены большие возможности для того, чтобы сохранить и развить еще дальше драгоценную атмосферу жизненной достоверности.
У меня есть замечания по финалу второго акта. Вызывает какое-то чувство неприятия тот момент, когда по сигналу Кармен появляются сразу все контрабандисты. Зачем нужно такое массированное нападение на Цунигу? Для того чтобы разоружить его, достаточно было бы нескольких человек. Это ведь бывалый народ.
А остальные могли бы постепенно выползать из всех щелей до самого вступления хора.
Я должен особо сказать о финале третьего акта. Он мне особенно понравился. Мы привыкли видеть, как Кармен бросается вслед за Эскамильо, а Хозе бросается на Кармен, чуть ли не швыряя ее на землю, так что кажется, будто он ее тут же убьет. Всей этой традиционной мелодрамы, слава богу, не было в спектакле Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Нигде не была нарушена мера. Все было полно драматического напряжения. Мизансцены в спектакле просто великолепны!
Корр.: Мы часто говорим об условности оперного жанра, и в этих словах как бы слышится утверждение, будто опера лишь условно является театром. Профессор Вальтер Фельзенштейн рассматривает оперу именно как музыкальный театр. Для него опера условна лишь в той мере, в какой условен реалистический театр. Как на ваш взгляд соотносятся в опере законы театра и законы музыки?
С.Рихтер: Я очень большой поклонник оперы. Я ее больше всего люблю и в музыке, и в театре. Отношение к опере у меня очень личное. Трудно ответить на Ваш вопрос категорически однозначно, сказав, что опера – это прежде всего музыка или что опера – это только театр. На основе оперной литературы можно судить, что сочетание «музыки» и «театра» в каждом произведении – свое.
«Кармен» по жанру – «опера комик». Это в первую очередь действие, течение жизни. Это музыкальный театр. Сочетание «музыки» и «театра» в этой опере стоит под знаком «театра». Постановка Вальтера Фельзенштейна воочию раскрыла нам эту сущность оперы Жоржа Бизе. Содержание, форма, жанр находятся здесь в полном соответствии. А в «Дон Карлосе» Верди сочетание «музыки» и «театра» уже иное, чем в «Кармен».
Я должен сказать, что чем больше разнообразия в этом сочетании «театра» и «музыки», тем лучше. Нельзя все сводить к одному приему, к одному канону. По сути дела, каждая опера дает свое сочетание этих определяющих элементов.
В опере, в оперном спектакле очень важно «чувство открытия», которое должен испытать слушатель. В спектакле Вальтера Фельзенштейна открывается многое. «Кармен» производит впечатление. «Кармен» увлекает.
Знаете, мы – Нина Львовна и я – видели и слышали «Кармен» много раз и в разных постановках. Она мне – вот так! (Святослав Теофилович делает жест, которым обычно сопровождаются слова «по горло надоело» или «сыт по горло». – Прим, корр.) И когда-то мы сказали себе, что больше не будем ходить на «Кармен». Но тут, у станиславцев, я был захвачен с самого первого момента. Спектакль все время давал мне новое и новое. Он вел за собой. Я смотрел его с большим волнением и интересом. «Кармен» надо ставить именно так, как поставил ее Вальтер Фельзенштейн. Но другую оперу...
Я не знаю, как надо ставить другую оперу. Скажем, «Тангейзер» Вагнера надо ставить по-другому. «Кармен» – опера динамичная, развитие в ней драматическое. Она предъявляет большие требования к сцене, к разрешению сцены. А «Тангейзер» по сути статичен, так же как и «Князь Игорь». Здесь сценическое решение надо искать в условности исторической фрески. В старых итальянских операх творческий акцент может быть сделан на чисто вокально-музыкальном исполнении и на чувстве эпохи и стиля. Где-то могут выйти на первый план оформление, свет. А в «Кармен» – все в сцене, все в действии.
Может быть, театральное решение оперы придется строить на выявлении исполнительских данных одного актера, подчинив ему все. Мы видели в Италии такой спектакль – «Медею» Керубини с Марией Каллас. Весь спектакль держался на ней одной. Но это был цельный спектакль.
Корр.: Принципиальный вопрос современного музыкального театра – самый характер пения в опере...
С.Рихтер: Нет единого рецепта на все случаи. Но есть закон: пение должно быть таким, как это предопределено автором сочинения. Слово и музыка в сочетании используются не только музыкальными, но и драматическими театрами. Сейчас стало очень модным прибегать к музыке в драматическом театре. Мне кажется, что это своего рода спекуляция. Надо всегда исходить из характера данного произведения. Надо всегда оставаться в каноне данного произведения. Нельзя установить канон, который был бы действителен для всех произведений. Обращаясь к произведению, нельзя исходить из канонов. Для данного сочинения каноном может быть лишь само сочинение.
Корр.: Есть ли мера, предел для фантазии художника, искусство которого состоит в сценической реализации сочинения, созданного другим художником? Часто можно слышать о том, что при исполнении произведения, при постановке его на сцене важнее всего показать, как ты сам видишь, слышишь это произведение, то есть важнее всего «самовыражение».
С.Рихтер: Я видел много спектаклей, которые были интересны именно работой режиссера. Но когда я обращаюсь к произведению, меня интересует автор. Я желаю увидеть автора. Показать автора – в этом и состоит, по-моему, прочтение любого произведения. Надо раскрыть людям, которые, может быть, не смогут сделать этого сами, то, что написал автор. От интерпретатора я жду, что он откроет мне автора.
Корр.: Слово и музыка в опере должны быть слиты воедино в каждой фразе, в каждом слоге, в каждой поющейся ноте. Между тем оперные певцы часто пренебрегают словом, оголяя гласные, «проглатывая» или неверно произнося согласные...
С.Рихтер: Певцы, оголяющие слог, – неталантливые певцы. Я знаю много таких. Мне их жаль. Поет он слова о любимой или о чем-нибудь ином, красивом, а в голосе его слышишь только одно: «Ах, какой у меня красивый голос! Послушайте, какой у меня красивый голос!»
Н. Д о р л и а к: Слово и звук неразделимы. Только те, кто не владеет голосом, чувствуют помеху в слове. Оголение гласных не свойственно русскому пению. Окраска звука идет от «оправы» гласного, от смысла слова и от отношения к нему. Шаляпин никогда не пренебрегал согласными.
С.Рихтер: Но в спектакле «Кармен» мне такая манера пения не бросилась в глаза. Ни у Саркисян, ни у Писаренко, ни у Осипова... Кстати, я забыл сказать, что у меня есть замечание по финалу оперы: Саркисян чуть-чуть неправильно расставила смысловые акценты в сцене с Хозе. Она злится больше, чем надо, на Хозе. А ведь Кармен в это время не здесь. Объяснение с Хозе для нее помеха на пути к желанной цели.
Корр.: Как Вы восприняли новый перевод С. Рожновского? Вы, наверное, наизусть помните перевод Горчаковой?
С.Рихтер: На протяжении всего спектакля текст ни разу не показался мне чужим. В нескольких местах мне вдруг вспомнилось, что раньше там пелись другие слова, вспоминались эти слова. Но в общем во время спектакля у меня было ощущение, что я слышу слова именно этой оперы.
Н. Д о р л и а к: Мне нравятся прозаические диалоги, нравится певческий текст. Мне очень понравился текст Хабанеры. Он хорошо ложится на музыку и внутренне соответствует ей.
С.Рихтер: Да, это приятно. Текст соответствует музыке. Не просто по ритмическому делению слов, а по ритму самой фразы.
Прекрасно, что хор, обычно купируемый в начале четвертого акта, занял свое место в спектакле. Традиционная балетная «вставка» (из «Арлезианки») совершенно неуместна здесь. А как сочен этот хор! Сколько в нем жизни! Необходимо, чтобы все участники спектакля очень тщательно добивались музыкальной дисциплины. В этом залог сохранения спектакля. Малейшая Небрежность в таком спектакле становится особенно заметной. Она разрушает цельное художественное впечатление и потому совершенно недопустима.
Н. Д о р л и а к: На нас очень сильное впечатление произвел четвертый акт. Он напомнил обстановку корриды, которую мы видели на юге Франции во время празднования юбилея Пикассо в городе Валорис. Там мы видели такую арену, как в спектакле Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Атмосферу корриды восхитительно передают рисунки Пикассо, которыми иллюстрировано издание новеллы Проспера Мериме «Кармен», выпущенное к юбилею художника.
С.Рихтер: Спектакль «Кармен» действительно ассоциируется с впечатлениями от Испании, с миром Кармен у Пикассо. Правда, Испания суровей и беднее, чем мы видим в спектакле, но ведь в спектакле «Кармен» перед нами Испания француза Бизе...

Радиопередача "Рихтер рассказывает":
https://yadi.sk/d/JKfCqSUjdhRbH
Здесь речь идет о любимых произведениях Рахманинова, в частности, о 2-м Концерте, об исполнении сонаты Листа и 5-й Скрябина.

Нина Дорлиак, Святослав Рихтер. Фонд Улановой: мастера об Улановой.
«Дорогая Галина Сергеевна! Когда Вы перестали танцевать, мы перестали ходить в балет. Случайно Вы об этом узнали, помните? И произнесли только одно: „напрасно!“ Сегодня мы снова ходим на балетные спектакли и радуемся успехам улановских учеников. Это редкий дар - суметь щедро, не оставляя секретов, передать накопленное… Но для нас Вы по-прежнему как живой идеал, который и сегодня, непостижимый, манит!»
"Танец Улановой соперничал со всесильным словом. Он выражал такие глубинные движения человеческой души, что несказуемы словом. Улановский танец давал нам, зрителям, новый дар чувствования и миропонимания. Уланова вывела балет за его узкие пределы. Примирила с ним самых непримиримых противников. Благодаря ей тысячи людей признали балетное искусство жизненной необходимостью".

Нина Дорлиак
Святослав Рихтер
Журнал "Театр", 1980, №1
Галина Уланова
...Первый приезд Галины Улановой в Москву, «Лебединое озеро»... Помнится, мы группой вышли после спектакля, шли и молчали. А когда кто-то попытался, было, нарушить затянувшееся молчание, его тут же остановили. После того, что мы испытали, говорить было, невозможно и не нужно. Потом мы много видели Уланову – в разных балетах, и всякий раз опять наступало это гипнотическое состояние. И всякий раз Уланова воспринималась – как впервые. Только очень большим художникам дано такое.
Уланова заново открыла балет. В ее творчестве предстают воплощенными высшие истины балетной формы, техники, виртуозности. В ее танце следишь не за тем, как блестящи виртуозные пассажи, а поражаешься бесконечной протяженности пластической кантилены. Здесь есть свои sforzando и piano, но это беспрерывно льющаяся мелодия, где ни намека на технические сложности. Техника абсолютно скрыта, растворена в танце. Уланова не танцевала – она естественно существовала. И танец воспринимался не как форма, а как человеческое, бытие.
Танец Улановой соперничал со всесильным словом. Он выражал такие глубинные движения души, что несказуемы словом. Он давал и нам, зрителям, новый дар чувствования и миропонимания. В условнейший жанр балета великая балерина принесла невиданную жизненную подлинность. Но это не была театральная игра: она искусство представила как высшее проявление жизни, где соединены красота и мудрость. Она создала не просто незабываемые образы, а сотворила свой художественный мир – царство человеческой духовности.
Что позволило недоступное сделать доступным балету? Талант? Мастерство? Труд? И то, и другое, и третье. И еще нечто – неразгаданное, но чем сразу бывает отмечен истинный художник. Уланова, казалось, могла бы и не учиться танцу. Она от рождения интуитивно уже владела им. Танец – ее естество. Он жил и живет в ней всегда. Он во всем, что бы она ни делала: в том, как ходит, сидит, встает, в каждом шаге, жесте, повороте. Галина Сергеевна необычайно проста, скромна. Но эта простота – высшей изысканности. Уланову легко можно вообразить в балетном танце в самой обыденной обстановке. И это не покажется шокирующим. Она собой преображает все вокруг. Она наделена особой способностью излучать искусство.
Нам случалось бывать на концертах, спектаклях, выставках вместе с Галиной Сергеевной. Поразительна ее всепоглощенность, когда она слушает музыку, смотрит картины, театральную постановку... Она сама словно перестает существовать. Так отрешается от всего окружающего. Так всецело, всем существом, переносится в мир музыки, живописи, театра. В Улановой неразделимы художник и человек, в ее творчестве – искусство и жизнь.
Уланова вывела балет за его узкие пределы. Примирила с ним самых непримиримых противников. Благодаря ей тысячи людей признали балетное искусство жизненной необходимостью.
Мы задолго до того, как лично познакомились с Галиной Сергеевной, уже хорошо знали ее, потому что знали ее Жизель, Одетту-Одилию, Джульетту, Марию, Тао Хоа, Золушку... Разные, непохожие образы, но в каждом из них – неповторимая личность Улановой. Она заставляла о себе думать и думать, вызывала благоговение и признательность. И однажды было написано письмо Галине Сергеевне. Не часто писались подобные письма, считанные разы за всю жизнь – когда-то несравненному певцу, непревзойденному исполнителю вагнеровского репертуара Ершову; изумительной Мансуровой – после спектакля «Перед заходом солнца»...
Когда Уланова перестала танцевать, мы перестали ходить в балет. Случайно об этом было сказано Галине Сергеевне. Она произнесла только одно: «Напрасно!» Сегодня мы снова ходим на балетные спектакли и радуемся успехам улановских учеников. Некогда Генрих Густавович Нейгауз говорил: «Чтобы ученик сумел взять, учитель должен суметь отдать». Это редкий дар – суметь щедро, не оставляя секретов, передать накопленное. Улановой дан и этот дар. Творческая жизнь ее нашла естественное и прекрасное продолжение в учениках. Но в балете по-прежнему остается ее собственное искусство балерины. И не просто как легенда о прошедшем, а как живой идеал, который – и сегодня непостижимый – манит современный балетный театр и влияет на его совершенствование.
У Галины Сергеевны – юбилей. Годы отсчитывают люди. Искусство принадлежит вечности. Как олицетворение балета вошла Уланова в нашу жизнь.
Нина Дорлиак,
Святослав Рихтер

"Огонек", 1988, №48
«Музыкальная жизнь», 1992, №13-14.
СВЯТОСЛАВ РИХТЕР: ПОЧЕМУ Я ИГРАЮ ПО НОТАМ
Как известно, Святослав Рихтер никогда не баловал журналистов словоохотливостью. Он и сейчас почти не дает интервью, и тем более не выступает в печати. Однако в бюллетене «Лепорелло», издаваемом музыкальным фестивалем германской земли Шлезвиг-Гольдштайн, он рассказал о некоторых секретах своей артистической «кухни». Думается, его ответы на два заданных самому себе вопроса интересны не только немецким любителям музыки, а потому приводим их в переводе на русский язык. Итак…
«Почему я играю по нотам? –
Я, к сожалению, слишком поздно начал брать с собой в концерты ноты, хотя мне уже задолго до того стало ясно, что я, собственно, должен поступать именно так. Это парадоксально, но, представляете себе, что в прошлые времена, когда репертуар был куда более узким и менее сложным, регулярно играли по нотам, – обычай, которого стойко придерживались и который в конце концов прервал Лист. Сегодня наши головы, вместо того, чтобы быть занятыми музыкой, забиты всякой ненужной чепухой, и мы рискуем, тем самым, стать жертвами опасной усталости. Какое же это ребячество и какая бессмыслица, источник ненужной работы – этот род соревнований и траты памяти, когда речь идет совсем о другом – о том, чтобы творить хорошую музыку, которая призвана тронуть слушателя! Несчастная рутина, которая служит фальшивой славе и которую осуждал мой любимый профессор Генрих Нейгауз.
Неутомимый призыв к порядку посредством нот несколько укрощал бы так называемую «свободу» и так называемую «индивидуальность» интерпретатора, посредством которых он тиранит публику и отравляет музыку, и которые лишь противопоставляются нехватке смирения и должного пиетета перед музыкой.
Несомненно, это не так уж просто – быть абсолютно свободным, имея перед собой ноты. Это стоит немалого времени, немалого труда и требует привычки. Поэтому полезно было бы посвятить себя этому делу как можно раньше. Мой совет молодым пианистам – принять этот здоровый и естественный метод, который позволит им не надоедать нам всю жизнь одними и теми же рограммами, но самим обеспечить себе богатую и разнообразную жизнь в музыке.
Почему я играю с притушенным светом? – Ни мне самому, ни Богу не ведомо, каковы таинственные причины, побуждающие людей лучше воспринимать картину, которую кто-либо им представляет, – все равно лестно или неодобрительно. Нет, я просто играю для публики при небольшом освещении. Мы живем в эпоху вуаеров, и нет ничего более губительного для музыки. Движения пальцев и мимика, которые отражают не музыку, но работу над музыкой, ни в коей мере не помогают правильно воспринять ее, равно как и взгляды в зал и на слушателей. Сосредоточенность публики отвлекает столь многое, что мешает ее фантазии и становится между музыкой и публикой. Поэтому она должна была бы доходить до слушателей в абсолютной чистоте и доходить непосредственно.
С лучшими пожеланиями и в надежде, что темнота способствует восприятию и пониманию музыки, и не погрузит публику в дремоту...

В 2015-м году в Будапеште были изданы письма Святослава Рихтера и Нины Дорлиак к их венгерскому другу, директору Будапештского оперного театра Павлу Фейеру (Fejér Pálhoz). Письма сохранились у Sztankó Magda, набирала тексты на венгерском и русском Nagy Margit. Они любезно разрешили выложить тексты писем на моем сайте. Сохранены стиль, пунктуация и орфография Рихтера.
Это собрание воспринимается как своеобразный дневник великого Музыканта. Как всегда, строгая, критическая оценка своих концертов. Последние письма трагичны. Невозможно спокойно читать, пусть о далеких, но как бы прямо сейчас развивающихся тяжелых событиях в жизни этого удивительного человека, следить за его угасанием.
Спасибо всем, кто принимал участие в издании этой очень нужной книги, дополняющей известные свидетельства.
-----------------------------------------------------------------
Вот последнее, 170-е письмо из этого собрания:
10/10/97 [Москва]
Письмо Нины Дорлиак.
Дорогой Павел Юльевич
Вы сказали мне по телефону: «Теперь мир будет другой».
Да, Павел Юльевич. Всё теперь другое и мне жить невыносимо без него, ходить на кладбище невыносимо. Я не могу понять, что он лежит, а я стою, и все кругом стоят.
Смысла для меня нет в этой жизни; но я все делаю, чтоб сохранить о нем в памяти людей всё как было. Только у меня совсем мало сил.
Обнимаю Вас
Нина Дорлиак
---------------------------------------------------------------------
Любящим Святослава Рихтера, «Музыканта века» и просто человека, надо пытаться сделать всё возможное, чтобы память о нем сохранялась в род и род.
Скачать в формате pdf:
https://yadi.sk/i/-xmiPrA63NyWzu


Разговор в артистической Минской филармонии после концерта с баховской программой 18/04/91. Кроме Святослава Теофиловича присутствовали Наталия Журавлева и Владимир Шелихин, сотрудник филармонии.
Светик Рихтер - "Лошадки", "Плетение венков" (детские произведения, написанные в 1924-м году).
Запись сделана Валентиной Николаевной Чемберджи во время вечера в доме Рихтера 11-го ноября 1987-го года.
Письмо А.Б.Гольденвейзера Рихтеру
С.Т.Рихтеру
Москва, 6 мая 1961 г.
Уважаемый Святослав Теофильевич, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз поздравить Вас с высокой наградой. Мне хочется поговорить с Вами по одному музыкальному, небольшому, но, на мой взгляд, существенному вопросу. Не так давно в передаче К.Х.Аджемова я слышал Ваше прекрасное исполнение первой части сонаты Бетховена соч. 57. В первом, начальном , отрывке этой части дано все тематическое и ритмическое содержание этого музыкального произведения. Кончается этот отрывок появлением в басу знаменитой «темы судьбы».
Замечательно, что в конце части этот же ритмический мотив превращается в торжественно утверждающее фортиссимо.
Все начало части, кончая этим мотивом, определяет ритмический строй всего сочинения, после чего этот мотив повторяется Бетховеном ритардандо и завершается как бы взрывом. Обычно все исполнители этой сонаты уже при первом появлении этого мотива делают ритардандо, тогда как он должен как бы утвердить ритмический строй всей сонаты. Вы в своем исполнении также при первом появлении мотива делаете ритенуто. Мне бы хотелось, чтобы Вы сказали мне, согласны ли Вы с моим соображением, а если нет, то на каком основании.
С приветом
А.Гольденвейзер.
Ответ Рихтера А.Б.Гольденвейзеру
Москва, 15 июня 1961 г.
Глубокоуважаемый Александр Борисович!
Сердечно тронут Вашим письмом.
Что касается Вашего мнения относительно исполнения так называемой «темы судьбы» в первой части сонаты ор.57, я принципиально совершенно согласен с Вами и считаю правильным не делать ritardando при первом ее появлении.
Практически же не всегда следуешь принятому заранее намерению, особенно при исполнении такого глубоко романтического сочинения, каким я считаю «Appassionat’y».
Прошу извинить меня за столь запоздавший ответ.
Всегда Ваш С.Рихтер.


Очки Рихтера, подаренные мне Виктором Зелениным