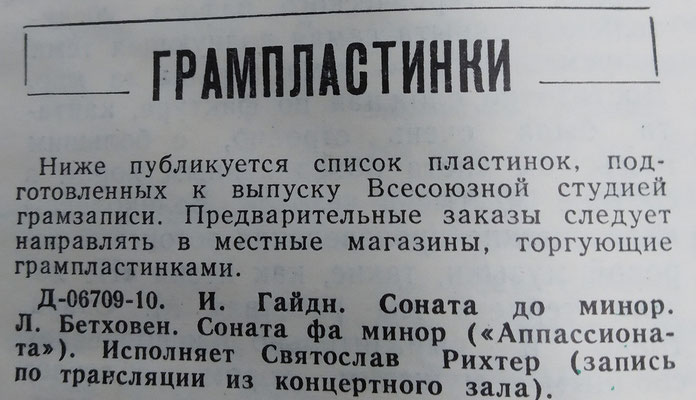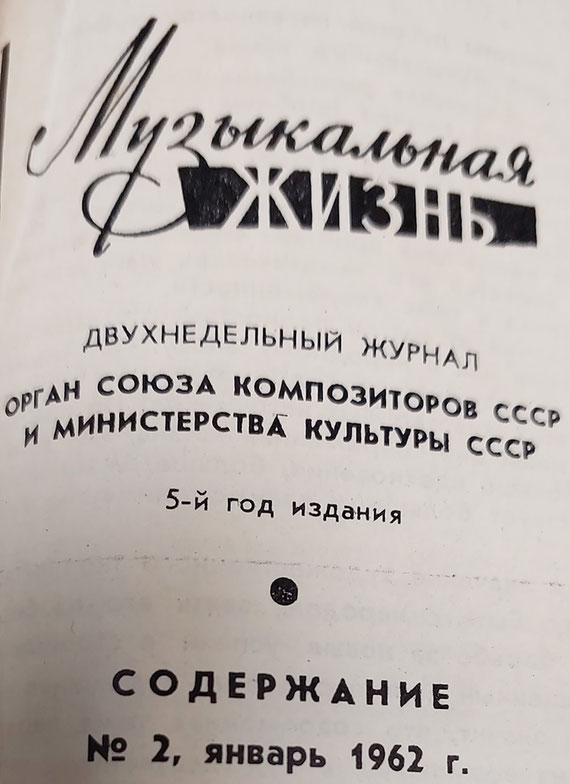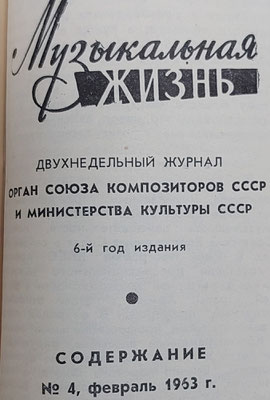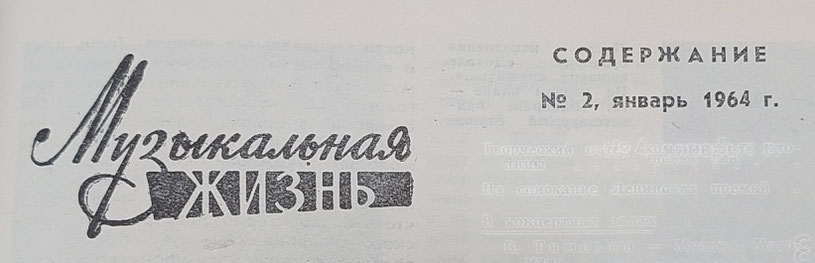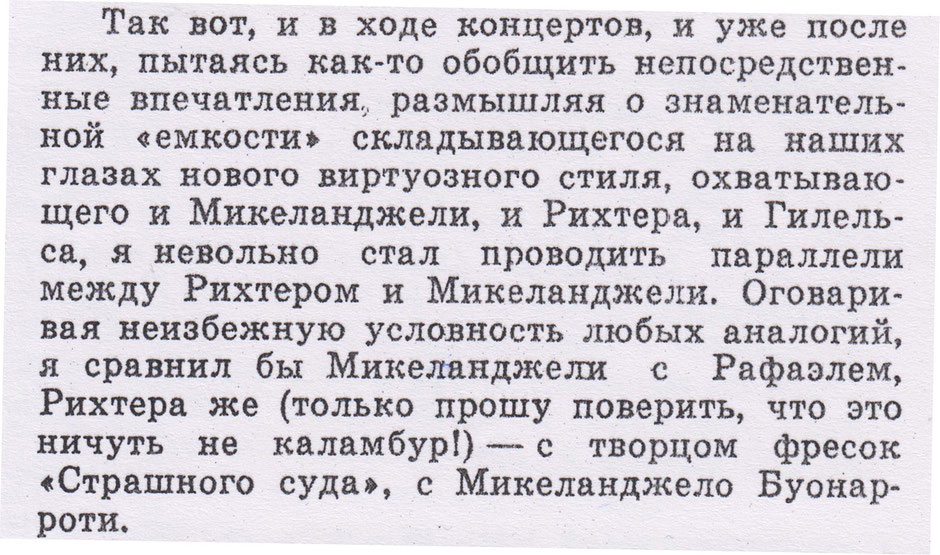1960-е
Г.Г.НЕЙГАУЗ. Святослав Рихтер (творческий портрет). «Культура и жизнь», 1960, № 9, газета «Советская культура», 1960, 11 июня.
Г.Г.НЕЙГАУЗ. Интервью после концерта Рихтера в БЗК 9.06.60. Опубликовано в газете "Известия" 11.06.60.
Новая пластинка (Аппассионата и Соната Гайдна до минор, 09/06/60). "Музыкальная жизнь", 1960, №19, октябрь.
Г.Г.Нейгауз. "ВЫДАЮЩИЙСЯ ПИАНИСТ СОВРЕМЕННОСТИ". "Огонек", 1960, №48.
Д.Рабинович. СВЯТОСЛАВ РИХТЕР. «Советская музыка», 1960, №12
Из дневников Я.Мильштейна (40-60-е годы).
Я.Мильштейн. «Святослав Рихтер». «Музыкальная жизнь», 1960, №13.
Н.Эльяш. «Театральная жизнь», 1961, №2.
Л.М.Живов. Обсуждаем кандидатуры, выдвинутые на соискание Ленинской премии. Святослав Рихтер. «Музыкальная жизнь», 1961, № 2.
Святослав Рихтер и Мстислав Ростропович.. «Музыкальная жизнь», 1962, № 2.
Д.А.Рабинович. CВЯТОСЛАВ ТЕОФИЛОВИЧ РИХТЕР. (1962 г.)
Афиша концерта в клубе "Красная звезда". «Советская музыка», 1962, №3.
Запись 1-го Концерта Чайковского. "Музыкальная жизнь", 1963, №4.
Г.Павлова. Мои впечатления. "Музыкальная жизнь", 1963, №10.
Я.Мильштейн. "Служение музыке". «Советская музыка», 1963, №12
А.Руссовский. «История портретов Рихтера». «Советская музыка», 1964, №1
Последние сонаты Бетховена. «Музыкальная жизнь», 1964, №2
Г.Г.Нейгауз. "К чему я стремился как музыкант-педагог." (К столетию Московской консерватории.)
Г.Г. Нейгауз. "ЕЩЕ О РИХТЕРЕ". “Советская музыка”, 1964, №3.
Г.Г.Нейгауз. «Культура и жизнь», 1964, №6 (о предстоящем европейском турне Рихтера).
«Пионер», 1964, №7:
Святослав Рихтер отвечает пионерам. А.Золотов. «Пианист века».
Д.Рабинович. "Артуро-Бенедетти Микеланджели" (фрагмент - сравнение с Рихтером). "Музыкальная жизнь", №15, август, 1964.
С.Хентова. «МУЗЫКАНТ-МЫСЛИТЕЛЬ». «Нева», 1965, №4
Юбилейный сезон "баршаевцев". "Музыкальная жизнь", 1966, №12 (фотография из статьи).
«СВЯТОСЛАВ: ИДУ НА ВЫ». «Рука Москвы», 5 диалогов с господином ИКС, АПН, 1967.
Л.Е.Гаккель. "О Рихтере. 50-60-е годы", - «Советская музыка», 1967, № 8
Я.Мильштейн. «СВЯТОСЛАВ РИХТЕР».«Культура и жизнь», 1969, №2
Фото В.Григоровича. Ойстрах и Рихтер – соната Шостаковича. Ленинград, 24/09/69. «Музыкальная жизнь», №23, декабрь, 1969.

Г.Г. Нейгауз
«Советская культура», 11.06.1960,
«Культура и жизнь», 1960, № 9
Святослав Рихтер (творческий портрет)
“В ЕГО ЧЕРЕПЕ ВСЯ ПРЕКРАСНАЯ МУЗЫКА ПОКОИТСЯ, КАК МЛАДЕНЕЦ НА РУКАХ РАФАЭЛЕВСКОЙ МАДОННЫ…”
Страна наша богата прекрасными пианистами: В. Софроницкий, Э. Гилельс, Л. Оборин, Я. Зак, М. Гринберг, М. Юдина…
Из молодых — Д. Башкиров, Е. Малинин — всех не перечесть, их много и все они разные. Вопрос, обычно так волнующий публику, которая потому именно валом валит на всякие конкурсы, — «кто же все-таки первый пианист?», — для меня праздный вопрос.
Кто «лучше» (если вспомнить историю искусств): Бах, Моцарт, Бетховен или Брамс; Пушкин, Данте, Гёте или Шекспир; Рафаэль, Веласкес, Греко или Тициан?..
Признаюсь откровенно, что я этого не знаю. В реальном пространственном мире мы прежде всего точно знаем, что Эльбрус — вершина Кавказа, а Монблан — вершина Альп: это можно измерить. Когда лошадь №1 на скачках опережает лошадь №2 на четверть длины головы — это явление реальное, его можно измерить (хотя я никогда не мог понять того бурного восторга и ликования, которые эта «четверть головы» вызывает у зрителей).
Но как измерить, точно измерить качественную разницу в явлениях духовного мира, определить «высоту» таких явлений, как мы определяем высоту Эльбруса или Гауризанкара? Ведь искусство воспринимается не только интеллектуально («измерительно»), но и эмоционально, скажем, в каком-то смысле — «неразумно». В конце эмоционального подхода к искусству стоит знаменитая теза: о вкусах не спорят (я лично считаю, что как раз тут-то и надо спорить, так как вкус бывает плохой или хороший).
Именно потому, что до сих пор спорить о вкусах почти бесполезно, потому-то так трудно, почти невозможно, говоря о любой эпохе мировой культуры, определить — кто же первый пианист, первый скрипач, первый певец…
Я, например, думаю, что если бы мне довелось слышать исполнение Баха, Бетховена, Моцарта, Шопена, пение Глинки, я бы их считал «выше», то есть попросту я бы их больше любил, чем исполнение Листа или Паганини, гениальных, ослепительных, потрясающих родоначальников нашей современной исполнительской культуры.
Тут-то я, наконец, высказал свой «вкус» (который, конечно, совершенно необязателен для инакомыслящих и инакочувствующих). И здесь же я подошел к теме моей статьи, Святославу Рихтеру. Но ещё одно маленькое отступление.
Во все времена искусство создавалось коллективами талантливых и гениальных людей, и как бы мы тщательно ни рассматривали и ни воспринимали их порознь, индивидуально, мы не можем ни на минуту отрешиться от целостного восприятия и понимания эпохи, времени, социального облика и социальной обусловленности данного явления как части целого.
Фигурально выражаясь, мы не можем представить себе Эльбрус или Девдорак, не думая о Кавказском хребте как о целом. Потому правомочны такие суммарные, при ближайшем рассмотрении не очень точные определения, как «классицизм», «романтизм», «импрессионизм», «модернизм» и т.д.
В нашей современной действительности с её невероятно разросшейся исполнительской культурой особенно напрашивается мысль о значении, решающем значении коллектива.
Если в XIX веке еще можно было говорить, что Лист — единственный пианист, то сейчас обозначить этим прилагательным какого-нибудь живущего пианиста чрезвычайно трудно, если не невозможно. «Вкус» вступает в свои права. И вкусов стало настолько же больше и настолько больше их разнообразий, насколько больше стало пианистов по сравнению с прошлым.
Один из этих «вкусов» — это мой вкус. И вот мой вкус (под который я могу подвести весьма солидную идеологическую базу) говорит мне: я знаю и люблю, ценю и уважаю по крайней мере несколько десятков прекрасных современных пианистов, но мое чувство и мое рассуждение говорят мне: все-таки Святослав Рихтер первый среди равных.
Счастливое соединение мощного (сверхмощного!) духа с глубиной, душевной чистотой (целомудрием!) и величайшим совершенством исполнения — действительно явление уникального порядка. Любовь, которой он пользуется у самой большой и самой малой, «избранной» аудитории, восторг, который неизменно вызывают его концерты, — общеизвестны.
Чем же это объяснить, если на минуту допустить, что подобное явление нуждается в объяснении? Повторю более развернуто то, что сказал выше. Прежде всего, его огромной творческой мощью, редким гармоническим сочетанием тех качеств, которые в просторечии называются интеллектом, «душой», «сердцем» плюс (и это не последнее) его гигантским виртуозным дарованием. В его черепе, напоминающем куполы Браманте и Микеланджело, вся музыка, вся прекрасная музыка покоится, как младенец на руках Рафаэлевской мадонны.
Играет ли он Баха или Шостаковича, Бетховена или Скрябина, Шуберта или Дебюсси — каждый раз слушатель слышит как бы живого, воскресшего композитора, каждый раз он целиком погружается в огромный своеобразный мир автора. И все это овеяно «рихтеровским духом», пронизано его неповторимой способностью проникать в самые глубокие тайны музыки!
Так играть может только исполнитель, конгениальный исполняемым авторам, родной их брат, их друг и товарищ.
Не могу не пересказать здесь мысли из своей статьи «Композитор-исполнитель», посвященной Сергею Прокофьеву (прошу прощения за нескромность):
«…бывают замечательные исполнители, которые не про¬являют себя творчески, хотя потенциально могли бы быть выдающимися композиторами, если бы не отдавали всех своих сил исполнительству; они, образно говоря, похожи на женщину, которая могла бы быть прекрасной матерью и иметь чудных детей, но она отказывается от этого, так как всю свою любовь, все внимание, все душевные силы отдает чужим детям, приёмышам».
Признаюсь, что, когда я это писал, я думал прежде всего о Рихтере. Вот где тайна его всеохватывающего дарования. Его собственный музыкальный мир, нереализованный, «нерожденный» мир — родствен миру тех великих музыкантов, которых он играет. Говорю это на основании того, что знаю его детские и отроческие сочинения, слышал его великолепные импровизации.
Рихтер не только музыкант, но и талантливейший художник, он много рисовал и писал, никогда не учившись профессионально. Некоторые из наших лучших старых художников говорили мне, что если бы он посвятил свою жизнь живописи, то достиг бы в ней того же, той же высоты, какую он достиг в области пианизма.
Упоминаю об этом, чтобы пролить некоторый свет на «тайны» его дарования. Он в такой же степени человек вИдения, как и слышания, а это довольно редкое сочетание. Вся музыка для него наполнена образами, подчас весьма оригинальными.
Например: о третьей части Второго концерта Прокофьева он как-то сказал: «Дракон пожирает детей»(!). О первой части Шестой сонаты Прокофьева: «Индустриализация». И т.д., и т.д.
На его концерте в зале Дома ученых, слушая после до-минорной сонаты Гайдна новеллетты Шумана, я невольно подумал: столько говорят о
«стиле, как будто стиль что-то другое, чем данное произведение, данный автор. Стиль — это имярек. Когда он заиграл Шумана после Гайдна, всё стало другим, — рояль был другой, звук другой, ритм другой, характер экспрессии другой, и так понятно почему: то был Гайдн, а то был Шуман, и Рихтер с предельной ясностью сумел воплотить в своем исполнении не только облик каждого автора, но и его эпохи. Вот он — тот «универсализм»,
о котором я писал в моей книжке (о фортепианном искусстве), и который мне представляется высшим достижением исполнителя.
В краткой статье нельзя даже приблизительно охарактеризовать такое громадное явление нашего современного искусства, как исполнительский… (я хотел написать подвиг, но заколебался — ну, так и быть, напишу) — исполнительский подвиг Рихтера.
За время его концертной деятельности он сыграл множество сонат Моцарта; весь «Wohltemperierte Klavier» И. С. Баха, его сюиты, фантазии, токкаты; множество сонат Бетховена, его вариации, рондо, багатели и другие произведения; Вторую сонату Брамса и «мелочи» (интермеццо и каприччио); сонаты, Симфонические этюды, Юмореску и огромное количество других сочинений Шумана; множество сонат Шуберта, его Фантазию «Wanderer». В репертуаре Рихтера широко представлен Шопен и Прокофьев.
Рихтер давал целые вечера, посвященные Скрябину, Рахманинову, Чайковскому, Листу. Из концертов он играл Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса (незабываемым был Второй концерт си-бемоль мажор), Шумана, Грига, Франка, Рахманинова, Чайковского, Глазунова, Римского-Корсакова, Листа, Сен-Санса, Бартока. А прелюдии и фуги Д. Шостаковича, сонаты и Фантазия К. Шимановского, незабываемые «Картинки с выставки» Мусоргского? Невозможно всё перечислить!..
Я и многие другие имели счастье слышать, как он в домашней обстановке разыгрывал оперы Вагнера, Чайковского, Р. Штрауса, Дебюсси, Шрекера, симфонии Малера, Мясковского и т.д. Это «музицирование» производило на меня чуть ли не бОльшее впечатление, чем его концерты.
Какой дирижер пропал, не высказался! Моё страстное желание, моя надежда, что он еще когда-нибудь обрадует нас симфониями, увертюрами, операми — кому же дирижировать, если не ему!
Он обладает в высокой степени тем, что обычно называют чувством формы, владением временем и его ритмической структурой. Соразмеренность гармонии, идущая из самых глубин классического мироощущения, гармония (да простится мне) чуть ли не эллинского происхождения — вот в чём главная его сила, главное качество, заставляющее так мечтать о том, чтобы он дирижировал.
Его редчайшее умение охватить целое и одновременно воспроизвести малейшую деталь произведения внушает сравнение с «орлиным глазом» (зрением, взором) — с огромной высоты видны безграничные просторы и одновременно видна малейшая мелочь. Перед вами величественный горный массив, но виден и жаворонок, поднявшийся к небу…
Быть может, кто-нибудь скажет, прочтя мою заметку: ишь как учитель расхваливает своего ученика! (Рихтер учился у меня в молодые годы). Я должен рассеять недоразумение.
Я не горжусь Рихтером как своим учеником, я мог бы в крайнем случае гордиться тем, что, выбирая учителя, он остановился на мне, грешном. Для таких талантов, как Рихтер, не так уж существенно, у кого они учились.
Одно могу сказать с уверенностью: я до конца моих дней буду не только восхищаться Святославом Рихтером, но и учиться у него.
Гернрих Нейгауз, «Советская культура», 11.06.1960
Г.Г.НЕЙГАУЗ.
Интервью после концерта Рихтера в БЗК 9.06.60.
Опубликовано в газете "Известия" 11.06.60.
«Очень трудно говорить, – начал Нейгауз, – от концерта Рихтера ведь очень устаёшь. Но это замечательная усталость. Пианист заставляет чувствовать, переживать, думать. Слушатель творит вместе с ним. Соната Гайдна была просто великолепна. Во всех трёх частях Рихтер точно следовал авторскому тексту. Это необходимо. Это именно Гайдн. Время Гайдна, когда медленные досуги заполнялись долго звучащей музыкой. Композитора Рихтер чувствует удивительно точно. Можно долго говорить о том, что такое стиль того или иного мастера, но лучше просто послушать Рихтера. И всё станет ясным. Многим пианистам не хватает этого точного ощущения стиля. Ведь играют же подчас Брамса с листовским пафосом, Листа – как Баха, а Баха – как душещипательный романс. А вот когда Рихтер после до-минорной Сонаты Гайдна начал Третью Бетховена, то изменилось всё, изменился рояль, изменились звук, ритм, изменился характер экспрессии. И это было понятно. То был Гайдн, а теперь Бетховен. Юный Бетховен, ниспровергатель Бетховен. В первой части «Аппассионаты» была истинная величавость. Смерч последней части просто потрясающ. И великолепна была средняя часть – Andante – горное озеро с мерцающей зыбью, контраст к первой и третьей частям, к музыке человеческой души.
Рихтеру во всем присуща удивительная соразмерность, гармония. Редчайшее умение охватить целое и одновременно воспроизвести малейшую деталь. Вся музыка для него – это образы.
Я знаю много прекрасных пианистов, но все-таки Святослав Рихтер первый среди равных. Это сверкающий дух и глубина, целомудрие и величайшее совершенство. По-моему, большое достоинство искусства Рихтера в его классичности, объективности, в отсутствии каких бы то ни было деталей эстетического, эмоционального или технического порядка, которые могли бы угрожать целостности музыкального образа.
В этом отношении Рихтер – человек нашего времени и нашей страны. В смысле «классичности», то есть органичности, логики и душевной силы его исполнительское искусство, несомненно, перекликается с творчеством Дмитрия Шостаковича. Другое большое достоинство Рихтера – в широте его кругозора и вкуса, в его способности с одинаковой убедительностью исполнять буквально всю музыкальную литературу – от истоков до наших дней. У Рихтера это, однако, не всеядность безразличия, а широта «исторического чувства».
Я всегда буду не только восхищаться Рихтером, но и учиться у него.

Г.Г.Нейгауз. «Огонек», 1960, №48.
ВЫДАЮЩИЙСЯ ПИАНИСТ СОВРЕМЕННОСТИ
Я всегда чувствую себя в затруднении, когда приходится говорить о Рихтере. И все же попытаюсь поделиться с читателями своими впечатлениями и наблюдениями.
Начну с первой встречи.
Случилось это двадцать три года назад. Студенты попросили прослушать молодого человека из Одессы, который хотел бы поступить в консерваторию в мой класс.
– Он уже окончил музыкальную школу? – спросил я.
– Нет, он нигде не учился.
Признаюсь, ответ этот несколько озадачивал. Человек, не получивший музыкального образования, собирался в консерваторию!.. Интересно было посмотреть на смельчака.
И вот он пришел. Высокий, худощавый юноша, светловолосый, синеглазый, с живым, удивительно привлекательным лицом. Он сел за рояль, положил на клавиши большие, мягкие, нервные руки и заиграл.
Играл он очень сдержанно, я бы сказал, даже подчеркнуто просто и строго. Его исполнение сразу захватило меня каким-то удивительным проникновением в музыку. Я шепнул своей ученице: «По-моему, он гениальный музыкант». После Двадцать восьмой сонаты Бетховена юноша сыграл несколько своих сочинений, читал с листа. И всем присутствующим хотелось, чтобы он играл еще и еще...
С этого дня Святослав Рихтер стал моим учеником.
Должен сказать откровенно, что учить Рихтера в общепринятом смысле слова мне было нечему. По отношению к нему я всегда соблюдал лозицию советчика – политику «дружественного нейтралитета». Однажды я попросил Рихтера подготовить к уроку Сонату Листа – произведение исключительно сложное. Через некоторое время он сыграл Сонату, и сыграл превосходно. Оставалось только дать ему несколько небольших советов до поспорить о трактовке одного эпизода, который показался мне недостаточно драматичным. На все это ушло минут 30-40. А обычно со своими учениками я работаю над этой Сонатой по 3-4 часа на нескольких уроках.
Хочу думать, что мои занятия помогли Рихтеру, но больше всего он помог сам себе, помогла его страстная любовь к музыке.
Я не перестаю повторять, что талант – это страсть. И Святослав Рихтер – блестящее подтверждение этих слов. В работе над музыкальными произведениями Рихтер действует методом, который я назвал бы «авральным». Он не откладывает трудные куски, а играет их, пока полностью не овладеет. Помнится, Рихтер впервые играл мне Девятую сонату Прокофьева, которую композитор посвятил ему. Одно место там мне казалось особенно сложным. .
– Как превосходно оно у вас получается! – заметил я Рихтеру.
– А вы знаете,– обрадовался он,– я просидел над ним несколько часов.
Познакомился я с Рихтером, когда ему было двадцать три года. О себе он говорить не любил. И я ничего не знал о его детстве, но однажды получил письмо матери Славы. Она подробно рассказывала о своем сыне, что он с малых лет проявлял незаурядные способности к творчеству. Самым любимым его занятием была игра в «театр». Во дворе со своими сверстниками он устраивал целые представления с. музыкой, танцами. Сам был и автором, и композитором, и режиссером, и актером.
Родители определили одаренного ребенка в детскую музыкальную школу, но, очевидно, что-то пришлось ему там не по вкусу, и после нескольких уроков он перестал ее посещать. Но музыку не бросил. Все свободное время проводил за роялем. Руководил его музыкальными занятиями отец – замечательный, чуткий музыкант. Рихтер рано научился читать с листа и играл подряд множество вещей, начиная с фортепианных пьес и кончая операми и симфониями. Бывало, мать просила его отдохнуть.
– Ведь даже в театре бывают антракты, – говорила она ему.
Маленький Слава уступал ей и соглашался прервать свои занятия, но не более чем на 10 минут.
Примерно в восемнадцать – девятнадцать лет Святослав начал работать концертмейстером в Одесском оперном театре.
В 1945 году Рихтер завоевал первую премию на Всесоюзном конкурсе молодых музыкантов-исполнителей. С этого времени начинается его бурная концертная деятельность.
– Как же вам все-таки удалось овладеть вершинами пианистической техники? – часто спрашивают у Рихтера. (А техника у него действительно фантастическая. Один американец написал, что у Рихтера «десять рук».)
– Я просто очень много играл. Вот и все, – отвечает обычно пианист. И это так.
Но нельзя забывать об исключительных природных данных Рихтера, его гигантском виртуозном даровании, и, главное, о его неповторимой способности проникать в самые глубокие тайны музыки. Рихтер – человек необыкновенной художественной одаренности. Я надеюсь, что когда-нибудь сбудется моя мечта и я увижу его за дирижерским пультом оперного театра.
У себя дома, когда собираются гости, он часто устраивает театрализованные вечера по заранее разработанному сценарию и при этом увлекается невероятно. В Рихтере живет также и интересный композитор. Правда, сейчас он не пишет музыку, как это бывало раньше, но иногда садится за рояль и начинает импровизировать, чаще всего сочиняет музыку к фантастическим, им самим придуманным балетам. Это бывают необыкновенные вечера!
Есть еще одна страсть у Святослава – живопись. Мне не раз приходилось слышать от знакомых художников, что, если бы Рихтер профессионально занялся живописью, он достиг бы в ней таких же высот, каких достиг в области пианизма. Он и сейчас пишет очень много и мечтает в будущем отдаться живописи.
О Рихтере говорить трудно, потому что привычные понятия и слова, которыми мы характеризуем наших знакомых, верны и неверны по отношению к нему. Бесспорно, он очень интересный человек, но не в том смысле, как обычно принято употреблять эти слова. Бывает так, что просидишь с ним целый вечер, как будто ничего особенного он и не сказал, а уходишь с таким ощущением, что чудесно провел время, узнал что-то важное, интересное.
Некоторым кажется, что Рихтер постоянно погружен в себя, ничего вокруг не замечает. Но когда он приехал, например, из Чехословакии, по памяти, уже в Москве, нарисовал все, что там видел. И в этом была видна большая наблюдательность художника.
Не могу сказать, что я больше всего ценю в Рихтере-пианисте. Один музыкальный критик написал, что с Рихтера начинается новая эпоха в пианизме. Я думаю, что он прав. Вот как я понимаю эти слова: в мировом пианизме была эпоха виртуозной пианистической техники. Мир дал целую плеяду виртуозов. Рихтер также владеет этой виртуозной техникой, но он ее не подчеркивает, не выделяет, она как бы несет служебную функцию. В музыке для него важнее всего раскрыть ее философскую, поэтическую суть, поведать то, что он сам передумал и пережил. Отсюда строгий простой стиль исполнения.
Когда я слушаю Святослава, очень часто моя рука начинает невольно дирижировать. Ритмическая стихия в его игре так сильна, ритм так органичен, строг и свободен, что невозможно устоять против искушения участвовать в его исполнении. Любое произведение, будь это даже симфония, лежит перед ним, как пейзаж, видимый невероятно ясно с орлиного полета необычайной высоты, целиком и во всех деталях.
Я считаю, что в наше время пианист должен быть пропагандистом, как и всякий другой художник. Ведь мы тоже – инженеры душ. В Рихтере мне особенно дорого, что он не только доставляет удовольствие публике, но и открывает перед ней новые горизонты, как в известных произведениях, так и в новых. Он совершил своего рода подвиг, сыграв в концертах все 48 прелюдий и фуг «Хорошо темперированного клавира» Баха. Он широко пропагандировал мало исполнявшиеся у нас произведения Шуберта, Вебера, Листа, Шумана. К каждому концерту а концертов очень много, он готовит что-нибудь новое.
Вообще работоспособность его поразительна.
Как-то поздно вечером шли мы после его концерта из Большого зала консерватории. Около Института имени Гнесиных Рихтер остановился.
– Я, пожалуй, зайду позанимаюсь: через два дня у меня концерт в Ленинграде, – сказал он.
Рихтер «прозанимался» всю ночь. В 5 часов утра сторож зашел в класс и спросил у него: «Ну что, выходит у тебя?»
Более двадцати лет близко знаю я Святослава Рихтера. На моих глазах из безвестного студента он превратился в пианиста с мировым именем. Но в жизни он остался таким же, каким мы все его знали. Удивительна его непритязательность, его скромность. Никому он не рассказывает о своих успехах, не хвалится рецензиями. Даже привычки у него сохранились прежние, студенческие. По-прежнему любит пешеходные и лыжные прогулки, исхаживая иногда по нескольку десятков километров в окрестностях Москвы.
Он честен и принципиален в отношениях с людьми, верен в дружбе, глубоко и безраздельно верен своему искусству.
Г.Нейгауз

Д.Рабинович.
«Советская музыка», 1960, №12
СВЯТОСЛАВ РИХТЕР
Эскиз к главе о С. Рихтере из подготовляемой автором книги «Портреты советских пианистов»
Спервоначалу может подуматься, что контурно очертить творческий портрет С.Рихтера не представляет чрезмерных трудностей. Он одарен сверхщедро. Зайдет ли речь о ярчайшей индивидуальности, о властном и смелом интеллекте, сочетающемся с пронзительной художественной интуицией и не ведающей преград поэтической фантазией, о богатейшей разветвленности чувствований или о феноменальных технических данных, о неуемном темпераменте или о тонком, безошибочном вкусе, о целеустремленной работоспособности, рождающей совершенное мастерство,– мы не уклонимся от истины, отнеся любые подобные свойства к Рихтеру.
Мы имели возможность убеждаться в этом в ноябре 1940 года, когда 25-летний Рихтер в дебютном своем концерте в Малом зале Московской консерватории ошеломил аудиторию титаническим исполнением Шестой сонаты Прокофьева; и, помнится, вскоре после окончания войны, когда он блистательно .играл прелюдии и этюды, «Музыкальные моменты», Польку Рахманинова; и еще позднее, когда он изумлял нас несравненными интерпретациями шубертовских сонат, а в прошлом сезоне – интерпретациями сонат Бетховена...
Следовательно, перебрав качества, о которых в наши дни должен мечтать концертирующий музыкант, и уснастив такой «каталог» похвальными эпитетами в превосходных степенях, напомнив, что эти и в отдельности не часто встречающиеся достоинства природа, на удивление, сосредоточила в одном человеке,– мы как бы достигнем намеченной цели...
И все же мы по-прежнему останемся вдалеке от действительного решения задачи. Общие констатации, будь они сто раз справедливыми, в лучшем случае помогут лишь словесно сформулировать то, что практически давно известно или, по крайней мере, подсознательно внятно каждому слушающему Рихтера, а именно – что перед нами из ряда вон выходящий по масштабам и значению, один из первейших пианистов современности, уже занявший почетное место в истории фортепьянного искусства.
Но подобные констатации не раскроют нам самого Рихтера – в его особенностях, в отличиях его от других пианистов, хотя бы столь же крупных, равных ему по удельному весу. Ибо Рихтер, как всякий по-настоящему большой художник, уникален. Отсюда, с попытки проникнуть в его «уникальность», разгадать его творческую личность только и начинается разговор по существу.
Примечательной чертой рихтеровского исполнительства является необычайная широкоохватность. Нет, кажется, эпохи, стиля, жанра, где бы Рихтер ни ощущал себя как в родной стихии. У «его почти нет «излюбленных сфер» репертуара. Правда, В.Дельсон в одной из своих статей отметил особое пристрастие Рихтера к Шуберту и Прокофьеву и даже указал, что названные композиторы для Рихтера – то же, что лирика Чайковского для Игумнова, Скрябин для Софроницкого, Дебюсси для Гизекинга, Бах для Гульда. Кто станет сомневаться в том, что Рихтер играет Шуберта и Прокофьева замечательно, что он – если не побояться патетичного восклицания– самозабвенно влюблен в них? Однако, дело вовсе не в тех или иных репертуарных пристрастиях пианиста: суть проблемы гораздо глубже.
Попытки втиснуть Рихтера в прокрустово ложе замкнутых репертуарно-стилевых характеристик обречены на неизбежные фиаско. Критика едва успевает, после очередного рихтеровского сезона, объявить его «бахистом», как в каких-то последующих пианист предстает перед нами в обличье «рахманиновца», «шубертианца» и «листианца» (одновременно!), «бетховениста», «прирожденного интерпретатора» Скрябина или французских импрессионистов...
Искусство Рихтера – многолико. Уходя с его вечеров, часто ловишь себя на забавном недоумении: неужели это один и тот же пианист играл сегодня, к примеру, си-бемоль-мажорную сонату Шуберта и седьмую – прокофьевскую, шумановскую Токкату и соль-минорную прелюдию Рахманинова? Дело тут не в одном лишь естественном и вполне обычном различии приемов фразировки, звукоизвлечения, педализации: меняется не палитра художника, но будто он сам, с его направленностью в целом, с его творческим почерком, «колоритом его души». Так было у Рихтера во все времена, было так и в концертах, данных им в Москве накануне отъезда в гастрольное турне по США.
Первая часть до-мажорной сонаты Гайдна. Здесь господствует стихия подвижности, но allegro (в сущности, allegro molto), благодаря идеальной выровненности темпа, вовсе не кажется быстрым – не «лоток», а мерно-стремительное «развертывание». Линии прочерчены до мельчайших деталей. Рисунок выполнен без полутеней, без «растушевок». В катящихся гаммах отчетлива каждая нота: «острое» legato (где-то «на пути» к non legato), напоминающее о непреодоленных элементах клавесинизма в пианистическом мышлении той эпохи, но еще больше призванное подчеркнуть волевой, «непреклонный» характер интерпретации, развеять миф о благодушной беззаботности, веселой, бесхитростной грациозности гайдновского творчества. Тембровая окраска далека от какой-либо интимной мягкости: звучности, особенно в пассажах, порой отсвечивают металлическим блеском. Фразировка сведена до минимума, однако в этих пределах несколько маркирована, чтобы у слушателей не осталось ни малейших сомнений в намерениях исполнителя – ни капли расплывчатости! Конструктивность явно преобладает над «прочувствованностью». Такая трактовка не только противопоставлена имеющим иногда место тенденциям «романтизировать» Гайдна; она внушает уверенность, что и самому интерпретатору вполне чужды романтические переживания.
«Новеллетты». Не новые выразительные средства, сами по себе, не новые черты знакомой нам по Гайдну артистической индивидуальности, но совершенно другой мир – полный романтического волнения. Еще в одном варианте Рихтер воссоздает образность шумановско-гофманских карнавалов: калейдоскопическое мелькание масок, пламенные признания и робкая затаенность, нежные намеки и страстные излияния, Эвзебий и Флорестан. Музыка то заковывается в четкие маршевые ритмы причудливых факельных шествий – например, во фрагментах, окаймляющих первую пьесу; то, как в начале второй пьесы, клубится – порывистая и воздушная; то вдруг, в эпизоде «Einfach und gesangvoll» из восьмой пьесы, она останавливает бег, охваченная глубоким раздумьем; то, чуть дальше, в коде, опять устремляется вперед, все увлекая в своей бурной неукротимости,– вот где «поток»!
В «Новеллеттах» и умудренному долгим опытом профессиональному музыканту не легко опознать Рихтера – исполнителя Allegro из сонаты Гайдна: иные масштабы, иные краски, будто зазвучал какой-то иной инструмент, иные дистанции между piano и forte. В гайдновском Allegro у Рихтера – равновесие, здесь – почти неистовая эмоциональная возбужденность. Там – energico, в «Новеллеттах» – agitato, передающее мощный напор душевных сил. В Гайдне – преднамеренное обнажение «общих форм движения», подчинение живопионости графике, нюансов – резко отграниченным крупным построениям, категоричная определенность каждого «высказывания»; в Шумане – предельно связанное legato, сливающее элементы пассажей в единой звуковой волне, капризная изменчивость оттенков, не сопоставление остро-контрастных эпизодов, а перерастание, «перетекание» их один в другой.
«Печальные птицы». Если Allegro Гайдна рождало для нас образ Рихтера – умного строителя, готового принести на алтарь классичности даже свою жаркую эмоциональность, а «Новеллетты» – страстного романтического поэта, ищущего выразительности во что бы то ни стало, то в пьесе Равеля он прежде всего – художник, непревзойденный колорист, мастер изобразительности. В густой пелене тумана медленно проплывают смутные очертания призрачных предметов-видений. Как на некоторых пейзажах Моне, они словно растворены в сумрачно-зыбкой атмосфере. Откуда-то доносятся тихие всплески воды и хрустально звенящие .перекликающиеся голоса птиц. Музыка не «совершается» – она как бы только «существует», проявляя себя в тончайших сменах нюансов и тембров. Pianissimo достигает того предела, когда звучания моментами скорее угадываются, чем слышатся. Чудится, будто уже нет рояля, нет крепких рук - один лишь колеблющийся звучащий воздух!
И опять перестаешь верить, что это тот самый пианист, который минуту назад с такой удивительной теплотой и проникновенной человечностью «рассказывал» равелевскую же Павану – маленькую музыкальную повесть об умершей инфанте; не можешь представить себе, что минуту спустя он бросит в зал снопы искр, закружит всех в дьявольском полете Пятой сонаты Скрябина!
Что же здесь? Доступное лишь очень немногим, высшее формальное мастерство, абсолютное владение всеми приемами и средствами выражения, которое позволяет артисту воспроизводить любые образы, не вживаясь, не перевоплощаясь в них, но пребывая где-то в стороне или над ними?
Нет, прислушиваясь к Рихтеру, осознаешь, что его искусство «многолико» лишь на первый взгляд, а в действительности – многопланово. Ведь у него Гайдн и Шуман, Равель и Скрябин, Бетховен, Шуберт, Лист, Брамс, Рахманинов, Прокофьев – свои, неотъемлемые. Они живут в нем, в его психике, во всем его существе: и как отправной пункт – импульс, и как итоговый результат – созданное им, однако прежде всего как его внутренние творческие состояния, – всякий раз особенные, но неизменно тяготеющие к двум основным, полярно противоположным центрам.
Один из них – музицирование. Как бы забывая об окружающем, Рихтер полностью растворяется в мире звукообразов; до конца, безостаточно сливаясь с .ними, он уже не «играет», не «исполняет», не «интерпретирует» (то есть на деле, конечно, и то, и другое, и третье, но главное – не в такой преднамеренности концертанта!), а словно излучает музыку. «Состояние музицирования» отчетливо проявляется даже во внешней манере поведения Рихтера. Он сидит откинувшись. Голова чуть склонена набок. Лицо задумчиво и сосредоточено. Взгляд устремлен ввысь. Движения мягкие и осторожные. Создается иллюзия, будто пальцы пианиста, едва касаясь клавишей, магнетическими пассами вызывают к реальности то, что уже звучит в его душе.
Именно подобные, незабываемые минуты рихтеровских вечеров, вероятно, имел в виду Г. Коган, писавший; «Когда Рихтер играет, то кажется, что он находится
в пустом зале, наедине с музыкой, являющейся ему, «как гений чистой красоты». Никто третий не существует для пианиста в это «чудное мгновенье». О.н не стремится угодить публике или властвовать над нею, или в чем-то ее убедить; он словно забывает об ее присутствии. Аудитория как будто чувствует это. В безмолвии, затаив дыхание, внимает она тому, что Шуман обозначил словами; «Der Dichter spricht» («Поэт говорит»)».
Именно в такие минуты, для которых вернее всего было бы вернуться к напрасно забытому критиками понятию вдохновение, возникают у Рихтера передачи медленных частей гайдновских сонат, финала Фантазии Шумана, некоторых шу бертовских произведений. В Molto moderato из сонаты си бемоль мажор Шуберта голосом пианиста говорит как бы сама природа. Снова временами исчезает материальная вещественность рояля, и остаются только бескрайность открытых горизонтов, глухое рокотание дальних громов, властительное спокойствие предрассветного молчания – благоуханная «поэзия тишины». Да еще певучесть, разлитая даже не в музыке, а в порождающем ее чувстве-состоянии. В предпоследней вариации Andante con moto и в рондо ля-минорной сонаты рисунки «струятся» с той степенью свободы, когда уже перестаешь замечать их ритмическую пульсацию. Не пассажи – родник; он журчит то ласково, то звонко, то вдруг сердито, журчит, не зная никаких «опорных звуков», «сильных» и «слабых» долей, не ведая, что где-то на нотной бумаге существуют группировки черных кружочков по четыре, по шесть... И его говору можно внимать бесконечно, не утомляясь, не думая, что здесь что-то покажется «однообразным».
Заметим попутно: Рихтер в музыке – не пейзажист. Природа для него одухотворена человеком, и «шубертовский ручей» в сонатах – тот самый, что участливо сопровождал безымянного героя «Прекрасной мельничихи» на всем трогательно печальном пути его недолгой любви. Иначе говоря – не созерцание природы, тем более, не изображение ее в звуках, а размышление в связи с ней, но о человеке. Оттого так тепла у Рихтера первая же фраза в Moderato ля-минорной сонаты, так захватывают искренней и правдивой простотой сердечного переживания минорные фрагменты в медленной части сонаты ре мажор, так романтически глубоки «натурфилософские» медитации в финале шумановской до-мажорной фантазии
Но есть и другой, столь же хорошо знакомый нам Рихтер. Бурей обрушивается он на рояль в октавах из разработки первой части си-бемоль-минорного концерта Чайковского, в октавно-терцовом фрагменте финала Второго концерта Рахманинова, в листовской «Дикой охоте» или в кульминациях его же си-минорной сонаты. Он сокрушает рояль и аудиторию массивными взрывчатыми sforzando в главной партии Allegro moderato или в концовке финала Шестой сонаты Прокофьева. Едва ли не единственное в фортепьянной литературе авторское указание «col pugno» – кулаком (в том же Allegro moderato Шестой) утрачивает у Рихтера свою кажущуюся нарочитость. В громовых «накатах» сонаты рихтеровские fortissimo сотрясают стены Большого зала консерватории.
В таких натисках нет ничего от самоуверенного пианистического виртуозничества. И на сей раз мы сталкиваемся с особым творческим состоянием, и на сей раз оно завладевает артистом безраздельно. Решительными шагами, «готовый к битве», выходит он на эстраду и сразу же, без секунды промедления начинает играть. Корпус его наклонен к инструменту и туда же неотступно направлен властный упрямый взор. Локти примкнуты к телу, кисти часто опущены. Теперь он не «гипнотизирует» клавиши – скупыми, волевыми движениями он придавливает, прижимает их, воздействуя на них мускульной силой, используя естественный фактор тяжести рук. В паузах, «на выходах» из пассажей, проносящихся через всю клавиатуру, его руки, подобно высвободившимся стальным пружинам, могучими рывками разлетаются в разные стороны. Как бы заряженный тысячевольтным электрическим током, он весь – воплощение яростной энергии.
Итак, два полюса. Однако, как и в географии, они – лишь две точки, вокруг которых располагаются обширные области, сходные в наиболее общих признаках, различные в любой частности. Рихтеровское музицирование объемлет Adagio Гайдна (из сонаты до мажор), где царит ясность видения мира, где скромные темповые и динамические изменения разграничивают отрезки «произносимой» (конечно, не декламируемой!) мелодии, чуть фиксируют ладовые смены, а в целом подчинены главной задаче: помочь музыке самой высказать свою прекрасную и мудрую содержательность; прокофьевское Andante dolce (из Восьмой сонаты), в котором глубокомыслие так волнующе переплетается у Рихтера с жалобой, сомнением, интимным шепотом чувства, реальное со сказочным, жизненное с изысканным и «странным»; нежную камерную мечтательность шумановского «Вечером» (из «Фантастических пьес»), простодушие неспешно льющегося рондо из ре-мажорной сонаты Шуберта, созерцательность листовского «Пейзажа». Но ведь и в «Отражениях в воде» Дебюсси, в Паване и «Печальных птицах» Равеля проявляются разные оттенки музицирования Рихтера.
Столь же многогранен и «другой» Рихтер. Классично размеренная напористая поступательность в его исполнении все того же Allegro из до-мажорной сонаты Гайдна проникнута духом интеллектуализма второй половины XVIII столетия. Ураганность финала «Аппассионаты», где рихтеровское prestissimo в коде опрокидывает привычные представления о возможностях человеческих рук, словно несет в себе могучую силу французской революции и вулканичность самого Бетховена. Обжигающая возбужденность его интерпретации «Ночью» (из «Фантастических пьес») – это выражение флорестановского начала в мироощущении Шумана. Такая же страстная и насыщенная волей, неудержимо рвущаяся вперед порывистость вторгается у Рихтера в его трактовки начального эпизода «Юморески» или Allegro affetuoso из шумановского же Фортепьянного концерта.
Амплитуда проявления подобных качеств рихтеровской индивидуальности простирается от «железной моторности» в «Движении» Дебюсси до приглушенной вихревости «Блуждающих огней», до демонизма в «Хороводе гномов» Листа, от романтического порыва (Aufschwung) до жестокой неумолимости. Послушайте, с каким неистовым темпераментом Рихтер исполняет Precipitate из Седьмой сонаты Прокофьева!
Вместе с тем, две стихии, образующие «полюсы» его искусства, оказываются отнюдь не взаимоисключающими. Напротив, и в тишайших страницах гайдновских ли adagio, шубертовских ли moderato tranquillo рихтеровское музицирование наполнено скрытой энергией. Именно это делает его столь «заражающим», надежно охраняет пианиста от какой-либо вялости, размагниченности. И в шопеновских соп fuoco, листовских furioso, прокофьевских barbaro[1] его динамизм насквозь пронизан мыслью и чувством, отчего исполнение Рихтера – всегда музыка. В основе же обоих, типичных для артиста состояний, мы находим общие для них высокую активность человеческого духа, огромную интенсивность неразделимых музыкального размышления и музыкального переживания.
Важное обстоятельство! Оно объясняет, в частности, почему Рихтер способен мгновенно переключаться из одного состояния в другое – например, в первой части Восьмой сонаты Прокофьева, где он с покоряющей естественностью переходит от трудных раздумий и горестных сетований в экспозиции к стремительности «скользящих» шестнадцатых в зловещем inquieto начала разработки, и далее – к грандиозным тяжеловесным fortissimo кульминаций.
Рихтер наделан острейшим чувством времени. Впрочем, такое определение недостаточно. Вернее сказать – он владеет временем. Время для него различно в разных произведениях: одно, допустим, в главной партии Moderato е risoluto из соль-мажорной сонаты Чайковского, другое – в финале Семнадцатой бетховенской сонаты, третье – в ре-минорном Концерте Баха, четвертое – в до-мажорном (№ 1 из соч. 10) этюде Шопена. При строжайшей соразмеренности всех темповых нюансов, у него в пределах каждого «данного времени» есть свои психологические «быстро» и «медленно», порой совсем не совпадающие с привычными показателями метрономической шкалы. Си-бемоль-мажорную сонату Шуберта он, в целом, исполняет гораздо заторможенное, а фа-минорную балладу Шопена – много скорее общепринятого. Но ни первая не оставляет в его передаче впечатления затянутой, ни вторая – уторопленной. Allegro molto в первой части гайдновской до-мажорной сонаты кажется у Рихтера обыкновенным allegro, ибо фактическая быстрота движения в восприятии слушателя сливается с общей энергией выражения. Лишь после окончания рихтеровских исполнений скерцо из Восемнадцатой сонаты Бетховена
финалов «Аппассионаты» или Шестой сонаты Прокофьева – скорее разум, чем ощущение подсказывает, в каком невообразимом темпе играл пианист.
То же происходит у Рихтера и в динамической сфере. И здесь относительное доминирует над абсолютным, психологическое – над фактическим. Играя mezzo voce, он заставляет аудиторию слышать и pianissimo и fortissimo. Любая из темповых, динамических, тембровых градаций у Рихтера – не краска, но целый мир, богатый разнообразнейшими внутренними оттенками и в последнем счете уходящий к тому или иному творческому состоянию пианиста.
Эти состояния возникают у Рихтера, но как «состояния вообще». Они обобщаются в категории «музицирования», «динамизма», но при этом всегда индивидуализированы, отмечены конкретной определенностью, порождаемой интонационным строем, характером, духом, короче - содержанием исполняемого. Отсюда делается понятным, каким образом Рихтер, без ущерба для конечных художественных результатов, может так подолгу оставаться в орбите однородных выразительных средств, в одной из своих стихий: речь идет не об отдельных интерпретациях – случались целые сезоны, в течение которых пианист, вызывая неизменные восторги аудитории, играл, говоря условно, не громче скромнейшего mezzo piano, не скорее умереннейшего allegretto.
Да полно, только ли стихиями являются его творческие состояния? Рихтера даже отдаленно немыслимо сопоставлять с музыкантами типа тургеневского Лемма. Их музицирование по своей природе импровизационно, в значительнейшей мере безотчетно. Они отдаются нахлынувшему настроению, зачастую не осознавая, куда оно поведет их в следующий миг. Страстный поклонник и, как говорят, выдающийся мастер импровизации в собственном смысле слова, Рихтер на эстраде чужд импровизационности. И в моменты предельной увлеченности он твердо знает, что ему должно делать. Непосредственность творческого процесса сочетается у него с точнейшим расчетом.
В таком сплаве вдохновения и разумности, вольного полета фантазии с четкой продуманностью интерпретаторских идей, тщательной выверенностью путей их практической реализации – один из секретов неодолимой воздействующей силы рихтеровекого искусства, то, что превращает Рихтера из концертанта во властителя дум, покорителя своей аудитории.
Однако, здесь же таятся причины и некоторых его слабостей. В тех, очень не частых случаях, когда в душевном плане что-то мешает пианисту, жизненный пульс его экспрессии вдруг падает, в нее вкрадывается чисто умозрительная «отрешенность» – так, однажды, словно вовсе унесенная в некие заоблачные выси, с уже абстрактной «бесплотностью» прозвучала у Рихтера любимая им си-бемоль-мажорная шубертовская соната, либо же динамизм его интерпретаций становится нарочито жестким и, допустим, в «Новеллеттах» (как это было в одном из совсем недавних выступлений артиста) шумановская романтическая трепетность подменяется «наэлектризованностью», Aufschwung – прямым напором. Элементы нарочитой умозрительности изредка ощущаются и в замыслах Рихтера, например, в его трактовке Moderato и Adagio sostenuto Второго концерта Рахманинова. Но об этом писалось неоднократно.
Настоящих художников следует судить не по их частным (неизбежным, так как они – живые люди!) ошибкам и заблуждениям, но по тому, что оказывается основным законом их творчества. Кто же Рихтер – «классик» или «романтик», мыслитель или поэт, бетховенист, шубертианец или, может быть, шопенист (что, .наконец, почувствовалось в его последних исполнениях Четвертого скерцо и, еще явственнее, –коды Третьей баллады)? Отбросим якобы обязательные «или». Рихтер шире так называемых «исчерпывающих определений». Он человек огромного, всеобъемлющего таланта, большой души, искреннего правдивого чувства, влюбленный в музыку и бескорыстно служащий ей, ибо она сама служит людям.
Это и есть основной закон его творчества
[1] Здесь всюду имеются в виду общие определения характера музыки, а не те или иные авторские ремарки, предназначенные служить исполнителям указаниями в каких-то конкретных пьесах.
Из дневников Я.Мильштейна.
(1947)
Концерт С. Рихтера. В программе Соната D - dur Шуберта, «Лесной царь» Шуберта – Листа, Полонез E - dur , этюды Des - dur , Gnomenreigen , Ноктюрны № 2 и № 3, три забытых вальса, «Мефисто-вальс» (всё Лист). Переполненный зал, повышенный тонус слушателей. Пришел на концерт раньше обычного: публику в зал ещё не пускали. Из ложи, куда пробрался, наблюдал интересную сцену. Слава вышел на эстраду, сел за рояль, много раз пробовал, удобна ли ему высота сидения, как-то весь расправлялся, но не издав ни одного звука, ушел в артистическую. Очень мудро! Важно чувствовать, КАК сядешь за инструмент.
Сонату Шуберта играл восхитительно и предельно совершенно. Словно запахло свежим лугом и цветами. Во второй части – множество красок, теплота и поразительная пластичность. Вся соната слушалась от начала до конца с неослабеваемым интересом. «Лесной царь» был сыгран превосходно по замыслу, но, к сожалению, из-за слишком скорого темпа (впрочем, темп именно таким должен быть) некоторые детали пропадали. Во втором отделении лучше всего были исполнены забытые вальсы, полные истинной грации и поэзии; Gnomenreigen был бы хорош, если бы не чересчур скорый темп (значительно больше, чем у Рахманинова) и не выстукивание басов в среднем эпизоде (как сказал мне Слава после в артистической – это следствие тугой клавиатуры); ноктюрны были сыграны хорошо, но без шарма; Полонез местами был великолепен (особенно – каденции и речитативы) и в целом грандиозен по размаху, но в нем Слава слишком «рвал и метал»,– из-за чего была звуковая резкость. Этюд Des - dur определенно не удался; в «Мефисто» отсутствовал Мефистофель, и вообще куда-то исчезла сладострастная романтика (зато удивителен был размах и пианистический масштаб исполнения). На «бис» превосходно были сыграны Этюд es - moll op . 33 Рахманинова и «Ундина» Дебюсси. В первом – картина ветра, распахнувшего окно, ворвавшегося в комнату, освежившего атмосферу и столь же быстро улетевшего; во втором – зыбкие, чудесные звучания.
В общем концерт оставил сильнейшее впечатление. Несомненно, что у нас, а может быть, и во всем мире не найдется пианиста, равного по масштабу дарования Славе. Это какой-то дьявол, с универсальной техникой и с не менее универсальной головой. Слушать его – поистине великое наслаждение.
После концерта был у него в артистической. Он поразительна верно чувствует, что ему удалось, а что – нет. «Плохо, что я во втором отделении устал; это никуда не годится»,– так сказал он мне. Вот и выходит, что Листа играть гораздо труднее, чем многих других авторов; требуется огромная воля, пианистическая свобода, точность и т. п.
(1948 )
Концерт Рихтера. Это четвертый, который я слушал в этом году. И, несомненно, самый удачный. Подлинный музыкальный праздник. [собеседник] Н. неправ: Рихтер не только диковинка, но и драгоценность. В первом концерте он играл Сонату D - dur Шуберта, «Лесного царя» Шуберта – Листа и ряд произведений Листа (Полонез E - dur , Этюд Des - dur , Хоровод гномов, Ноктюрн № 3, Три забытых вальса, «Мефисто-вальс», на bis – «Ундина» Дебюсси и др.); об этом концерте я писал рецензию, столь неудачно сокращённую в «Советском искусстве». Во втором концерте он повторял сонату Шуберта и играл произведения Прокофьева (6-ю сонату, «Мимолётности» и другие пьесы). В третьем – играл Сонату d - moll Вебера и Листа («Похороны», «Кипарисы виллы д'Эсте», Этюд Des - dur , «Хоровод гномов», три Забытых вальса, «Мефисто-вальс» и на bis – восхитительно! – «Блуждающие огни»). В четвертом – Сонату G - dur op . 78 Шуберта и произведения Листа («Лесной царь», «Обручение», «Кипарисы виллы д'Эсте», Сонет № 123, «На берегу ручья», «Долина Обермана», «Венеция и Неаполь»). На bis играл прелюдии Дебюсси («Холмы Анакапри», «Ворота Альгамбры», «Канопа»). В артистической – Пастернак и Нейгауз. Расцеловался с последним (в знак восхищения игрой Рихтера).
(1949)
Концерт С. Рихтера. Шопен и Скрябин.
( В этом концерте, состоявшемся в Большом зале консерватории, были исполнены следующие произведения: Шопен. «Блестящие вариации» B - dur , op . 12, Ноктюрны g - moll , op .15, G - dur , op . 37; мазурки: C - dur , op . 7, As - dur , op . 24, cis - moll , op . 63, вальс e - moll , op . posth .; Скерцо E - dur , op . 54; Скрябин: Фантазия h - moll , op . 28; 12 прелюдий из ор us 'ов 13, 37, 39, 59, 74; Поэма Fis - dur , op . 32; Соната № 5. На бис: Лист. «Кипарисы виллы Д'Эсте»; Шопен. Ноктюрн E - dur . op . 62; Вальс e - moll , op . posth .; Ноктюрн b - moll , op . 9. )
Перед началом концерта неожиданное знакомство с Пастернаком. Он подошел ко мне, протянул руку.
«Я Вас знаю. Я слышал, как Вы говорили на вечере памяти Игумнова. Хорошо говорили...» В ответ я сказал: «А я так много много знаю Вас... столько читал...». «Надо Вас послушать. Я не слыхал ещё, как Вы играете...» – сказал он мне. В этот момент его отвлекла какая-то дама, и он отошел от меня.
[В концерте Рихтером] изумительно сыграна была Пятая соната Скрябина.
После концерта отправились в ресторан: Слава и Нина, а также жёны Пастернака и Генриха Густавовича поехали в автомобиле, Пастернак, Генрих Густавович, я и Женя пошли пешком. Шли по улице Станкевича. Пастернак вначале был мрачен, говорил почему-то о «Моцарте и Сальери», говорил очень тонко и умно о противоположности этих образов и о том, как их нужно воплощать на сцене. В ресторане уже застали Славу, Нину и других. Смешно было, когда выбирали еду. Далее разговор о Шопене. Слава сказал, что обожает то-то и то-то ( Fis - dur 'ный ноктюрн, в частности). На что последовал внушительный ответ Пастернака: «А c - mоll 'ный ноктюрн это что – дрянь?». Далее все пошло в нарастающем крещендо. Пастернак говорил без умолку (и понятное, и непонятное); разошлись поздно (вернее, рано утром).
(1959)
Изумительное исполнение Рихтером Второго концерта Рахманинова, исполнение самобытное, цельное, глубокое по содержанию, вызывает у многих осуждение. Честно говоря, я отказываюсь понимать людей. Что это: ограниченность или нежелание расстаться со штампами и шаблонами? Лишний раз убеждаюсь в том, что о каждом исполнении (конечно, значительном), как и каждом художественном произведении, надо судить исходя из его собственных норм. Нельзя исходить при оценке из своего личного вкуса или из соответствия данного явления каким-то априорным правилам и канонам. Для полного понимания того, что артистом сделано, необходимо знать, что он хотел сделать.
(1960)
Слушал камерные произведения Копленда и Фосса. Музыка мне не понравилась. Под такую музыку можно думать о чём угодно и даже вовсе не думать. Все же Копленд значительнее. Играет он сам довольно приятно: свободные руки, мягкое туше.
«А мне,– сказал Рихтер,– эта музыка понравилась. Пожалуй, Копленд и Бриттен теперь лучшие композиторы из "молодых"». На мое замечание, что все-таки это музыка «неживая», Слава ответил: «Да, конечно, в ней все построено на математике, но она значительна».
В заключение концерта Рихтер играл Прокофьева (Пасторальную сонатину, «Пейзаж», «Мысли» и 6-ю сонату). Блистательное исполнение как по содержанию, так и по форме. Лучше представить невозможно. После концерта в артистической Рихтер мне сказал: «А ведь я сильно волновался. Было ли это заметно? Особенно в Пасторальной сонатине. Она вся построена на контрапункте, и если что случится, то не соберешь и костей. В сонате я позволил себе слишком увлечься. Она должна быть более устойчивой, поменьше темперамента».
После концерта Святослава Pихтepa . Изумительная Appassionata . Да и вообще весь концерт на редкость сильный и яркий.
Но сам его «виновник» остался недоволен. Он закрылся в артистической и просил никого к нему не пускать. Я всё же проник туда и разговаривал со Славой. Кроме меня были Диза, Моисей Гринберг и кто-то ещё. На моё замечание, что Appassionata удивительно была сыграна (пожалуй, я еще не слыхал в жизни такого исполнения), Слава ответил, что не всё ему удалось: «Гораздо лучше была Соната D - dur » (а она мне понравилась меньше). Затем разговор (быстрый и отрывочный) перешел на другие темы,– всё это под непрекращающийся гул аплодисментов, на которые Славе приходилось выходить. «Ну вот, – сказал он мне, – мы и увиделись после концерта в обстановке нормальной, нет этого бесконечного количества посетителей... Сейчас я удеру, чтобы никого не видеть». И он быстро оделся и ушел. Буквально через какие-нибудь 20–30 секунд в дверь резко постучали и вошел Белоцерковский и за ним Исаак Стерн с какой-то женщиной (возможно, супругой) и со своим пианистом. «Где Рихтер?» - грозно спросил Белоцерковский. «Уехал»,– ответила Диза. Произошло небольшое замешательство, затем Белоцерковский сказал Стерну: «Как это будет по-американски – "смылся"... Мне стало почему-то неловко, и я быстро ушел из артистической, хотя потом и жалел об этом: вероятно, можно было бы поговорить со Стерном. Кстати, он жаловался (Гринбергу) на усталость от концертов: «Всё время хочу спать». И зачем только заставляют исполнителей (да еще таких крупных) работать на износ !
(1961)
Рихтер мне говорил, что из всех сонат Прокофьева он особенно ценит 8-ю сонату. По его мнению – это самая значительная соната. «Еще, конечно, есть 2-я соната,– очень люблю её, – но она ещё слишком юношеская; а вот 4-я – может соперничать с 8-й». Когда мы коснулись содержания 8-й сонаты, Рихтер сказал: «Я представляю себе первую часть сонаты как раскрытие личного мира композитора; это его Я, его субъективное отношение к жизни; вторая часть – реминисценция прошлого, XVIII век; третья часть – это будущее, в ней есть что-то космическое».

«Музыкальная жизнь», 1961, № 2
Леонид Михайлович Живов
Обсуждаем кандидатуры, выдвинутые на соискание Ленинской премии
СВЯТОСЛАВ РИХТЕР
Учитель Святослава Рихтера, известный советский пианист, профессор Генрих Нейгауз писал не так давно в своей книге:
«В наше время ясно, как никогда, что концертирующий пианист может и должен быть пропагандистом, как и всякий другой художник. Ведь мы тоже немножко «инженеры души». С чувством глубокого удовлетворения слежу я за тем, как выполняют этот почетный долг лучшие советские пианисты. Укажу, в частности, на Святослава Рихтера, который может служить примером, достойным подражания. Рихтер не только широко пропагандирует советскую, русскую и западную классическую музыку, «...он своими концертами не только доставляет удовольствие широкой публике, но и открывает ей новые горизонты, знакомит с малоизвестными превосходными сочинениями, постоянно расширяя и повышая ее художественную культуру и музыкальный кругозор»*.
Конечно, можно было бы еще раз попытаться определить свойственные искусству Рихтера черты: силу и глубину мысли, благородство и своеобразие интерпретации, безупречное ощущение формы, беспредельную виртуозность... Но главное — не в этих, правда, весьма важных чертах его артистического облика, а в той этической направленности его искусства, которою подчеркнул Г. Нейгауз в приведенном выше отрывке. При всей уникальности дарования Рихтера нельзя не видеть, что он — плоть от плоти советской музыкальной культуры, советской фортепьянной школы, которой, наряду с высоким профессионализмом, присущи большие идеи и чувства, смелые мечты.. Несомненно, прав Г. Нейгауз, когда он пишет: «Рихтера я считаю учеником нашей страны, нашего времени и нашего народа. И только в последнюю очередь своим».
Поистине необъятен репертуар Рихтера. Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуман, Шопен, Лист, Шуберт (по выражению Г. Нейгауза, «он буквально воскресил к жизни почему-то забытые чудесные сонаты Шуберта»), Франк, Равель, Дебюсси, Барток... Все, что есть прекрасного в наследии этих мастеров, представлено в искусстве Рихтера. Не менее значительную часть его репертуара составляют сочинения русской классической и советской музыки — Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Скрябин, Мясковский, Шостакович и особенно любимый пианистом Прокофьев...
К каждому из композиторов Рихтер находит свой индивидуальный «ключ», и вместе с тем он никогда не играет «себя», стремясь развернуть перед слушателями подлинный мир мыслей и чувств автора. Так, в исполняемых Рихтером произведениях Бетховена особенно четки излюбленные композитором, резкие, как у Рембрандта, контрасты. В Шуберте Рихтер находит такие лирические высоты, такую простоту и безыскусность, что каждое сочинение звучит, как сокровенная исповедь сердца.
Святослав Рихтер всегда прост — ему чуждо манерничание, стремление что-либо приукрасить или стилизовать. Вот почему такими живыми предстают в интерпретации Рихтера Гайдн и Моцарт. Пианист раскрывает в их музыке прежде всего непосредственность чувств, естественность, человечность.
А разве можно не сказать о воплощении Рихтером музыки Прокофьева? Неуемная жизненная сила, вихревая стремительность, целомудренная чистота лирики — как ярко передает пианист эти качества сочинений замечательного советского композитора.
От первого ознакомления с вещью до публичного ее исполнения Рихтер напряженно ищет все более точного воспроизведения авторского замысла. Нередко при этом случается, что придирчивая его мысль, обостренное восприятие не удовлетворяются тем, чему рукоплещут слушатели. Известен, например, случай с ля-минорной сонатой Моцарта, которую Рихтеру удалось сыграть так, что сам он был доволен, лишь в четвертый раз. Скромность, взыскательность, сопряженные с огромным трудом.
В недавно опубликованном «Литературной газетой» очерке Н. Мара, беседовавшего с Рихтером по его возвращении из Америки, есть строки, где от имени пианиста сказано о том, что порой он может побездельничать месяц, а то и больше. Пусть читатель отнесется с должной мерой осторожности к этим строчкам. У Рихтера — большого художника, влюбленного в свое дело, — нет и не может быть такого, «абсолютного» покоя. Конечно, бывают дни, когда пальцы пианиста не прикасаются к клавишам. Но тем напряженнее пытливое, творческое горение мысли, ищущей непроторенные пути к воплощению новых и новых исполнительских замыслов.
Из года в год растет слава Рихтера. Не только на нашей Родине, но и за пределами Советского Союза. Артисту рукоплещут в Будапеште, Варшаве, Бухаресте, Праге, Пекине, Софии, Хельсинки. С небывалым, триумфальным успехом прошли недавние гастрольные концерты Рихтера в США. «Гениальный пианист», «Великий пианист современности» — таковы заголовки рецензий в зарубежной прессе.
Недавно С. Рихтеру было присвоено звание народного артиста СССР. В этом нашла выражение высокая оценка его искусства советской общественностью.
Л. Живов
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Народный артист СССР Святослав Рихтер. (Снимок сделан после возвращения пианиста
из гастрольной поездки в США).
* Из книги Г. Нейгауза «Об искусстве фортепьянной игры». Музгиз, 1958, стр. 231.

Н.Эльяш. «Театральная жизнь», 1961, №2.
СВЯТОСЛАВ РИХТЕР
Многие музыканты и пианисты вызывают у слушателей глубокое уважение и восхищение своим искусством. Но очень немногих встречают с такой любовью и энтузиазмом, как Святослава Рихтера. на его концертах царит не только сосредоточенная и строгая тишина, но и ясно уловимая атмосфера искренней взволнованности, подъема, праздника.
Секрет заключается в особом обаянии исполнительской и человеческой индивидуальности Рихтера и в его высоком мастерстве, редкой музыкальной культуре.
Репертуар Рихтера безграничен. Трудно назвать какое-либо значительное произведение фортепьянной литературы, которое прошло бы мимо его внимания. Величавый строгий Иоганн Себастьян Бах, могучий Бетховен, лучезарный Моцарт, поэтичнейший Шуберт, многообразный, всегда оригинальный Мусоргский, пылкий и страстный Лист, эпически величавый Глазунов, мужественный, поражающий своим эмоциональным размахом Рахманинов, сердечно-задушевный даже в самых глубоких философских обобщениях Чайковский, взволнованный, порывистый Шуман, экстатичный Скрябин, глубоко современные Прокофьев и Шостакович, и многие-многие другие композиторы.
Можно очень долго перечислять композиторов, чьи произведения Святослав Рихтер не просто хорошо знает (таких пианистов можно назвать довольно много), но играет, по всеобщему мнению, неподражаемо, совершенно.
Удивительная, почти беспрецедентная творческая многогранность! Большой душой, высокой художественной культурой, сильным и ярким умом нужно обладать, чтобы уметь столь глубоко проникать в существо музыкальных образов, созданных композитором, с такой впечатляющей силой доносить их до аудитории. В значительной степени это качество Рихтера-пианиста объясняется его совершенной в самом полном и точном смысле слова фортепьянной техникой. В сущности, для него не существует никаких технических трудностей. Самые виртуозные произведения звучат у него легко, без малейшего напряжения. То, что у самых знаменитых виртуозов звучит как эффектнейшие, потрясающие своей головоломной сложностью пассажи, под пальцами Рихтера выходит просто, как бы между прочим.
Высочайшее техническое мастерство, достигнутое ценой многолетнего труда (Рихтер часто на протяжении многих месяцев играет по 8–10 часов ежедневно), позволяет талантливому артисту основные свои усилия направить на решение чисто художественных задач. В игре Рихтера не чувствуется никакой рассудочности и рационализма. Когда он играет, вас неудержимо влечет за собой поток мыслей, чувств, доходящий до высших эмоциональных взлетов. И в то же время Рихтер великолепно владеет собой. Нечто подобное было у Федора Шаляпина, который, потрясая аудиторию, в самых кульминационных эпизодах успевал в то же время подавать реплики хористам.
Поражающее искушенных слушателей вот уже на протяжении многих лет мастерство Святослава Рихтера появилось как результат беспредельно развитого чувства творческой взывскательности.
Любимый ученик одного из ярчайших представителей советской школы фортепьянной педагогики Генриха Нейгауза, воспитавшего Эмиля Гилельса, Якова Зака, Евгения Малинина и других знаменитых пианистов, Святослав Рихтер развивает в своем творчестве традиции русской классической школы фортепьянного исполнительства. Это сказывается прежде всего в его бережном отношении к авторскому замыслу, органической неприязни к внешним эффектам. Для него фортепьяно – инструмент мелодический, поющий. Именно так играли Милий Балакирев, Антон Рубинштейн, Сергей Танеев, Александр Зилоти, Сергей Рахманинов, Константин Игумнов. Традиции эти продолжили и развили советские пианисты. К «пению» на фортепьяно стремится и Рихтер. Мелодия, мелодический образ – главное для него.
Полнозвучность рихтеровского исполнения объясняется не только исключительной техникой, памятью, редким даром самостоятельной трактовки великих произведений, но и богатым внутренним душевным миром художника, его неуемной, вечно юной жаждой жизни, стремлением к глубокому познанию мира. Это чувствует молодежь, вот почему она так восторженно любит Рихтера. У него огромная разнообразная аудитория слушателей, среди них – прославленные ученые, знаменитые артисты и музыканты, рабочие и служащие, колхозники. Но самую большую признательность и любовь Рихтер сразу же снискал у студенчества, у молодежи, которая следит за его концертами, устраивает ему бурные овации, готова часами стоять, чтобы доставь билет на «галерку», когда играет Рихтер. Молодежь любит в нем не только великого музыканта, но и человека, полного чудесной юношеской непосредственности.
Святослав Рихтер не раз концертировал за рубежом. Его гастроли везде выливаются в праздник музыкального искусства, в значительное событие культурной жизни. Поистине триумфальными были выступления советского пианиста в Америке. Крупнейшие профессора и музыкальные критики единодушно называли Рихтера величайшим пианистом нашего времени, гениальным музыкантом. Они особо отмечали интеллектуальность, свойственную советскому искусству. Профессор нью-йоркской консерватории Розина Левина писала: «Такого мастера, как Святослав Рихтер, могла взрастить и выпестовать лишь лучшая музыкальная школа, какую знает мир. А таковой, несомненно, является русская советская пианистическая школа с ее богатыми классическими традициями, огромным опытом и великолепными педагогами».
Рихтер искренен и горяч в своих увлечениях. Как-то он сказал, что для него любимый композитор тот, кого он сейчас играет. Да, он отдает исполняемому произведению весь пыл своего сердца, все силы фантазии, всю увлеченность художника. Сила музыки Рихтера как бы отражает силу его любви к жизни, к людям, к искусству и природе, ко всему, чем прекрасен и богат мир.
Целыми сутками он способен бродить, любуясь прекрасными пейзажами, не уставая от я ходьбы, наслаждаясь простором, дуновением ветра, чудом восхода и заката солнца.
Мирно проводить отдых в комфортабельном санатории или доме отдыха, жить на даче – все это малоинтересно для Рихтера. Он предпочитает удел альпиниста, путешественника, туриста. Им владеет страсть как можно больше видеть, охватить и вместить в своем сердце как можно больше красоты. Вы можете встретить Рихтера среди группы альпинистов, смело преодолевающих высоты Кавказского горного хребта; он идет рядом с теми, кто не боится первым ступать по скользким и отвесным тропам. Эта спортивная закалка приобретена Рихтером в его частых походах по крымских горам.
Природу Рихтер любит с детства, которое провел в Одессе. Любовь к морю Рихтер хранил до сих пор, но теперь ему больше нравится кавказская природа, дикая, но вещественная и своеобразная. Он глубоко чествует и скромную приветливую красоту средней полосы России, тех мест, которые так живо описаны Тургеневым, Толстым и Чеховым, чья грустная прелесть светит с полотен Левитана.
Рихтер пользуется каждым свободным нем, чтобы уехать из шумной Москвы, без конца бродить по лесам и дорогам, входить в дрожащий на ветру осинник, в легкие белые березовые рощи, слушать, как шелестят золотые поля, смотреть, как убегают вдаль луга, светлые перелески, извилистые речки. Красота природы восхищает его, заставляя брать кисть художника. Он рисует пейзажи, пишет пастелью, стремясь передать волнующую прелесть полученных впечатлений. И в живолиси, так же как и в музыке, он – поэт, только, может быть, более робкий, еще не уверенный в силе этого своего призвания.
А между тем у него есть работы, интересные по замыслу и воплощению.
Однажды он написал кусочек сквера перед одним из московских вокзалов – клочок зеленой травы, нежных цветов, кусочек природы среди раскаленного городского асфальта, каменных домов, деловой суеты и спешки. Своеобразен и другой его набросок – вид улицы, где причудливо сочетаются огромные новые здания с маленькими старыми домиками.
Есть у него и другие удачные работы, которые одобрили крупные художники, признав в них интересный колорит и свежесть композиций. Но молодой художник (он занимается живописью всего семь лет) из скромности не любит показывать свои произведения.
Молча любуется он прекрасным ландшафтом, молча стоит перед картиной великого мастера, молча слушает игру настоящего музыканта, словно боясь ненужным словом нарушить и спугнуть глубину впечатления. Даже цветы Рихтер любит скромные – только белые розы, нарциссы, жасмин и ландыш...
Он избегает показывать свои картины еще и потому, что отличается величайшей требовательностью в искусстве и относится к своим работам только как к первым опытам. Он очень строго судит свои произведения, ибо в нем живет тончайший ценитель и живописи. Он прекрасно знает искусство художников итальянского Возрождения, его восхищают произведения французских импрессионистов. Из русских любимые его художники – Серов, Левитан, Иванов. Когда в Москве были выставлены картины Дрезденской галереи, Рихтер бывал там каждый день, он словно спешил насладиться и запечатлеть в своей памяти великие произведения искусства. Служители галереи запомнили его и приветливо встречали известного пианиста, который появлялся здесь с утра, подолгу простаивал перед каждой картиной, шел дальше, возвращался и снова стоял, плененный гармонией Рафаэля, колоритом Тициана, великолепием Веласкеса.
Рихтер – частый посетитель различных драматических театров. Из театральных жанров он особенно любит балет. Нередко можно видеть Рихтера на спектаклях Галины Улановой.
Немалое место в творчестве Рихтера занимают совместные концерты с замечательной камерной певицей Ниной Дорлиак. На этих вечерах можно услышать вокальные произведения композиторов самых различных стран и эпох в исполнении, безупречном по стилю и художественной манере.
Рихтер очень скромен, застенчив, не любит говорить о себе. Может быть, он даже рассердится за то, что в этих заметках сказано кое-что о его характере, вкусах, пристрастиях. Но ведь сказано это с одной только целью показать, что величие музыканта неразрывно связано с богатством его души, что настоящая музыка может быть вдохновлена только настоящей пламенной любовью к жизни.
Давид Абрамович Рабинович
CВЯТОСЛАВ ТЕОФИЛОВИЧ РИХТЕР
(1962 г.)
Рихтер дебютировал Шестой сонатой Прокофьева. В самом этом факте есть нечто символическое, как если бы громовые фортиссимо и могучий удар " col pugno " ("кулаком") в Allegro moderato сонаты, подобно победным салютам, возвестили о приходе нового героя в мир фортепьянного исполнительства. Даже не о приходе, точнее, о вторжении– неожиданном и ошеломляющем.
Для значительной части аудитории Рихтер "возник" внезапно, и, справедливости ради, надо сказать: большинство слушателей собралось 26 ноября 1940 года в Малом зале Московской консерватории, чтобы встретиться не с Рихтером, а с его педагогом Г. Нейгаузом, игравшим в первом отделении. Рихтер был тогда известен сравнительно немногим. Лишь в узком кругу людей, близких к Нейгаузу, его дому и его консерваторскому классу, о Рихтере говорили, как о таланте поистине необыкновенном. Фактические сведения оказывались также крайне скудными, да и не все из них заслуживали безусловного доверия.
Впервые имя Рихтера мимолетно прозвучало в Москве в дни Всесоюзного конкурса 1933 года. Случилось это буквально через несколько минут после того, как в зале затихли неистовые овации, вызванные выступлением Гилельса. Когда десятки музыкантов кинулись с расспросами к приехавшим на конкурс представителям Одесской консерватории, один из сияющих от радости одесситов хитро улыбнулся: "Подождите, скоро от нас приедет еще пианист — Рихтер; он тоже чего-нибудь стоит!"
Рихтер и вправду объявился в Москве, однако гораздо позднее — в 1937 году. Рассказывали, что, услышав этого долговязого юношу со спортивно развитой, а в чем-то чуть нескладной фигурой, с непропорционально большой головой и огромным лбом, сочетавшего в себе ярко выраженные волевые качества с обаятельной мягкостью, скромной стеснительностью, Нейгауз воскликнул: "Вот ученик, о котором я мечтал всю жизнь!"
Следует хорошо знать Нейгауза, чтобы до конца почувствовать смысл его реплики. Конечно, он оценил в Рихтере и стихийную силу технической одаренности и природную музыкальность. Но всем этим Нейгауза трудно было удивить. За долгие годы он перевидал великое множество блистательных пианистов, в том числе в своем классе; достаточно вспомнить, что он — ученик Годовского, личный друг Арт.Рубинштейна и учитель Гилельса. Нейгауз сразу же распознал в Рихтере глубоко родственную себе натуру — художника до мозга костей, подлинного поэта, притом своеобразного, с одному лишь ему присущим творческим обликом.
Рассказывали также, что Рихтер уже тогда удивлял всех быстротой, с какой учил новые произведения. В те времена в Московской консерватории систематически практиковались внутрифакультетские конкурсы на лучшее исполнение той или иной пьесы. Рихтер видимо, не очень охотно участвовал в них. Зато, как передавали, мало того, что обычно занимал в них первые места, но и давалось ему это ценой минимально краткого труда:он готовился немногие считанные дни. Этому весьма содействовала его уникальная способность читки с листа.
Однажды, в присутствии автора настоящих строк, он "прочитал" только что появившуюся Первую фортепьянную сонату М. Вайнберга. Он играл ее по рукописи, при свечах (дело было трудной зимой 1942—43 годов), играл не только сразу же в темпе, но и мгновенно вникая в достаточно замысловатую музыку совершенно неизвестного ему молодого композитора. Казалось, еще немного — и Рихтер сможет выйти с этой сонатой на концертную эстраду. Тут есть чему подивиться!
И еще рассказывали, что он объединил вокруг себя группу консерваторской молодежи, что созданный им и его другом пианистом Анатолием Ведерниковым студенческий кружок регулярно собирается в одном из классов, и здесь в четырехручных переложениях можно услышать симфоническую музыку Прокофьева и Шостаковича, Вагнера и Брукнера, Малера и Рихарда Штрауса, Дебюсси, Равеля, Хиндемита, Стравинского...
Побывавшие на собраниях кружка утверждали, что Рихтер — душа молодого содружества и что, при самоочевидных сверхвыдающихся собственно пианистических достоинствах, он заслуживает определения более объемного, чем "пианист", ибо раньше всего он громадный разносторонний музыкант. Тем не менее все это, повторяем, служило предметом обсуждения лишь в довольно тесном кругу, не доходя до так называемой широкой публики.
Что же произошло в ноябре 1940 года ? Сочинения Прокофьева к этому времени уже давно успели войти в репертуар советских артистов всех поколений. Уже создались достаточно прочные интерпретаторские "версии" его концертов, сонат, фортепьянных миниатюр. Складывавшиеся традиции очень расходились в частностях; общей же для них являлась тенденция романтизации Прокофьева.
Такой запомнилась превосходная передача Обориным на выпускном экзамене в 1926 году заключительной вариации из средней части Третьего концерта: лирическая "ласковость" аккордовых ходов в обеих руках, общая притушенность колорита, замедленность темпа; Фейнберг наделял тот же Третий концерт чертами нервной порывистости; Игумнов в "Сказках старой бабушки" или в медленной части Четвертой сонаты погружал слушателей в атмосферу проникновенной сердечной интимности; Нейгауз и в "Мимолетностях", и в "Сказках", и в Танцах ор. 32 подчеркивал пластичность линий, "грацию переживания".
С момента окончательного возвращения Прокофьева в Москву идеалом для многих стали его трактовки — мужественные, броские, подчас дерзкие, обнажавшие жесткость конструкций, заостренность углов, вовсе не "отрицавшие" романтику, но сообщавшие ей совершенно новую окраску, имевшую мало схожего с тем, что мы привыкли слышать у концертантов, воспитанных на Шопене и Листе, Шумане и Брамсе, Метнере и Рахманинове. Однако, за исключением разве что М.Юдиной (грандиозная интерпретация Второго концерта !), в середине тридцатых годов едва ли кому из наших пианистов удавалось в Прокофьеве приблизиться к стилю авторского исполнения, не подражая.
И вот молодой дебютант доказал, что можно и слиться с самим духом прокофьевского искусства и одновременно остаться собой, сохранить неповторимость своей манеры. Раньше всего этим, а затем уже титаничностью масштабов поразило рихтеровское исполнение Шестой сонаты. Такого фортепьянного Прокофьева у нас еще не слыхивали!
Впрочем, о молодости следует говорить с долей осторожности. К профессиональному исполнительству Рихтер пришел относительно поздно. Не углубляясь в историю (великие "вундеркинды" прошлого — Моцарт, Шопен, Лист, Ант.Рубинштейн, Гофман), укажем, что почти все крупнейшие советские пианисты, начиная от Софроницкого, Гинзбурга, Оборина, Гилельса, Тамаркиной и кончая совсем недавно выдвинувшимися Ашкенази или Башкировым, примерно к двадцати годам оказывались популярнейшими концертантами, по большей части — лауреатами всесоюзных и международных конкурсов.
Рихтер же в возрасте, когда артисты даже не столь редкостного таланта завоевывают мировую известность, лишь по-настоящему сел на школьную скамью. Он поступил к Нейгаузу двадцати двух лет от роду. Ему впервые довелось увидеть свое имя на московской филармонической афише в двадцать пять лет. К фактам, составляющим биографическую канву подобного парадокса, надо будет вернуться, и весьма обстоятельно. Пока же достаточно заметить, что время, упущенное в смысле достижения безусловного признания, Рихтер "наверстал" чуть ли не за один вечер. И это тоже входит в состав "парадокса".
Творческое и психологическое формирование столь щедро одаренных натур обычно совершается где-то на рубеже отрочества и юности. Видимо, так происходило и в данном случае: в основных своих особенностях Рихтер сложился, вероятно, еще в те далекие времена, когда задолго до приезда в Москву выполнял скромные функции концертмейстера Одесского оперного театра. Поэтому он с первого выступления в Москве сумел показать, кто он, на что способен; поэтому для СЛУШАТЕЛЕЙ он словно бы "родился во всеоружии"; сразу стало ясно, что природа на удивление сосредоточила в одном человеке всю сумму качеств, о которых в наши дни должен мечтать концертирующий музыкант.
И в 1940 году явственно ощутилось то, что сегодня практически давно известно или по крайней мере подсознательно внятно каждому слушающему Рихтера: он пианист не просто крупный, очень крупный, но из ряда вон выходящий, принадлежащий к числу немногих, кому уготовано почетное место в истории фортепьянного искусства.
А наряду с этим именно сложность таких от природы богатых натур, содействуя их быстрому общему самораскрытию, нередко тормозит ход их окончательной кристаллизации: чем раньше Рихтер "созрел", тем медленнее шло его "дозревание" — еще одна сторона все того же "парадокса".
Концерты Рихтера — всегда событие. Так повелось с первых дней его артистической деятельности. Мы восхищались им на Всесоюзном конкурсе 1945 года; и вскоре после этой его победы, когда он, состязаясь с автором, блистательно играл прелюдии и "Этюды-картины", "Музыкальный момент", Польку Рахманинова; и позднее, когда он изумлял несравненными интерпретациями шубертовских сонат, а незадолго до своих гастролей в США — интерпретациями сонат Бетховена.
На протяжения двадцати с лишним лет мы неизменно "опознавали" в Рихтере те черты, что приковали к нему всеобщее внимание в 1940 году: ярчайшую индивидуальность, властный и смелый интеллект, соединенный с пронзительной интуицией и не ведающей пределов поэтической фантазией, неукротимый, "вулканический" темперамент и точный, безошибочный вкус, феноменальные технические данные и тончайшую эмоциональную отзывчивость...
Однако, оставаясь "одним и тем же", Рихтер в действительности менялся, эволюционировал, Притом весьма постепенно. В более ранние периоды — помнится, в первой половине сороковых годов — его игра чаще подавляла мощью, нежели радовала артистичностью, если разуметь под этим не чуждый Рихтеру банальный пианистический лоск, а стремление и способность художника оставлять в сознании аудитории след не только от глубины и масштабности, но и от блеска своей личности.
Ему пришлось потратить немало усилий, чтобы привести к согласию разнородные элементы своего исполнительства. Опять-таки, в тех же сороковых годах подчас бывало, что присущая Рихтеру "вулканичность" прорывалась в явно преувеличенных масштабах. Подобное случилось, к примеру, во втором туре Всесоюзного конкурса, когда после проникновенно сыгранных произведений Баха, Рахманинова, Восьмой сонаты Прокофьева, он, будто охваченный внезапным пароксизмом бешенства, поразил стихийной необузданностью в листовской "Дикой охоте".
В этой исступленной (но вовсе не "нервической" и не "экзальтированной") ярости почувствовалось нечто беспричинное, как если бы на какое-то короткое мгновение физическое моторное начало вдруг взяло в пианисте верх над духовным. Наоборот, изредка проявляла себя гипертрофированность прямо противоположных свойств, и, скажем, в "Сонате-воспоминании" Метнера игра Рихтера неожиданно обескровливалась делалась вялой, блеклой.
Рихтер постепенно проникал во всё новые области фортепьянной музыки. С этим связана одна важная его особенность: зачастую он учит не какие-то отдельные пьесы, но одновременно целые пласты произведений того или иного композитора, затем заполняя ими программы своих сезонов. Так он некогда выступал с рахманиновскими программами, так на протяжении шести концертов сыграл все прелюдии и фуги из обоих томов баховского "Хорошо темперированного клавира", так он в течение одного года исполнил, кажется, все шубертовские сонаты, а вскоре после этого — вереницу сонат Бетховена.
Проблема не сводится лишь к элементарному повседневному накоплению репертуара. Каждый из упомянутых сезонов знаменовал вступление Рихтера в следующий этап духовного развития. Вместе с завоеванием то ли ранее практически неизведанных, то ли еще недостаточно освоенных сфер музыки, приходили в движение новые, точнее, — до того остававшиеся скрытыми, как бы находившиеся в резерве, внутренние силы.
Следует особо подчеркнуть, что не всё давалось Рихтеру "с первого соприкосновения": "демонический" Лист в полной мере открылся ему какой-нибудь десяток лет тому назад, когда пианист после ряда далеко не во всем убедительных "проб" наконец создал свою трактовку h - moll 'ной сонаты; еще позднее нащупал он пути к СВОЕМУ Шопену.
Пианистическая биография Рихтера (если считать ее с момента начала регулярной концертной деятельности, то есть с 1940 года) не разграничена на отдельные, резко отличные друг от друга главы, как это имеет место, допустим, у Софроницкого или у Гилельса. Но эволюция его — факт несомненный. Сказать об этом тем более важно, что у нас привыкли рассматривать и оценивать Рихтера, условно говоря, "в ажуре". Любой концерт его производит впечатление настолько сильное, что в сознании слушающего, даже музыканта-профессионала, не остается места для якобы "побочного" вопроса — как пианист пришел к этому ? Другими словами, рихтеровское "сегодня" всегда заслоняет его "вчера".
Постепенность или даже "поступенность" становления неразрывно связана с другой примечательной чертой исполнительства Рихтера. У него нет или почти нет излюбленных областей репертуара. Правда, В.Дельсон в одной из своих работ отметил ярко выраженную склонность пианиста к Шуберту и Прокофьеву и даже высказал предположение, что эти композиторы для Рихтера — то же, что лирика Чайковского для Игумнова, Скрябин для Софроницкого, Дебюсси для Гизекинга, Бах для Гульда. Не станем приписывать Рихтеру порок "всеядности", особенно памятуя старинный афоризм: "кто любит всех — не любит никого". Он играет очень многое. Еще в середине сороковых годов он в частном разговоре сказал как-то, что у него есть пятнадцать готовых программ, "может быть и двадцать". А ведь с тех пор прошло добрых полтора десятка лет.
Мы слышали у него бесчисленное количество произведений, законно считаемых обязательными для концертирующего пианиста, и таких, которые не без известных к тому оснований попадают в поле зрения наших исполнителей в порядке исключения — например, фортепьянные концерты Римского-Корсакова и Глазунова. Но и для Рихтера, как для всякого подлинного художника, в искусстве имеется близкое и далекое, то, что он принимает и что отвергает.
Присматриваясь к его программам за долгие годы, невольно приходишь к выводу, что он не питает горячих симпатий, допустим, к творчеству Метнера. Он никогда не выносит на эстраду обработки или транскрипции, причем здесь, думается, действуют скорее соображения принципиального порядка, чем вкусовые стимулы: хочется рассказать, как однажды в полудомашней обстановке и для весьма узкого круга слушателей-друзей (это было в 1947 году в маленькой артистической зала Ленинградской филармонии, уже после окончания концерта) он с необыкновенным увлечением, незабываемо сыграл "Лесного царя" Шуберта Листа!
Возвращаясь же к высказыванию В.Дельсона, заметим: вряд ли кто усомнится, что Рихтер исполняет Шуберта и Прокофьева замечательно, что он, — если не побояться патетичного восклицания, — самозабвенно влюблен в их музыку. Однако применительно к Рихтеру нецелесообразно ставить специальный акцент на каких-то его репертуарных пристрастиях, тем более пытаться через них искать ключ к его индивидуальности. И дело тут вовсе не в одних сугубо личных свойствах Рихтера.
Чем крупнее артист (все равно, будь он концертант или композитор, музыкант или представитель любого иного вида творческой деятельности), тем непременнее живет в нем, составляющее эмоционально-психологическую основу его художественной личности, единое начало, — и связанное с влияниями тех либо других течений, школ в искусстве, а в конце концов порожденное столь общими социально-историческими предпосылками, как эпоха, среда, национальные особенности культуры; и в то же время свое, неповторимое, специфичное для данной, именно его натуры.
Присутствие подобных "доминант" в корне отличает корифеев от посредственностей-эклектиков, ремесленные поделки которых, совмещая в себе разношерстные и взаимно нивелированные элементы, оказываются по существу безликими, а значит — определимыми в большей степени лишь негативно.
Напротив, обращаясь, например, к великим пианистам сравнительно недавнего прошлого, мы без колебаний относим к так называемому "романтическому" направлению в пианизме Ант. Рубинштейна, к "классическому" — Г. Бюлова; мы замечаем, как "доминанту", ведущую роль интеллекта в художественных концепциях Ф.Бузони или, снова в качестве важнейших, совпадающие с идеалом виртуозности, как он понимался на рубеже столетий, черты "искусства представления" в мощной сверкающей игре И.Гофмана.
У значительной части выдающихся артистов такое единое (но не единственное, а только господствующее) начало воспринимается непосредственно, что облегчает нахождение более или менее исчерпывающих, а в последнем счете, опять же единых определений. Как раз для таких концертантов, при многокачественности и многогранности их творчества, типично наличие особо излюбленных композиторов, жанров, выразительных средств.
Не надо подозревать этих художников в узости. Различные проявления их талантов вернее было бы уподобить лучам, во все стороны расходящимся из одного ВИДИМОГО источника. Среди упомянутых В. Дельсоном пианистов к этой категории весьма приближаются, конечно, К.Игумнов и В. Софроницкий.
У других, в том числе у Рихтера, "господствующее начало" запрятано гораздо глубже. Исполнительству Рихтера в высшей мере присуще качество ШИРОКООХВАТНОСТИ, о чем не так давно красиво и образно написал Нейгауз: "В его черепе, напоминающем куполы Браманте и Микеланджело, вся музыка, вся прекрасная музыка покоится, как младенец на руках Рафаэлевской мадонны. Играет ли он Баха или Шостаковича, Бетховена или Скрябина, Шуберта или Дебюсси, — каждый раз слушатель слышит как бы живого, воскресшего композитора, каждый раз он целиком погружается в огромный, своеобразный мир автора".
Продолжим мысль Нейгауза. Трудно назвать эпоху, стиль, жанр, где Рихтер не чувствовал бы себя, либо рано или поздно не мог бы себя почувствовать (что произошло у него с "демоническим" Листом, что в настоящее время происходит с Шопеном), словно в родной стихии. Попытки втиснуть Рихтера в прокрустово ложе замкнутых репертуарно-стилевых характеристик обречены на неизбежные провалы.
Критика едва успевает после очередного рихтеровского сезона объявить пианиста "рахманиновцем", как в каких-то последующих — он предстает перед нами в обличии "бахианца", "шубертианца" и "листианца" (одновременно!), "прирожденного интерпретатора" Скрябина или французских импрессионистов...
Всеобъемлющие репертуары — постоянные спутники концертантов крупного масштаба. Достаточно сослаться на знаменитые "Исторические концерты" Ант. Рубинштейна или на включившие около 250 произведений двадцать с лишним концертов, кряду данных Гофманом в 1912-13 году в Петербурге. Да и в практике советского пианизма аналогичная картина раскрывается в репертуарах хотя бы Г. Нейгауза, С. Фейнберга, В. Софроницкого.
Однако и в настоящем случае речь идет не о "репертуарных накоплениях", в отрыве от прочих проблем рассматриваемых лишь в количественном аспекте. В противоположность самоочевидной монолитности артистов типа Ант. Рубинштейна или Бюлова, Рихтер, как исполнитель, кажется МНОГОЛИКИМ. Уходя с его концертов, часто ловишь себя на недоуменном вопросе: неужели это один и тот же пианист играл сегодня, к примеру, В- dur 'ную сонату Шуберта и Седьмую — прокофьевскую, шумановскую Токкату и g - moll 'ную прелюдию Рахманинова?
Дело тут не в одних только естественных и вполне обычных различиях приемов фразировки, педализации, звукоизвлечения: меняются не краски на палитре художника, но будто он сам, с его настроенностью в целом, с его почерком, "кололоритом его души".
Первые части Es - dur 'ной, с- moll 'ной и С- dur 'ной (№№ 52, 20 и 50 по брейткопфовскому полному собранию) сонат Гайдна. — Рихтер отнюдь не сводит всего Гайдна "к одному знаменателю". Он играет не "Гайдна вообще", но три именно данных, весьма несхожих его сочинения. Он заботливо выявляет их особенности.
Тонус его трактовки Allegro Es - dur 'ной сонаты в значительной мере определяется решительностью вступительного фрагмента. Пусть начальное форте затем в шестом такте смягчается, а на место маршеобразности и пунктиров приходит плавная кантилена, главенствующий характер экспрессии остается неизменным: она вся направлена к жестким аккордовым staccato и энергии тридцать вторых в конце экспозиции, и далее, через разработку и репризу, — к коде части.
Наоборот, в Allegro moderato сонаты c - moll Рихтер дает ощутить мягкую лиричность главной партии, а динамизм последующих группетто и пассажей шестнадцатыми все-таки ведет, как к цели, к словно бы неожиданно явившемуся сюда из медленных частей гайдновских сонат, коротенькому, но глубоко выразительному речитативному Adagio.
В Allegro C - dur 'ной сонаты у Рихтера властвует стихия подвижности, хотя его allegro (в сущности allegro molto ) благодаря идеальной выравненности темпа вовсе не кажется быстрым — не "поток", а мерно-стремительное "развертывание". В катящихся гаммах отчетлива каждая нота: "острое" legato (где-то "на пути" к non legato ), напоминающее о непреодоленных элементах клавесинизма в пианистическом мышлении той эпохи, но еще более призванное подчеркнуть волевую "непреклонность" исполнения.
Все такие частности, связанные с индивидуальными отличиями каждой из трех сонат, однако сплавляются у Рихтера в более высоком стилевом единстве. Музыка Гайдна передается им с истинно классичными строгостью и мужественной простотой (что, понятно, не имеет ничего общего с выхолощенным школьным "академизмом"). Подвижность нигде не превращается в бравуру, а изящество — в галантность, так же как лирика не обретает черт субъективизма или чувствительности.
Конструктивность явно преобладает над "прочувствованностью". Фразировка сведена до минимума, но в этих пределах несколько маркирована, чтобы у слушателей не осталось ни малейших сомнений в намерениях исполнителя — ни на волосок расплывчатости! Тембровая окраска, даже в главной партии и эпизоде " Adagio " первой части с- moll 'ной сонаты далека интимной камерности.
Звучности, особенно в пассажах, порой отсвечивают металлическим блеском. Линии прочерчены до мельчайших деталей. Рисунки выполнены без полутеней, без "растушёвок". Педаль — очень скупая.
Подобное прочтение, как бы развеивающее миф о благодушной беззаботности, веселой бесхитростной грациозности гайдновского творчества, не только противопоставлено имеющим иногда место тенденциям "романтизировать" Гайдна; оно внушает уверенность, что и самому Рихтеру вполне чужды РОМАНТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ.
"Юмореска" и "Новелетты". — Не другие выразительные средства сами по себе, не еще какие-то черты, дорисовывающие знакомый по Гайдну облик артиста, но совершенно другой мир, полный романтического волнения. В новых вариантах воссоздает Рихтер образность шумановско-гофманских карнавалов: калейдоскопическое мелькание масок, пламенные признания и робкая затаенность, нежные намеки и страстные излияния, Эвзебий и Флорестан.
Музыка то заковывается в четкие маршевые ритмы ночных факельцугов, — как в эпизоде " Nach und nach immer lebhafter und starker " из "Юморески" или в основной теме первой "Новелетты"; то, как во второй, во фрагменте " Sehr lebhaft " из "Юморески" клубится неудержимая, воздушная даже в форте, то в отрывке " Einfach und gesangvoll " из восьмой "Новелетты", охваченная внезапным раздумьем, она останавливает бег, чтобы в коде опять устремиться вперед, все увлекая в своем буйном порыве — вот, где поток!
В этом причудливом мире жизненное соседствует с фантасмагорией и нет ничего стабильного. В большом начальном разделе "Юморески" у Рихтера царит изменчивость настроений. Сперва на фоне неспешно текущего сопровождения, точно тяжелые прозрачные капли, падают звуки задумчивого напева, — и разделенные едва приметными цезурами и в то же время слитые в единой мелодической волне.
Затем вдруг возникает радостное бурлящее движение — шаловливая беготня летучих шестнадцатых, острые, слегка акцентируемые staccato . Мгновение спустя темп переходит в presto , динамика снижается до пианиссимо, колорит делается недобрым — будто в страшной, "пугающей" сказке, пунктиры в левой руке вызывают в воображении образ отдаленной скачки. И, наконец, возврат к начальной музыке, теперь уже совсем приглушенной, окутывающей слушателя дыханием мечты, воспоминания... Рихтеровское туше становится мягким, фразировка — "сплошной", педаль — обильной. Конструктивные элементы оттесняются на второй план экспрессивными.
В "Юмореске" и "Новелеттах" даже умудренному долгим опытом профессиональному музыканту не легко опознать Рихтера — исполнителя Allegro из сонат Гайдна; иные масштабы, иные краски — словно зазвучал какой-то иной инструмент, иные дистанции между пиано и форте.
В гайдновских Allegro у Рихтера — равновесие; здесь чередования нежной мечтательности и неистовой эмоциональной возбужденности, поэтической медитации, как в первых страницах "Юморески", и наивного простодушия, сердечной песенности—в ее соль-минорном эпизоде " Einfach and zart ". Там — energico , воплощающее силу мысли, в "Юмореске" и "Новелеттах" — agitato , передающее напор чувств.
В Гайдне — намеренное обнажение "общих форм движения", подчинение живописности — графике, частных оттенков — резко отграниченным крупным построениям, категоричная определенность каждого "высказывания"; в Шумане — индивидуализация рисунков, капризные rubato , не сопоставления контрастных эпизодов, а перерастание их один в другой.
"Печальные птицы", "Отражения в воде", "Шаги на снегу". — Если сонаты Гайдна рождали в нас образ Рихтера — умного строителя, готового принести на алтарь классичности даже свою жаркую эмоциональность, а шумановские пьесы—страстного романтического поэта, ищущего выразительности во что бы то ни стало, то в Равеле и Дебюсси он прежде всего — художник, непревзойденный колорист, мастер изобразительности.
В густой пелене тумана медленно проплывают смутные очертания призрачных предметов-видений. Как на некоторых пейзажах Монэ, они растворены в сумрачной зыбкой атмосфере. Откуда-то доносятся тихие всплески воды и хрустально звенящие перекликающиеся голоса птиц. Музыка не "совершается", она как бы только "существует", проявляя себя в тончайших переливах нюансов.
И в "Отражениях" — нарочитое стирание структурных граней; и здесь — господство создающей светотени полупедали, "смазанность" контуров струящихся пассажей, ирреальность тембров. В "Шагах на снегу"— та же неясность абриса, разымчивость музыкальной ткани. Пианиссимо снова достигает того предела, когда звучания моментами скорее угадываются, чем слышатся. Чудится, уже нет рояля — реальной вещи, с массивным деревянным корпусом и прочными металлическими струнами, нет крепких рук, состоящих из костей и мускулов — один лишь колеблющийся звучащий воздух.
И опять перестаешь верить, что это тот самый пианист, который минуту назад с такой удивительной теплотой и проникновенной человечностью "рассказывал" равелевскую же "Павану", маленькую музыкальную повесть об умершей инфанте; не можешь представить себе, что еще через минуту он бросит в зал снопы искр, закружит всех в дьявольском полете Пятой сонаты Скрябина!
Что же здесь ? Доступное лишь очень немногим высшее ФОРМАЛЬНОЕ мастерство, абсолютное владение всеми приемами и средствами выражения, которое позволяет артисту воспроизводить любые стили, любые образы, не вживаясь, не перевоплощаясь в них, но пребывая где-то в стороне или над ними, которое дает возможность, допустим, Стравинскому поочередно быть "корсаковцем", "неоклассиком" или додекафонистом?
Нет, прислушиваясь к Рихтеру, осознаешь, что его искусство "многолико" лишь на первый взгляд, а в действительности МНОГОПЛАННО. И приходишь к ассоциациям иного порядка, может быть, к шекспировского типа мощной объемности мысли. Ведь у Рихтера Гайдн и Шуман, Равель и Скрябин, Бетховен, Шуберт, Лист, Брамс, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович — свои, неотъемлемые. Они живут в нём, в его сознании, во всем его существе: и как отправной пункт — импульс, и как итоговый результат — созданное им, однако прежде всего как его внутренние творческие СОСТОЯНИЯ.
Последнее, при несомненной родственности, отнюдь не равнозначно ни увлеченности артиста самим процессом исполнения импонирующих ему произведений, ни специфичному для "актеров переживания" СЦЕНИЧЕСКОМУ перевоплощению. Речь идет о чем-то более общем, уходящем в глубины психики некоторых очень крупных художников, коренящемся в основных свойствах их натур.
Попытаемся пояснить сказанное примерами. В книге "Прошлое и настоящее", вспоминая, как он на сцене Художественного театра впервые выступал в роли Дмитрия Карамазова, Л. Леонидов рассказывает: "Я, Леонидов, исчез. Была вторая жизнь, не моя жизнь, а жизнь несчастного человека, которого дальше ждут тяжелые испытания. Это (имеется в виду картина "В Мокром".— Д. Р.) только увертюра. Я пришел в себя, когда после увода арестованного Мити закрылся занавес. Странно, я не понимаю, что со мной, но мне необычайно легко, могу еще раз сыграть, и даже по-новому. Только слезы подступают к горлу. Хочется плакать".
Весьма близкое читаем мы в письме Чайковского от 3 марта 1890 года: "Самый же конец оперы ("Пиковой дамы". — Д. Р.) я сочинил вчера, перед обедом, и когда дошел до смерти Германа и заключительного хора, то мне до того стало жаль Германа, что я вдруг начал сильно плакать... Потом я сообразил, почему (ибо подобного оплакивания своего героя со мной еще никогда не бывало, и я старался понять, отчего это мне так хочется плакать). Оказывается, что Герман не был для меня только предлогом писать ту или другую музыку, — а все время настоящим, живым человеком, притом мне очень симпатичным".
Разумеется, Леонидов "зажегся" в ходе спектакля; разумеется, и до того, в период подготовительной работы, он передумал и перестрадал душевные состояния изображаемого персонажа; разумеется, аналогичное происходило и с Чайковским. Однако достаточно ли всего этого для перехода от изображения, хотя бы самого верного, к ощущению чужой жизни, как "второй жизни"? И точно ли определяет Леонидов это свое "второе" существование словами "не моя жизнь"? Неправильно и вульгарно отождествлять писателей или композиторов с героями их романов, опер: актеров — с воплощаемыми ими сценическими образами.
А все же почему плакал Чайковский, когда его фантазия дорисовала смерть Германа? Чем обусловливалось испытанное им глубочайшее потрясение? Только тем, что Герман был для него "живым человеком", притом "очень симпатичным"? Вдумаемся: подобно Леонидову, и Чайковский в тот день "не понимал, что с ним", и он, вероятно, чувствовал себя "необычайно легко", словно мог бы "еще раз" написать эту сцену, "и даже по-новому".
Суть, видимо, заключается в том, что и Леонидову, и Чайковскому, каждому по-своему, были присущи некие сложные, но вполне определенные психологические комплексы, не замечаемые в обычное время и дающие о себе знать лишь в моменты художественного созидания; "творческие состояния" — различные, но в любом случае объемлющие широкий круг сходных душевных явлений и оказывающиеся общим условием силы, правдивости каждого данного конкретного "перевоплощения", находящие в нем (как это было у Леонидова в спектакле "Братья Карамазовы") одно из частных своих выражений.
Именно эти широкие творческие состояния помогали и Чайковскому и Леонидову воплощаться не просто в чьи-то образы, но в чьи-то жизни, с предельным волнением ощущать эти "чужие" жизни-судьбы, как часть своих собственных.
Захваченность такими творческими состояниями в высшей степени типична и для Рихтера. Всякий раз особенные, они у него неизменно тяготеют к двум основным полярно противоположным центрам. Один из них — музицирование.
"Состояние музицирования" не только накладывает решающий отпечаток на рихтеровскую экспрессию, ее тонус; оно соответственно "настраивает" всю его психику, меняет его "исполнительскую интонацию". Как и в приведенных примерах, оно оказывается для Рихтера общим условием и "определителем" направленности, воздействующей силы, художественной правдивости тех или иных его "пианистических перевоплощений". Конкретизируясь в нескончаемо разнообразных отдельных интерпретациях, оно опять-таки находит в каждой из них лишь одно из частных своих выражений.
Поглощая артиста целиком, "состояние музицирования" отчетливо проявляется в характере фразировки, в отборе чисто технических приемов, в туше, даже во внешней манере поведения Рихтера на концертной эстраде. Он сидит, откинувшись. Голова чуть склонена набок. Лицо задумчиво и сосредоточено. Жесты мягкие и осторожные. Кисти рук очень часто высоко подняты. Создается иллюзия, будто пальцы пианиста, едва касаясь клавишей, магнетическими пассами вызывают к реальности то, что уже звучит в его душе.
Подобные минуты рихтеровских вечеров, вероятно, имел в виду Г.Коган, писавший: <<Когда Рихтер играет, то кажется, что он находится в пустом зале, наедине с музыкой, являющейся ему, "как гений чистой красоты". Никто третий не существует для пианиста в это "чудное мгновенье". Он не стремится угодить публике, или властвовать над нею, или в чем-то ее убедить; он словно забывает об ее присутствии.
Аудитория как будто чувствует это. В безмолвии, затаив дыхание, внимает она тому, что Шуман обозначил словами: " Der Dichter spricht " ("Поэт говорит").
Именно в подобные незабываемые минуты, для которых естественнее всего было бы возвратиться к понапрасну забытому нашими критиками слову ВДОХНОВЕНИЕ, возникают у Рихтера исполнения медленных частей гайдновских сонат, финала C - dur 'ной Фантазии Шумана, некоторых шубертовскнх произведений.
В шумановском "Вечером" (из цикла "Фантастические пьесы", ор. 12) Рихтер полностью растворяется в мире звукообразов. До конца, безостаточно сливаясь с ними, он уже не "играет", не "исполняет", не "интерпретирует" (то есть на деле, конечно, и то, и другое, и третье, но главное, не в такой преднамеренности концертанта), — а как бы излучает музыку: завораживающе мерное движение "текуче"; динамика заключена в ничтожно малом диапазоне — между пиано и меццо-пиано; кажущаяся ровность темпа скрывает непрерывные rubato — едва различимые accellerando и ritenuto , тембровые переходы; ритмическая гибкость мелодии передает не столько пластику линии, сколько мельчайшие оттенки настроения,— к концу пьесы все расплывается в сгущающемся сумраке.
В Molto moderato из B - dur 'ной (посмертной) сонаты Шуберта голосом пианиста говорит сама природа. Снова по временам исчезает вещественная материальность рояля, исчезает Рихтер (вспомним: "Я, Леонидов, исчез..."), и остаются только бескрайность открытых горизонтов, глухое рокотание дальних громов, властительное спокойствие предрассветного молчания — благоуханная "поэзия тишины". Да еще певучесть (не в мелодийном и не в пианистическом "кантиленном", но в глубоком поэтическом понимании этого слова), разлитая даже не в музыке, а в порождающем ее всеохватывающем чувстве-состоянии.
В трио "Музыкального момента" As - dur ( op . 142, № 2), в предпоследней вариации Andante , poco mosso и в рондо а- moll 'ной сонаты ор. 42, в Es - dur 'ном экспромте рисунки струятся с той степенью свободы, когда перестаешь замечать их ритмическую пульсацию. Не пассажи — родник; он журчит то ласково, то звонко, то вдруг сердито, журчит, не зная никаких "опорных звуков", "сильных" и "слабых" долей, не ведая, что где-то на нотной бумаге существуют группировки черных кружочков по четыре, по шесть... И его говору можно внимать бесконечно, не утомляясь, не думая, что здесь что-то покажется "однообразным".
Тут вновь следует вернуться к леонидовскому "исчезновению". Леонидов "исчезал" в Дмитрии Карамазове; но что может обозначать это выражение применительно к Рихтеру? "Исчезает" ли он в природе, как таковой, иначе говоря, не обращается ли Рихтер в пейзажиста, рисующего природу, как она есть сама по себе ? Сгущается ли сумрак в его исполнении "Вечером", рокочут ли у него дальние громы в B - dur 'ной сонате вне зависимости от человеческих восприятий, чувствований ?
В том-то и дело, что нет. Природа для него, в полном соответствии с его собственной, рихтеровской природой, одухотворена человеком, и "ручей" в сонатах Шуберта, экспромтах, "Музыкальных моментах" — не листовский, звенящий и рассыпающийся мириадами холодных фантастических блесток ручей-фонтан, но любимый Шубертом милый и простодушный, участливый к человеку и его горестям, тот самый, что сопровождал безымянного героя "Прекрасной мельничихи" на всем трогательно печальном пути его недолгой любви.
Вот где одна из примечательных особенностей рихтеровского "состояния музицирования": не СОЗЕРЦАНИЕ природы, не изображение её в звуках, а размышление в связи с ней, но о человеке. Оттого так тепла у Рихтера первая же фраза в Мо derato из а- moll 'ной сонаты, так пронизаны сердечной болью начальные фразы второй части В- dur 'ной сонаты, так захватывают искренней и правдивой простотой переживания минорные фрагменты в Con moto сонаты D - dur , так глубоки "натур-философские" размышления в финале шумановской Фантазии C - dur .
Это, а вовсе не "абсолютная" красота пиано (область, где Рихтер после смерти К.Игумнова вряд ли знает себе равных) и не самодовлеющая выразительность фразы покоряет слушателя, внимающего рихтеровскому "музицированию".
Здесь заложен секрет неотразимости его исполнения "Музыкального момента" As - dur ( op . 94, № 6), который, если играть его в таком замедленно-ровном темпе, с такой (мнимой !) "безнюансностью" интерпретации, у любого другого пианиста показался бы нестерпимо монотонным, а от самого концертанта потребовал бы практически невозможной душевной выдержки.
Но есть и другой, так же хорошо знакомый нам Рихтер. Штурмовой атакой обрушивается он на клавиатуру в октавных лавинах разработки первой части b - moll 'ного концерта Чайковского, в октавно-терцовом фрагменте финала Второго концерта Рахманинова, в листовском этюде " Eroica ". Он сокрушает рояль и аудиторию "стенобитными" ударами sforzando в главной партии или в концовке финала Шестой прокофьевской сонаты. Уже упоминавшееся, едва ли не единственное в общеизвестной фортепьянной литературе, авторское указание " col pugno " утрачивает у Рихтера свою кажущуюся парадоксальность. В громовых "наплывах" сонаты рихтеровские фортиссимо переплескиваются за пределы Большого зала консерватории.
В таких натисках нет ничего от самоуверенной бравуры, самодовольного пианистического виртуозничества. И на сей раз мы сталкиваемся с особым творческим состоянием. И на сей раз оно завладевает артистом. Как бы заряженный тысячевольтным электрическим током, он весь — сгусток яростной энергии.
Быстрыми решительными шагами, "готовый к битве", выходит он на эстраду и сразу же, без секунды промедления начинает играть. Корпус его наклонен к инструменту, туда же неотступно направлен властный упрямый взор, локти примкнуты к телу, кисти часто опущены. Теперь он не "гипнотизирует" клавиши, — скупыми волевыми движениями он прижимает, придавливает их, воздействуя на них мускульной силой, используя естественный фактор тяжести тела. В паузах, "на выходах" из пассажей, молниеносно проносящихся через все регистры рояля, его руки, подобно высвободившимся стальным пружинам, мощными рывками разлетаются в разные стороны.
Перефразируя популярное изречение, следовало бы сказать, что руки — зеркало души пианиста. В маленьких, плотных, невообразимо ловких и столь же идеально организованных руках Годовского воплощались не только его сказочно легкая и точная, "умная" техника, но и вся разумность его исполнительского стиля. Могучие руки Рахманинова — их продолжением могли бы служить плечи Атланта, подпирающие земной шар, — как ассоциируются они с "львиным рыканием" рахманиновского пианизма!
И вот — руки Рихтера. Они громадны. Кто не знает, обычно доставляющего концертантам немало неприятных хлопот, места из финала шумановских "Симфонических этюдов" — цепь бегущих децим в левой руке ? Для рихтеровских рук подобные интервалы не проблема. Прочные и массивные, эти руки вызывают в сознании образы циклопических построек. Речь идет не об одной лишь их величине. Их материал — не хрупкий аристократический мрамор, для обработки которого требуется резец ваятеля, но рассчитанный на века простой гранит. И поверхность этого гранита не шлифованная, а только обтесанная.
Такие руки словно бы не ведают, что значит нервный трепет, восторженная экзальтация. Они как бы от природы созданы для фундаментальной кладки грузных аккордов, для грандиозных нарастаний, в кульминациях сотрясающих стены концертных помещений, для ураганных темпов, ошеломляющих контрастов, — для музыки "сверхвысоких температур".
А в то же время в них живет поэзия. Они пластичны и способны казаться невесомыми, когда воздушными касаниями рождают тончайшие, точно дуновения ветра, едва уловимые звучания. И в рихтеровских руках живут два противостоящих друг другу начала. И они в какой-то мере портретируют "двуединую" артистическую натуру пианиста.
Итак, два полюса. Однако, как и в географии, это лишь две точки, вокруг которых располагаются обширные области, сходные в наиболее общих признаках, различные в любой частности. Музицирование Рихтера объемлет разнообразнейшие сферы. Здесь "венские" классические Adagio , где спокойная ясность его интерпретаций уходит истоками к еще не смущаемой "роковыми" романтическими загадками гётевской ясности видения мира; где, как в медленной части сонаты Es - dur Гайдна, каждая вопросительная интонация словно несет в себе заранее готовый ответ; где, как в C - dur 'ной гайдновской же сонате, скромные темповые и динамические нюансы призваны лишь разграничивать отрезки "произносимой" (конечно, не декламируемой) мелодии, а экспрессия в целом подчинена генеральной задаче — помочь музыке самой высказать свою прекрасную и мудрую содержательность.
Здесь "ищущая" встревоженность интимных излияний Шумана, для которого знаменитое " Warum?" оказывается не только наименованием отдельной пьесы, но и зачастую формулой, обобщающей всю его романтическую реакцию на жизнь. Здесь утренняя свежесть шубертовских мечтаний и философичность "вечерних" медитаций Брамса. Здесь лирическая созерцательность листовского "Пейзажа", нежная горестность равелевской "Паваны", миражность "Отражений в воде" Дебюсси. Здесь и прокофьевское Andante dolce из Восьмой сонаты, в котором глубокомыслие так волнующе переплетается у Рихтера с жалобой, сомнением, реальное — со сказочным, интимно-ласковое — с изысканным и "странным".
Столь же многогранен "другой" Рихтер. Финал "Аппассионаты", где рихтеровское prestissimo в коде опрокидывает привычные представления о возможностях человеческих рук, несет на себе печать бетховенской суровой непреклонности. Обжигающая возбужденность его интерпретации "Ночью" (из "Фантастических пьес") — это Aufschwung (порыв), что и в данном случае опять надо разуметь не как название произведения, но как общую категорию, как выражение флорестановского начала в мироощущении Шумана.
Аналогичная, но всякий раз по-особому раскрываемая, неудержимо увлекающая музыку вперед, энергия пронизывает рихтеровские трактовки главной партии в первой части Большой сонаты Чайковского, B - dur 'ной прелюдии Рахманинова и финала его Второго концерта, Первого концерта Прокофьева.
Амплитуда проявлений подобных качеств индивидуальности Рихтера простирается от размеренной поступательности в начальном Allegro d - moll 'ного концерта Баха, в Allegro гайдновских сонат до одновременно порывистых и волевых, "настойчивых" интерпретаций Allegro affetuoso из а- moll 'ного концерта или десятого из "Симфонических этюдов" Шумана, до приглушенной "вихревости" в листовских "Блуждающих огнях", до "железной токкатности" в финалах Шестой и Восьмой сонат Прокофьева или — снова по-иному — в "Движении" Дебюсси; от классического risoluto и романтического passionato ( Aufschwung !) до жестокой неумолимости.
Последнее—не гипербола. Послушайте, как Рихтер исполняет "пляску гигантов" — заключительное Precipitato из Седьмой сонаты Прокофьева, взгляните на его пальцы, вгрызающиеся в клавиатуру, на его ноги, исступленно топчущие пол около педалей. Это не эксцессы показного эстрадного темперамента, — тут, пожалуй, уместнее вспомнить слово "берсеркер", которым норманны некогда обозначали неистовство, в бою охватывавшее викингов.
А сейчас возвратимся к вопросу о двуединости артистической натуры Рихтера. Мы совершили бы коренную ошибку, вздумав различать рихтеровские "состояния" исключительно по внешним формальным признакам — играет ли он пиано или форте, largo или presto .
Приведенные нами примеры имели назначение продемонстрировать его "творческие состояния" в максимально концентрированном виде. В действительности все намного сложнее. И в тишайших страницах гайдновских ли adagio , шубертовских ли moderato tranquillo (подразумевая под этими терминами здесь и в дальнейшем лишь общий характер музыки) рихтеровское музицирование неизменно напоено скрытой энергией, что делает его столь "заражающим", надежно охраняет пианиста от вялости, размагниченности; и в шопеновских con fuoco , листовских furioso , прокофьевских barbaro его динамизм насыщен мыслью и чувством, отчего исполнение Рихтера — всегда музыка.
Иногда даже бывает трудно, почти невозможно расчленить его состояния. Его интерпретация шумановской пьесы "Ночью" насквозь динамична, а вместе с тем, в самом этом динамизме — в коротких "вспыхивающих" нагнетаниях, в страстных, отрывистых "восклицающих" акцентах — сокрыто музицирование, только доведенное до градуса кипения.
В монументальной рихтеровской интерпретации B - dur 'ного концерта Брамса величие и камерность, буря и тишина, колоссальный напор и "саморастворение", не уничтожаясь, сплавляются в более высоком единстве.
Следовательно, две стихии, образующие "полюсы" искусства Рихтера, оказываются не исключающими друг друга, но, наоборот, взаимопроникающими. Они — два полюса одной планеты. Это объясняет, в частности, почему Рихтер способен мгновенно переключаться из одного творческого состояния в другое — например, в первой части Восьмой прокофьевской сонаты, где он с покоряющей естественностью переходит от трудных раздумий и скорбных сетований экспозиции к стремительности "скользящих" шестнадцатых и зловещим inquieto начала разработки и далее — к тяжеловесным фортиссимо кульминации.
Двуединость художественного мышления Рихтера ведет к важным итоговым обобщениям. Она помогает понять, почему нельзя просто ответить на вопрос — принадлежит Рихтер к "классическому" или "романтическому" направлениям в пианизме, почему такие ходовые определения не в состоянии раскрыть "тайну" его стиля?
Это обусловлено не их принципиальной ошибочностью. Конечно, как неоднократно подчеркивалось в работах о пианизме, они условны, и прибегать к ним приходится за неимением других, более точных. Конечно, пользоваться ими надлежит осмотрительно, дабы не впасть в схематизм, ибо "химически чистых" пианистов-романтиков или пианистов-классиков не существует, это — абстракции; ибо даже у столь ярко выраженного представителя романтической ветви в современном исполнительстве, как Нейгауз, мы замечаем элементы "классичности", а гинзбурговская интерпретация, допустим, григовской сонаты, удостоверяет, что и ему, типичному "классику", несправедливо совсем отказывать в чувствах и красках романтического плана.
И все же общепринятая классификация затрагивает существенное и в значительном большинстве случаев дает нам в руки ариаднину нить: она содействует нахождению, как мы писали, "доминанты", "единого" (но не единственного, а только господствующего) начала в игре многих крупнейших пианистов. Поэтому нет оснований отказываться от издавна установившихся характеристик, например Ант. Рубинштейна, Бюлова, Корто, как нет нужды пересматривать сказанное об Игумнове, Софроницком, Оборине, Гинзбурге.
У Рихтера же "романтичное" и "классичное" — разные стороны, разные проявления одной сущности. Точно так же его музицирование и его динамизм антагонистичны и в то же время связаны общей для них обоих огромной интенсивностью неразделимых музыкального размышления и музыкального переживания, необычайной активностью порождающего их человеческого духа.
В диалектическом единстве противоположных внутренних сил и заключена не сразу распознаваемая "доминанта" рихтеровского исполнительства. Именно отсюда проистекают свойственные искусству Рихтера объемность, широкоохватность, шекспировского толка многопланность.
Его искусство — своеобразная, глубоко содержательная данность. Но оно и процесс—в не меньшей степени захватывающий, поражающий своей "особостью", не схожий с тем, что встречается, как норма, в творческих биографиях множества концертантов и прошлых эпох, и нашего времени.
Впрочем, с виду все здесь вроде бы "самое обыкновенное". Высокодаровитый ребенок, родившийся в интеллигентной семье. Спокойное и серьезное воспитание, стимулирующее быстроту интеллектуального развития. От отца (пианиста и органиста, окончившего консерваторию в Вене, а впоследствии ставшего педагогом Одесской консерватории) унаследованы поэтичность, быть может, романтическая мечтательность, от матери — скорее волевые качества, организованность, стремление к порядку, доходящее порой до известного педантизма.
Так формируются черты характера, сочетающего взрывчатую интенсивность нервных реакций со сдержанностью, душевную мягкость с властностью и не знающей преград упрямой настойчивостью (кстати, не зародыши ли это грядущих "творческих состояний"?), уверенность в своих силах и внутреннее честолюбие со скромностью, даже застенчивостью, полным отсутствием внешнего тщеславия.
Любовь к литературе просыпается в юности: Гоголь, Достоевский, Шекспир, Гете; позднее — Томас Манн, Шолохов, а рядом с ними — Пруст. В школе — явное предпочтение, отдаваемое гуманитарным наукам, сравнительно, скажем, с математикой.
Специфически музыкальные способности отчетливы уже в семь лет. Успехи устойчивы и не заставляют себя ждать. Техника приходит незаметно, сама собой. Постепенно раскрываются громадные масштабы таланта. Но никакого "вундеркиндства".
Сперва начинаются публичные выступления в качестве концертмейстера, за ними— сольная программа, в которой значатся прелюдии, этюды и ноктюрны, скерцо E - dur и f - moll 'ная баллада Шопена. В своем городе молодой пианист получает признание — его ценят, им гордятся. Затем — отъезд в Москву, в консерваторию; затем — триумфальный концертный дебют в столице, еще концерты один за другим, растущая популярность; затем — первая премия па Всесоюзном конкурсе и окончание консерватории с занесением имени па мраморную доску; затем — все расширяющаяся орбита гастрольных турне на родине и за ее границами, почетные звания, правительственные награды— всемирная слава.
В этой биографии не содержалось бы ничего экстраординарного, требующего специального акцентирования, если бы приведенные факты не оказывались лишь оболочкой, внутри себя таящей нечто, куда более запутанное; если бы, в частности, временные расстояния от одного "затем" до следующего не оказывались столь непомерно большими: Рихтер родился в Житомире в 1915 году, свою первую, шопеновскую, программу сыграл в одесском Доме инженера — в 1934, уехал из Одессы в Москву — в 1937, дебютировал в Малом зале — в 1940, взял первую премию на конкурсе — в 1945, окончил консерваторию только в 1947 году — тридцати двух лет от роду!
Не станем преуменьшать особой роли обстоятельств, связанных с войной. Однако не забудем, что это время Рихтер провел в неустанном труде и как раз в промежутке с 1940 по 1945 год вошел в плеяду самых крупных советских концертантов. А значит, решение "рихтеровского ребуса" приходится искать в каких-то иных плоскостях.
Приглядываясь к пианистическим "детству, отрочеству и юности" Рихтера, мы не обнаруживаем здесь почти ничего традиционно сопутствующего первичным фазам становления больших артистов: ни осознанной или хотя бы со стороны внедренной устремленности к предстоящей концертной деятельности; ни бесконечных часов, проводимых за фортепьяно и посвященных техническому тренажу, упорному накоплению мастерства; ни знаменитых педагогов, заботливо пестующих будущего виртуоза. Сведения, почерпнутые из многих источников (включая, датированные 1960 годом, брошюру В.Дельсона, статьи Г. Нейгауза и Я. Мильштейна) и в основном совпадающие, рисуют картину далеко не стандартную.
Феноменальная одаренность вместе с непреодолимой тягой к искусству проявились у Рихтера чрезвычайно рано, но музыка вовсе не была единственной и полновластной царицей его дум. Он пытался писать драмы. Еще сильнее в нем конкурировала с музыкой страсть к театру.
Мальчиком, приезжая на лето из Одессы (куда семья перебралась, когда Рихтер был еще совсем ребенком) в родной Житомир, он со сверстниками постоянно устраивал во дворе спектакли и представления, в которых выступал в качестве автора пьес, композитора, режиссера и актера. Более того, по мнению Н. Л. Дорлиак, даже сравнительно незадолго до своего отъезда в Москву к Нейгаузу, Рихтер все еще колебался в окончательном выборе между музыкой и сценой.
В нем дремал и художник, что вдруг дало себя знать через десятилетия: в середине пятидесятых годов, на какой-то довольно длительный период оторванный от рояля случайным повреждением пальца, Рихтер с жаром обратился к краскам и карандашу, и некоторое время спустя па квартире Нейгауза друзьями была организована выставка его работ. Покойный Р. Фальк, к которому он иногда приходил за консультациями, восхищался дарованием Рихтера. Ему присущи острота зрительных восприятий и прочность "глазной памяти". В одной из своих статей Нейгауз рассказывает, как Рихтер, вернувшись однажды в Москву из Чехословакии, с завидной точностью воспроизвел на бумаге городские пейзажи, запомнившиеся ему по ходу концертной поездки.
"Художническое" и "музыкальное" соседствуют в Рихтере. В статье Н. Элиаша, опубликованной в № 2 журнала "Театральная жизнь" за 1961 год, мы читаем, что Рихтер и в живописи, как в музыке, любит поэзию контрастов: клочок зеленой травы, нежные цветы на фоне раскаленного уличного асфальта или стоящие рядом огромные новые здания и крохотные старые домишки... Со своей стороны, Нейгауз пишет, что в основе ряда рихтеровских интерпретаций лежат ранее возникшие в фантазии пианиста предметно-зрительные образы.
Ярчайшая характеристичность, с какой Рихтер передает "Картинки с выставки" Мусоргского, прокофьевские "Мимолетности" и сюиту из "Золушки" или бетховенские "Багатели", прелюдии и "Остров радости" Дебюсси или пьесы Равеля, подтверждает правоту Нейгауза.
В таком случае естественно предположить, что и "шубертовский ручей", и "бескрайность горизонтов" в сонате B - dur , и шумановские карнавальные "гофманиады" в "Новелеттах" или в "Юмореске" — в момент рождения исполнительских замыслов были не только услышаны, но и "увидены" Рихтером. И тогда столь же трудно отказаться от мысли, что в детские и отроческие годы пианиста "художническое", еще не будучи в состоянии Слиться с "музыкальным" и сделаться его верным слугой и помощником, также, наряду с искушениями театра, не могло не отвлекать Рихтера от подлинного призвания — музыки.
Но ведь и в этой решающей для Рихтера области слишком многое слишком долго оставалось не до конца определенным. Приобщившись к фортепьяно в семилетнем возрасте, Рихтер начал с композиции. Он увлекался импровизаторством и, по свидетельству Нейгауза, до сих пор в интимном кругу импровизирует охотно, часто говорит о желательности возрождения импровизации, как особого вида музыкального искусства. В юности у него имелись вполне законченные произведения. Нейгауз не раз высказывал мнение, что только скромность мешает Рихтеру обнародовать их. Сам Рихтер заявляет, что к 22 годам он перестал сочинять. Как бы то ни было, однако, отправной точкой в музыкальной биографии Рихтера явилось именно творчество. Факт знаменательный! А рядом с творчеством — игра в ансамблях.
И в настоящее время Рихтер регулярно выступает как участник камерных концертов. Его имя постоянно можно увидеть на афишах советских квартетных коллективов. Ансамблист Рихтер необыкновенный, в своем роде не менее замечательный, чем концертант-солист. Его ансамбль с Н. Дорлиак завоевал исключительную популярность у слушателей. На протяжении более чем полутора десятилетий, выступая по многу раз за сезон, эти два выдающихся артиста исполнили едва ли не все существующее в камерно-вокальной литературе.
На долгие годы запечатлелись в сознании их совместные интерпретации романсов Глинки, Мусоргского ("Детская"!), Чайковского, Рахманинова, Мясковского, Прокофьева (достаточно напомнить хотя бы "Гадкого утенка"), Шостаковича, а из западноевропейской музыки, среди бесчисленного — от Баха до Дебюсси и Равеля, — "Прекрасной мельничихи" и "Зимнего пути" Шуберта, шумановских циклов "Любовь поэта" и "Любовь и жизнь женщины", романсов и песен Моцарта, Бетховена, Брамса, Гуго Вольфа...
Камерно-ансамблевое исполнительство никогда не оказывалось для Рихтера чем-то побочным, случайным. Точно так же, даже сделавшись всемирно известным концертантом, он в ансамбле не ставит себя в положение "гастролирующей знаменитости". Опять-таки нельзя не вспомнить, как несколько лет тому назад, играя однажды d - moll 'ный концерт Баха, он отодвинул рояль в глубь оркестра, правильно сведя солирующее фортепьяно к роли concertino в классическом concerto grosso.
В возрасте же 15—20 лет, в Одессе, концертмейстерство, аккомпанемент, которыми он занимался не вынужденно, а по собственному влечению, составляли для Рихтера одну из основных (если не главенствующую) форм практического проявления себя в музыке.
И, наконец, дирижерство — первая мечта Рихтера уже как самостоятельного исполнителя. Желание увидеть себя во главе оркестра не следует считать случайной прихотью молодого музыканта. Оно не покидает Рихтера и по сей день. Несколько лет тому назад был даже концерт, в котором он предстал перед публикой, вооруженный заветной палочкой: 18 февраля 1952 года, в вечер московской премьеры Симфонии-концерта Прокофьева, Рихтер как дирижер аккомпанировал М. Ростроповичу. Это доброе начало не нашло продолжения. А жаль!
Рихтер с его всеобъемлющей музыкальностью, с его волей, с его совершенным слухом, с его способностью не только "поглощать" партитуры, но и вникать в их сокровенную суть, короче, — со всеми его разносторонними достоинствами, вероятно, смог бы весьма скоро превратиться в дирижера первого ранга. Пианизм не явился бы тому препятствием — напомним прославленную именами Бетховена, Мендельсона, Листа, Бюлова, Балакирева, Антона и Николая Рубинштейнов, Рахманинова, замечательную традицию совмещения в одном лице пианистического и дирижерского амплуа.
Подчеркнем: несмотря на обнадеживающую успешность ранних пианистических выступлений, в последние годы "одесского периода" дирижерство манило к себе Рихтера сильнее чего-либо другого. В.Дельсон в брошюре "Святослав Рихтер" прямо утверждает, что вопрос о своем дирижерском будущем был тогда для Рихтера решен бесповоротно, и только не дождавшись, возможно даже обещанного ему, дирижерского дебюта, Рихтер в 1937 году уехал в Москву. Зачем? То ли чтобы, отбросив прочие соблазны, полностью сосредоточиться на пианистическом поприще, то ли чтобы впервые начать по-серьезному учиться игре на фортепьяно.
Столь туманные "то ли" весьма точно отражают тогдашнее, до неправдоподобности странное положение вещей в рихтеровском исполнительстве. Пианизм и заполнял его жизнь, и вовсе не был в ней главенствующим фактором. Рояль существовал для Рихтера не как цель, но скорее как средство общения с музыкой. Каждый свободный свой час он отдавал инструменту. Однако он не работал в школьном смысле слова, а именно играл, с листа прочитывая бесчисленные оперы и симфонии.
Интерес к новому вообще характерен для Рихтера. Это также является важным стимулом непрестанного расширения его репертуара. Он первым после автора играл в Москве Шестую сонату Прокофьева и его же Пятый концерт, первым (совместно с А. Ведерниковым) — бартоковскую сонату для двух фортепьяно и ударных, — всего не перечтешь!
Заметим попутно, что поиски новизны никогда не приводили Рихтера к увлечению крайностями модернизма: Хиндемит, Барток для него — разумный предел. Уже в Одессе он успел собрать внушительную коллекцию клавиров, партитур и неутомимо обшаривал местные магазины, библиотеки, частные нотные хранилища в поисках еще неизвестной ему музыкальной литературы, в том числе, разумеется, фортепьянной. Жадности к познанию здесь имелось больше, чем системы.
Не было системы и в его собственно пианистических занятиях. Первым наставником Рихтера оказался отец, познакомивший мальчика с основами фортепьянного искусства. Но дальше этого дело не пошло: по-видимому, им не легко было найти в музыке общий язык. Приблизительно в то же время Рихтера определили в детскую музыкальную школу. Он и тут "не прижился" — стремление к самостоятельности вступало в непримиримый конфликт с техническими навыками и художественными правилами, прививаемыми извне. Бросив школу, Рихтер ДО САМОГО ПРИЕЗДА В МОСКВУ НЕ ВЗЯЛ БОЛЬШЕ НИ ОДНОГО УРОКА!
Примерно в шестнадцатилетнем возрасте он прочно обосновался в самодеятельном кружке при Доме моряков. Трудно предположить, чтобы клубные художественные руководители, да еще в те давние времена, в состоянии были обеспечить должные условия для развития рихтеровского таланта. Но и будучи, по существу, предоставлен самому себе, он уже очень скоро сумел без чьей-либо помощи одолеть листовскую сонату h - moll . При всей удивительности такого факта удивляться ему не приходится: ведь научился же юный Рихтер, почти не зная музыкально-теоретических дисциплин, вникать в тонкости сложнейших оркестровых партитур — блистательный самоучка!
В Доме моряков Рихтер испробовал свои силы как концертмейстер. Здесь же он в 1930 году в такой роли впервые предстал перед публикой. За этим дебютом вскоре последовали другие выступления, и среди них — упоминавшийся шопеновский вечер, о котором в брошюре В. Дельсона говорится: "...Концерт прошел удачно. Талант пианиста не вызывал сомнений. Он покорял яркой артистичностью, творческим своеобразием". Цитируемые строки сопровождены, однако, весьма важными замечаниями.
Во-первых, пишет В.Дельсон, "первое самостоятельное выступление девятнадцатилетнего Рихтера явилось для многих полной неожиданностью" — то самое, что в каких-то чертах и через шесть лет повторилось в Малом зале Московской консерватории. Во-вторых, при всей успешности концерта, "на исполнении сказалось отсутствие эстрадного опыта, недостаточная отшлифованность произведений" (последствие бесконечной читки с листа и исключительно быстрого выучивания на память!).
Наиболее же симптоматичны слова, которыми автор брошюры завершает рассказ о рихтеровском концерте 1934 года: "Казалось бы, начало пианистической карьеры!.. Но Рихтера она не интересует".
Вернее, — еще не интересует! Мысли его пока поглощены дирижерством. Недаром три года отделяют Рихтера от поступления в нейгаузовский класс; три долгих года, потраченных на концертмейстерство в одесских филармонии и оперном театре, на аккомпанирование, разучивание партий с певцами, участие в оркестровых репетициях; три драгоценных года, в течение которых пианизм все еще остается для него лишь "средством общения с музыкой", а в сущности, как таковой, занимает второстепенное место в его помыслах.
Следует ли считать одесские годы "потерянным периодом" в жизни Рихтера ? Пожалуй, нет. Неизбежные черты любительства, несомненно наличествовавшие тогда в его игре, во всем его отношении к пианизму, с лихвой перекрывались накоплением настоящего профессионализма— внутреннего, притом широчайшего диапазона. Его работа с певцами, в оркестре только поверхностному взгляду может представляться уходом в прикладную музыку, к ремесленничеству: на деле и тут все подчинялось задачам подлинно творческим, и опять-таки — широчайшего диапазона.
Артистические биографии Рихтера и его учителя Г. Нейгауза по фактам, по тенденциям очень различны. А все же и о молодом Рихтере не явилось бы ошибкой сказать: теряя в одном, он находил в другом.
Мы вплотную приблизились к разгадке парадокса, о котором выше шла речь. И в нем заключена характерная для рихтеровской натуры глубокая диалектичность, объясняющая, почему Рихтер так поздно вступил на артистический путь; почему он сумел "наверстать" упущенное в смысле достижения всеобщего признания, условно говоря, за один вечер — 26 ноября 1940 года; почему он в свои тогдашние двадцать пять лет был сразу воспринят как законченный пианист мирового класса; а наряду с этим, почему ему потребовалось еще длительное время для окончательной кристаллизации. Вот, где причины столь медленного — постепенного, поступенного !— "дозревания" Рихтера.
Мы уже отмечали, что едва ли не каждый новый сезон знаменовал вступление Рихтера в следующий этап духовного формирования. Это не преувеличение. Диалектическое единство противоречий проявляется у Рихтера даже в репертуарной области.
С одной стороны, репертуар его всегда был безграничен: "прочитанное с листа" оказывалось тут же "усвоенным".
С другой, – нельзя отнести за счет случайного стечения обстоятельств, что Бетховен всерьез вошел в орбиту творческого внимания Рихтера гораздо позднее, чем это бывает у пианистов, профессиональная подготовка которых ведется систематично и в соответствии с общепринятыми педагогическими принципами; что клавирного Баха в должном объеме Рихтер практически познал только в середине сороковых годов, когда вынес на эстраду оба тома "Хорошо темперированного клавира"; что его шопеновский репертуар и сегодня во многом повторяет то, что содержалось в программе концерта, в 1934 году данного им в одесском Доме инженера, — некоторые этюды, E - dur 'ное скерцо, баллада f - moll .
Подытожим. В любом аспекте, будь то острота непосредственного "музыкального ощущения", способность полностью реализовать интерпретаторскне замыслы на рояле, репертуар, — Рихтер уже в последние годы пребывания в Одессе удовлетворял требованиям, предъявляемым концертантам первейшей категории.
На дорогу пианистической автодидактики его толкнули не капризы избалованного похвалами "премьера", не провинциальное зазнайство; просто в Одессе ему не у кого было учиться. При всей недооценке подлинного значения пианизма для своей жизни и дальнейшей судьбы Рихтер не мог не осознавать, что на голову перерос даже лучших из тамошних профессоров. Вместе с тем отсутствие квалифицированного руководства сказывалось во всем. В любом из перечисленных аспектов перед Рихтером открывался, что называется, непочатый край работы. Тут-то пришел к нему на помощь Нейгауз.
Рихтер числился его студентом почти десять лет. Фактически он находился под его опекой гораздо меньше, ибо сперва война, забросив Нейгауза в Свердловск, на длительный срок оторвала учителя от ученика, а затем только непрерывная концертная деятельность, помешав Рихтеру своевременно сдать некоторые экзамены, оттянула формальное окончание консерватории до 1947 года.
Учил ли Нейгауз Рихтера ? Несомненно. Надо было восполнить отдельные неизбежно образовавшиеся пробелы. Пришлось кое-что подправить в "пианистической механике" Рихтера — допустим, снять излишние мускульные напряжения, обусловленные концертмейстерской привычкой чуть-чуть "дирижировать" (локтями, плечами, головой) в ходе разучивания партии с певцами или в процессе самого аккомпанирования.
В известных коррективах, конечно, нуждались и рихтеровские трактовки. Однако все такое делалось словно попутно, не занимало в уроках центрального места и брало минимум времени. Нейгауз рассказывает, что, например, на прохождение с Рихтером h - moll 'ной сонаты Листа у него ушли не недели, а то и месяцы, как это обычно бывает, а какие-нибудь 30 — 40 минут в течение одного занятия!
Что получил Рихтер от Нейгауза? Техник? Она у Рихтера и без того была беспредельной. Внешнюю холёность, полированный блеск игры? Подобные качества равно чужды и Рихтеру, и Нейгаузу как концертантам. Музыкальность? Привить ее бессилен даже гениальный педагог. Но если она есть, ее можно устремить по наиболее верному руслу, заменяя интуитивные догадки точным знанием, давая молодому пианисту более широкие представления о существующих разных исполнительских традициях, обогащая столь необходимую для художника ассоциативную сферу мышления. Это и стало генеральной задачей.
Со свойственной ему чуткостью Нейгауз уловил специфику рихтеровского дарования и, ничего не навязывая, не насилуя природу ученика, дал решающий толчок развитию основных особенностей его творческой индивидуальности, шире того — ЕГО ЛИЧНОСТИ.
Нейгауз воздействовал на Рихтера как педагог и как человек, в доме которого Рихтер прожил три с лишним года — до начала войны—и где он переступил трудный, опасный порог, отделяющий артистическую юность от зрелости. Окружив Рихтера атмосферой и поэтической и высоко интеллектуальной, Нейгауз положил конец его колебаниям, укрепил в Рихтере отношение к пианизму, как к огромной жизненной цели, сюда направил его чудовищную работоспособность. Не побоимся сказать, что не столько в классе, сколько в доме Нейгауза началось восхождение Рихтера к вершинам, на которых ныне пребывает его искусство.
В лаконичной, но полной ценных мыслей статье "Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер (опыт сравнительной характеристики)", цитируя слова Бузони "...Я требую от большого пианиста такой оснащенности и подготовки, чтобы пьеса, которой он еще не играл, не могла уже поставить перед ним никаких незнакомых задач", Г.Коган указывает, что "Рихтер в полной мере отвечает этому требованию. Трудно назвать другого пианиста, которому новое произведение давалось бы так легко, который с такой поразительной быстротой все расширял и расширял бы свои и так уже необъятный репертуар. Любая музыка для него — открытая книга, открытая как с технической, так и с духовной стороны. Последняя сторона — самая сильная в искусстве Рихтера".
Проницательные и меткие соображения! Не свобода ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕОДОЛЕНИЯ, но именно ГЛУБИНА ДУХОВНОГО ПОСТИЖЕНИЯ МУЗЫКИ составляет главное в Рихтере. Как у всякого истинного художника, верность "изображаемому" сочетается у него с наличием своего видения.
Его исполнения, всякий раз индивидуализированные, несут в себе черты ОБОБЩЕНИЯ. Великие композиторы существуют в его сознании и как авторы тех или иных в данную минуту играемых пьес, и как НЕКИЕ ЦЕЛОСТНЫЕ ОБРАЗЫ. Мы попытались показать это на примере Allegro трех гайдновских сонат. Однако аналогичное возможно усмотреть в любом значительном разделе рихтеровского репертуара.
В каждой из 48 прелюдий и 48 фуг "Хорошо темперированного клавира" Рихтер находит "особенное". Каждую из них он трактует как монолит: в одном звуковом колорите, соблюдая строжайшее единство движения. В целом же он играет их очень активно, но с аскетичной простотой экспрессии, всячески избегая каких-либо эмоциональных фразировочных "подчеркиваний", подчиняя интонационную выразительность логике полифонического развития, сообщая баховской музыке — и в ликовании, и в скорби — оттенок словно бы "внеличной" философичности.
Его Бетховен — это ни в чем не схожие интерпретации D - dur 'ной сонаты ор. 10, № 3 или F - dur 'ной op . 54, B - dur 'ной op . 22 или d - moll 'ной op . 31, №2, "Патетической", или Es - dur 'ной op . 31, № 3. Но это и е д и н ы й Бетховен: "плебейский" Юпитер-громовержец, Бетховен мощных мужественных чувств, скорее конфликтный, чем трагедийный, скорее неукротимый, чем страстный, скорее потрясающий, чем волнующий, в лирике — предающийся глубоким, иногда скорбным размышлениям, но не "жалующийся"; в веселье—порой по-деревенски грубоватый (будто слышишь в менуэте грузное притоптывание крестьянского каблука !), но не грациозный. Рихтер отлично улавливает разницу между бетховенской "аппассионатностью" и романтическим passionato , бетховенским brio и романтическим con fuoco , бетховенским dolente и романтическим lamentoso .
В Шуберте он вовсе не замыкается в рамках романтической меланхолии. Его не страшат здесь ни шквальные вспышки, ни внезапные контрасты света и тени. Однако и прежде всего он передает (а может быть, точнее было бы сказать—ощущает, переживает) музыку Шуберта, как немецкую романтическую Lied , где песенность разлита не в одном лишь мелосе, а в покоряюще скромной, "стыдливой" искренности лирического порыва и кристальной целомудренности чувства, где звуки исходят как бы из самой души.
Рихтеровский Лист насквозь динамичен, что, понятно, ни в коем случае не следует смешивать с бравурностью, с тем, что сделало Листа кумиром пианистов "виртуознического" направления. Властность, огненность влекут к себе Рихтера в Листе раньше, нежели ламартиновского толка патетика или поэтичные "зарисовки" путешествующего философа-созерцателя, чем фаустовские сомнения или мефистофельская ирония. Не потому ли так долго искал Рихтер ключ к h - moll 'ной сонате; не потому ли и сейчас еще в его интерпретации "Хоровода гномов" на первом плане оказываются не "демоническое начало" (как у Рахманинова, например), а волевая, моторная настойчивость триолей в левой руке и неудержимое "кружение" пассажных водоворотов—в правой; не потому ли и "Блуждающие огни" для него— не столько "чертовщина", сколько опять стремительность мчащегося звукового вихря.
Его Рахманинов в большей мере титаничный, "колокольный", чем элегический, "пейзажный". Оттого во Втором концерте лучшее у Рихтера все-таки финал, а не начальные две части, где наряду с подлинными художественными прозрениями кое-что воспринимается в его трактовке как нарочитое, придуманное.
В Скрябине Рихтер акцентирует не эротические томления, не таинственность "мистических озарений" и не аристократическую утонченность, но полётность; взрывчатость.
В прокофьевском творчестве (имея в виду не отдельные интерпретации, а рихтеровского Прокофьева в целом) неуёмность хлещущего темперамента сплавляется у него с проникновенной интимной задумчивостью, нежной сказочностью, колючесть ритмов, каменистая жесткость звучаний в массивных нагромождениях кульминаций — с изысканным лиризмом, "скифство" — с романтикой.
Говоря о "баховском", "бетховенском", "шубертовском", "листовском", "рахманиновском", "скрябинском", "прокофьевском" Рихтере (а таких "разных Рихтеров" столько же, сколько есть крупных, играемых им композиторов !), часто приходится использовать одни и те же или очень близкие сравнения, эпитеты. Это печальное свидетельство бедности словаря, но не рихтеровского искусства. На самом деле, знакомые нам "мечтательность" или "порыв", "лиризм" или "стремительность", будучи у Рихтера вполне определенными, в каждом отдельном случае получают частные выражения — так же вполне определенные и отграниченные от смежно-родственных им. И здесь мы снова сталкиваемся с одной из существенных особенностей его исполнительства.
Рихтер наделен острейшим чувством музыкального времени. Правильнее было бы сказать, что он владеет временем. Составляя часть неделимого "исполнительского переживания", время словно бы различно для Рихтера в различных произведениях: одно, допустим, в Andantino grazioso из шумановского концерта, другое — в третьей части B - dur 'ного концерта Брамса, третье—в финале "Аппассионаты", четвертое—в C - dur -ном шопеновском этюде ор. 10, № 1. Allegro molto в первой части сонаты C - dur Гайдна кажется у Рихтера обыкновенным allegro , ибо фактическая быстрота не только в восприятии аудитории, но и для самого пианиста сливается с общей интенсивностью трактовки.
При точной соразмеренности всех темповых градаций и переходов, у Рихтера в рамках каждого "данного времени" имеются свои относительные, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ "быстро" и "медленно", подчас не совпадающие с привычными показателями метрономической шкалы, но создающие у слушателя отчетливое, ни с чем не смешиваемое ощущение характера движения. As - dur 'ный "Музыкальный момент" (ор. 94, № 6) Шуберта Рихтер играет заторможеннее, a f - moll 'ную балладу Шопена — скорее общепринятого. Однако ни первый не оставляет в его "передаче впечатления затянутости, ни вторая — торопливости. Лишь после окончания рихтеровских исполнений скерцо из Восемнадцатой сонаты Бетховена, финала "Аппассионаты", "Хоровода гномов" осознаешь, в каком невообразимом темпе играл пианист.
И в динамической сфере относительное преобладает у Рихтера над абсолютным, психологическое — над фактическим. Играя "вполголоса", он заставляет аудиторию слышать и пианиссимо, и фортиссимо. Любая из темповых, динамических, тембровых красок у него — целый мир, богатый разнообразнейшими внутренними оттенками, а в последнем счете уходящий к тому или иному творческому состоянию пианиста.
Тут следует еще раз подчеркнуть, что и сами эти состояния возникают у Рихтера не как "состояния вообще". Обобщаясь в категории "музицирования", "динамизма", они всегда отмечены у него качественной конкретностью, порождаемой стилем, интонационным строем, эмоциональным колоритом, содержанием исполняемого. Отсюда становится понятным, каким образом Рихтер, без ущерба для конечных художественных результатов, может так подолгу пребывать в орбите однородных выразительных средств.
В финале бетховенской сонаты d - moll он раскрывает все репризы, и все-таки чем дольше звучит длиннейшее рондо, чем меньше Рихтер расцвечивает его фразировочной нюансировкой, тем "обиднее" думать, что это удивительное, завораживающее исполнение вот-вот кончится. Рихтер не боится объединить в одном концерте, например, восемь прелюдий и фуг Баха, Es - dur 'ную сонату Гайдна и шубертовскую фантазию "Скиталец". Чтобы взяться за такую, лишенную и тени внешней эффектности программу, нужна непоколебимая вера в музыкальное искусство: стоит концертанту хотя бы на секунду подумать, что слушателям станет скучно, и он пропал!
Однако именно это выступление (датированное не то 1946, не то 1947 годом) превратилось в одну из тех замечательных побед пианиста, которые за десять лет до того предугадывал Нейгауз, радостно приветствуя Рихтера в своем классе. Случались ЦЕЛЫЕ СЕЗОНЫ , на протяжении которых Рихтер, вызывая неизменные восторги аудитории, играл, говоря условно, не громче скромнейшего меццо-пиано, не скорее умереннейшего allegretto , — оставался в одной из своих стихий.
Впрочем, только ли стихиями являются его творческие состояния ? Стихия в какой-то мере безотчетна. Напротив, Рихтера даже в отдаленном плане нельзя сопоставлять ни с концертантами, в присутствии публики теряющими власть над своим темпераментом, ни с музыкантами типа тургеневского Лемма, пассивно отдающимися импровизаторскому музицированию, незнающими, куда в следующий миг поведёт их стихия нахлынувшего настроения. И в минуты страстной увлеченности Рихтер на эстраде не утрачивает способности к самоконтролю. Он всегда твердо знает, что ему должно делать. Вольный полет фантазии, непосредственность творческого процесса сочетаются у Рихтера с точнейшим расчетом, с четкой продуманностью плана трактовок, путей практического осуществления исполнительских намерений.
В таком единстве вдохновения и разума, эмоционального и интеллектуального — один из секретов неодолимо воздействующей силы рихтеровского искусства, то, что делает Рихтера больше, чем только громадным пианистом, только замечательным концертантом, но ВЛАСТИТЕЛЕМ ДУМ, ПОКОРИТЕЛЕМ своей аудитории.
Однако тут же приходится искать причины и некоторых его слабостей. В тех, далеко не частых случаях, когда в душевном плаче что-то мешает пианисту, жизненный пульс его экспрессии вдруг падает, в нее вкрадывается чисто умозрительная "отрешенность". Так, однажды, словно вовсе унесенная в некие заоблачные выси, с уже абстрактной "бесплотностью" прозвучала у Рихтера любимая им В- dur 'ная шубертовская соната. Иногда его игра неожиданно делается формальной. В других случаях его динамизм становится утрированным, и, допустим, в "Сновидениях" Шумана (из "Фантастических пьес") на место потока мятущихся смутных видений является жесткая металличность звучаний, а в "Новелеттах" шумановская романтическая трепетность подменяется наэлектризованиостью, Aufschwung — прямым напором.
Интеллектуальная сторона постижения музыки порой приводит Рихтера к упрямому догматизму. Не этим ли объясняется безоговорочное выключение им из своего репертуара каких-либо транскрипций или, например, противоречащая характеру данной музыки, явно нарочитая (во что бы то ни стало !) замедленность темпов в ряде эпизодов Moderato и Adagio sostenuto Второго концерта Рахманинова ? Рихтеровские исполнения Баха производят неизгладимое впечатление. А все-таки в их "аскетизме", в непременном отстаивании "внеличности" баховского творчества есть и доля умозрительной преднамеренности. Не случайно его трактовка "Хорошо темперированного клавира" породила в свое время столь горячие споры.
Настоящих художников надлежит судить не по их частным (неизбежным, ибо они живые люди) ошибкам и заблуждениям, но по тому, что оказывается основным законом их творчества. Кто же Рихтер — "классик" или "романтик", мыслитель или поэт, бетховенист, шубертианец или, может быть, шопенист, что, наконец, ощутилось в его последних исполнениях E - dur 'ного скерцо и еще явственнее — коды As - dur 'ной баллады?
Отбросим якобы обязательные "или". Диалектика рихтеровского исполнительства включает в себя подобные антитезы, как разные проявления единого и ЦЕЛОСТНОГО. А кроме того, — и это самое главное — он художник большой души, искреннего, правдивого чувства, влюбленный в музыку, верящий в ее красоту и великое этическое назначение, бескорыстно служащий ей, ибо она сама служит людям.
Это и есть ОСНОВНОЙ ЗАКОН его творчества!
(1962 г.)

Я.Мильштейн.
«Советская музыка», 1963, №12
СЛУЖЕНИЕ МУЗЫКЕ
Наше поколение было еще молодо, когда на концертной эстраде впервые появился Святослав Рихтер, Мы были изумлены, взволнованы, потрясены. Ибо перед нами предстал артист редкой, оригинальной и сильной -индивидуальности.
Чем же именно так пленил нас Рихтер? Что сразу же привлекло к нему всеобщее внимание? Не ошибусь, если скажу, что поразил его столь всеобъемлющий, многогранный талант, сочетавший в себе силу и нежность, твердость и мягкость, опьяняющую страсть и трезвый ум. Казалось, что для пианиста не существует препятствий, нет тайн в мире музыки. Все преподносилось им с предельной ясностью, «зримостью», раскрывалось до конца.
Слушать Рихтера уже в те годы было великой радостью. Его искусство переполняла бьющая через край жизненная энергия, свежесть, не-растраченность чувств. Блеск и неисчерпаемое богатство красок сочетались в его игре с графически четкими линиями, одухотворенная стихия, окрыленность – со сдерживающей силой интеллекта. Словно вспыхивали зарницы, которые разом освещали все вокруг...
Шли годы. Талант Рихтера мужал, ширился, становился все более и более универсальным. Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Брамс, Дебюсси, Скрябин, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович оживали под его пальцами, не похожие один на другого и в то же время рожденные в едином творческом порыве. Оставаясь всегда и во всем самим собой, Рихтер бесконечное число раз менял свое «амплуа». Каждый композитор, к творчеству которого он обращался, не только привлекал его; каждый раз он воплощал музыку по-особенному, характерными штрихами. «Надо играть разное и обязательно хорошее, играть по-разному и обязательно хорошо» – слова эти стали его девизом.
Рихтер никогда не умел благодушно пожинать плоды своей славы. Он неизменно предъявлял к себе самые высокие требования и шел вперед, никогда не удовлетворяясь достигнутым. Путем настойчивых размышлений, напряженной работы и сознательных усилий он добивался еще большей широты, глубины, многогранности. Он вбирал в себя все, что ему представлялось важным, все родственное, необходимое для творчества.
Таков он и сейчас, в пору высшего расцвета своего таланта. Он откровенно говорит: «Я хочу прежде всего познавать музыку. Меня интересует сама музыка. Я – слуга музыки». Это артист, который по-прежнему с фанатической преданностью служит большой правде искусства. Для него высшее счастье – раствориться в воле избранного им композитора и передать намерения его с максимально возможным совершенством. Не случайно ему «интереснее» знать, как это сочинение играет тот или другой исполнитель, чем знать, как этот исполнитель играет то или иное сочинение». Уважение его к искусству поистине беспредельно: «Иначе,– признается он,– ничего не достигнешь».
Если попытаться охарактеризовать вкратце путь, пройденный Рихтером в. последние годы – годы непрерывного блистательного концертирования, то лучше всего сказать так: борьба за совершенство воплощения, за правду, точность и глубину выражения. Именно этим рождены такие замечательные артистические достижения Рихтера, как его записи последних лет.
Начиная с осени 1960 года - Рихтер записал в различных странах свыше пятидесяти произведений, в большинстве своем крупных.
Поистине нужно было бы сложить вместе усилия нескольких плодовитых исполнителей, чтобы сыграть столько музыки. Если же независимо от числа произведений вдуматься в размеры, значение и качество записей, то получится поразительная картина, дающая самое высокое представление о силе и возможностях исполнителя
Перед нами изумительно четкие замыслы в достойной оправе, сплав героики и мощного1 драматического порыва с эпически величавым спокойствием и поэтически созерцательной мечтательностью, искусство чистое, целомудренное,, проникнутое душевной и нравственной силой. Мера, строгость, порядок во всем и, главное, цельность восприятия, единый охват, которые ведут к тому, что исполняемое произведение лежит перед артистом «как огромный пейзаж, видимый сразу целиком и во всех деталях с орлиного полета, с необычайной высоты и с невероятной ясностью» (слова Г. Нейгауза).
Его концерты Листа – подлинный шедевр. Трудно идти дальше в искусстве исполнения, в раскрытии внутреннего смысла стиля и всех его особенностей. Трудно достигнуть подобного совершенного слияния музыки и интерпретации, замысла и воплощения. Вот ми бемоль-мажорный Концерт – произведение достаточно хорошо известное и, казалось бы, не оставляющее места для новых находок. Не знаешь, чему здесь у Рихтера больше удивляться – великолепно звучащей первой теме с ее героически-призывными штурмующими октавами и аккордами или каскадам пассажей в каденциях, трогательной в своей целомудренной простоте лирической до-минорной теме или легким переливам (quasi агра) шестнадцатых в заключении первой части?
А Quasi adagio, где глубокое раздумье и мягкое cantabile си-мажорной темы органично переходят в патетические возгласы речитатива, в свою очередь сменяющиеся умиротворенно-нежными пасторальными настроениями до-мажорного эпизода (Рихтер играет этот эпизод в отличие от всех известных нам исполнений в таком же медленном темпе, как и начало второй части, – создается впечатление какого-то особого возвышенного спокойствия, безмятежности). Или стремительно легкое, звонкое скерцо, в котором причудливые извивы мелодической линии переданы, с неповторимой четкостью и живостью выражения: нет ничего приблизительного и расплывчатого, ничего тяжеловесного – все отработано ритмически и пластически в наимельчайших оттенках, все заключено в строгие рамки безупречного вкуса. Или, наконец, радостно-победное ликование финала, где пассажи, звучащие со вновь, и вновь вспыхивающей энергией, несутся словно подхваченные вихрем, но не беспорядочно, а с величайшей ритмической организованностью; все кажется сделанным с завидной легкостью – точными, ясными, не знающими усилий штрихами. Соотношение частей в Концерте идеально, чувство меры безошибочно. Рихтер мастерски умеет, когда нужно, сократить свой размах и смягчить краски. Резкий мазок и глубокие тени, дерзновенные контрасты и яркие взлеты сочетаются у него с акварельно тонкими оттенками, с почти неуловимыми колебаниями настроений. Достигнута наибольшая выразительность при наименьшей затрате средств.
@@@@@@@@@
Столь же примечательно – но в несколько ином плане – исполнение Концерта ля мажор. Если первый концерт поражает нас органической завершенностью, можно сказать, почти классической ясностью и стройностью интерпретации, то второй впечатляет прежде всего романтической устремленностью, мощным взлетом, порывом, натиском. Смена различных картин-настроений проведена здесь с редкой выпуклостью. Великолепно воссозданы, например, мечтательно-лирические созерцательные образы вступления, полные скрытой силы траурно-суровые аккорды грозного марша (ре минор), нежность лирических эпизодов, героическая поступь Allegro deciso и Marziale (словно картины ожесточенных битв), наконец, ослепительный торжествующий финал. Резким сгущением, контрастами красок достигается усиление впечатления и в то же время – никакой развязности. Построение фраз и динамических нарастаний очень просто, благородно. Даже в местах патетически приподнятых все естественно дышит, живет, движется. Точность не превращается в мелочную ограниченность. Целое запечатлено с такой же силой, как и любая отдельная деталь.
В записи концертов Листа есть что-то особенное, не поддающееся до конца анализу. Она как будто овеяна мудростью. Она верна духу оригинала, но не чрезмерно. Она передает листовский текст точно, но не воспроизводит его рабски. Звучность, в которой она развертывается, блеск и свежесть красок, атмосфера высокой творческой мысли, которой она насыщена, – все это создается одновременно интеллектом и фантазией. Не будет преувеличением сказать, что запись показывает нам Рихтера во весь рост и дает понятие о той степени совершенства, какой он способен достичь.
Исполнение Третьего концерта Бетховена также отмечено тонкими артистическими достоинствами. Сказывается умение ничего не пропустить и вместе с тем отбросить все ненужное; никакой несдержанности, ничего лишнего. Ясные идеи, ясные формы, безупречная четкость линий... Быть может, первая часть концерта звучит несколько приглушенно, выравненно, но зато здесь в немногом сказано многое. Во второй и особенно в третьей частях звучность становится ярче и контрастнее; создается впечатление, будто свет и тени вступили в более живое соприкосновение друг с другом.
Запись Первого концерта Чайковского – великолепный образец нового прочтения этого сверхпопулярного произведения. Уже во вступлении к первой части ясно чувствуется отход от штампов... Оно звучит медленно, сдержанно, необыкновенно величественно, мощно, ослепительно ярко – словно гимн всемогущей природе, жизни. От поверхностно-быстрой трактовки его не осталось и следа. Краткую каденцию (на уменьшенных арпеджированных аккордах) Рихтер исполняет как бы на одном дыхании: никаких отступлений от ритма, никакой нерешительности, расслабленности. Еще более заметен отход от сложившихся штампов в главной партии. Вместо разухабистого, остро-скерцозного исполнения ее (столь часто, к сожалению, встречающегося в концертной практике), сдержанный, строгий подход. Октавы в теме звучат скорее жалобно, чем шутливо, и, главное, играются в характере имитирующих тему флейт и кларнетов. Вторая тема (росо meno mosso) с ее несколько патетическими синкопами и лирической взволнованностью – нежный, безмятежно-светлый, ля бемоль-мажорный эпизод – интерпретируется на редкость благородна, просто, с оттенком легкой печали. Тем ярче, с большей силой звучит оркестровое «тутти», проводимое Караяном с невероятно точным расчетом звуковых градаций и предельно сгущенным эмоциональным нагнетанием. И столь же ярко, с повышенной экспрессией звучит вступающее вслед за оркестром фортепиано; одна динамическая волна сменяет другую, ни в чем нет нарочитости, напыщенности, ясный широкий замысел получает безупречное воплощение. В репризе первой части привлекает внимание большая каденция, в которой лирическая созерцательность перемежается с гневными вспышками. Сдержанная (отнюдь не торопливая!) кода достойно завершает часть с ее поистине грандиозным масштабом и внутренней концентрацией эмоций. Трудности формы – а их в первой части немало – преодолены здесь полностью, и вся часть предстает перед нами как величественная стройная симфония.
Спокойно и мягко развертывается главная тема второй части, легкая, прозрачная середина (в игре Рихтера здесь есть нечто волшебное, воздушное, полетное) оттеняет целомудренно скромную мелодию. Исполнение тонкое, живое, изящное, полное вкрадчивого очарования.
В финале особенно поражает непрерывная текучесть музыки при рельефном выделении разнообразных эпизодов. Танцевальная первая тема с ясной динамической нюансировкой – сначала mezzo forte, затем forte, широкий напев (ре бемоль мажор), наконец, грандиозная кульминация в си бемоль-мажорном торжественном эпизоде – все это мастерски воссоздано вплоть до мельчайших деталей. Характерно стремление избежать какого бы то ни было ускорения в конце эпизода си бемоль мажор, который весь исполняется в необычайно широком, величественном темпе; огненно-стремительная кода наступает сразу, без предварительного подхода.
По внутренней эмоциональной насыщенности, ни в чем не переходящей во внешнюю аффектацию, по совершенству формы следует еще выделить запись до-мажорной Фантазии Шуберта. Рихтер здесь прост, серьезен и в то же время удивительно ярок и величав. Чего стоит, например, первая часть с ее широкими линиями. Рихтер играет без кропотливости, без излишних подробностей, но сколько великолепных находок и деталей найдем мы в его записи! Снова безошибочное чувство меры, времени, умение быть точным без разглагольствований. Как тонко интерпретируется вторая часть с ее сумрачно-меланхолическими настроениями: здесь все органично, все дышит; поэзия просвечивает сквозь сдержанность и лаконичность выразительных средств. А третья часть, в которой каждая деталь трактована и выполнена сообразно своему значению, своей собственной природе и ценности! Пианист не относится ко всему одинаково, не увязает в подробностях. В одной детали чувствуется тщательность отделки, другая – едва намечена. Во всем непринужденность артиста, уверенного в себе и располагающего богатейшими возможностями. Превосходен также финал, где Рихтер как бы уплотняет формы, подчеркивая их мощь. Твердые, непреклонные контуры, определенные краски, строгие грани сочетаются, с безудержным напором и неиссякаемой энергией, быстрота действия, смелая виртуозность – с точностью цели.
Велика сила исполнительского дара Рихтера, ясность его артистического взора – они все покоряют, одушевляют, освещают ярким светом. Они делают музыкальное наследие живым для миллионов людей.
В одной из бесед Рихтер как-то заметил: «Надо верить в произведение, верить в то, что исполняешь. Как только эта вера исчезает, произведение сразу же тускнеет, а то и вовсе проваливается при исполнении». Точные слова, выражающие истину, о которой часто забывают исполнители. Если не веришь в то, что делаешь, то как же поверят в это другие?
Для Рихтера характерна постоянная тяга к новому, неизведанному, это пианист современности. Причем с помощью нового он не только обогащает, пополняет свой репертуар, но и переосмысливает старое. «Мы,– говорит он,– слишком привыкли к тому, что на основе старого познаем новое. А следовало бы еще добавить – исходя из нового, познаем старое».
В оценке нового Рихтер весьма осторожен. Вот его слова: «Я не могу судить, как другие, сразу о новых вещах. Не приемлю поверхностные мнения и оценки».
Рихтер убежден в том, что время стирает все смутное, слабое, надуманное и, наоборот, придает новый блеск всему хорошему, жизненному, возвеличивает его. Вот почему с такой строгостью и сверхвзыскательностью относится он теперь к записям своей игры. Каждая такая запись для него – это не только этап пройденного пути, но и жизнь в настоящем, в будущем, «разговор с потомками». Запись должна быть непременно хорошей, иначе она теряет как художественный документ свой смысл.
Подобное отношение к искусству налагает на артиста бремя тяжелой непрерывной работы. Приблизиться к совершенству можно лишь путем напряжения всех сил, путем полной самоотдачи и собранности. «Беда в том,– признается Рихтер, – что нет времени сосредоточиться... Мешает то одно, то другое... Слишком уж все происходит быстро и слишком всего много. Из- за этого мы подчас плохо работаем, не умеем работать, скачем по верхам...»
Примечательно, что весьма значительное место в процессе домашней работы у Рихтера занимает «обыгрывание», «обкатка» произведения. «Вне звучания,–говорит он,– я не представляю- себе работу. Пианист должен выгрываться в произведение точно так же, как балерина втанцовывается в свою партию». Искать, искать и снова искать, играть и снова играть – так можно определить метод занятий Рихтера. И это не мешает запомнить многим молодым музыкантам. Они порой слишком мало и слишком плохо ищут, а потому и не находят. А ведь нет ничего хуже, чем повторять, пусть даже добросовестно, все то, что мы уже слышали в прошлом, и слышали не один раз. Нет ничего ошибочнее, чем идти по накатанным путям, хоженым дорогам, с привычными поворотами и остановками. Правильные вещи тогда становятся сухими, вялыми, банальными; от них так и веет скукой. Путь Рихтера, стиль его работы учит нас непрерывным поискам, пробам, творческим прозрениям.
Возможно, именно поэтому Рихтер так не любит повторять самого себя. Если, скажем, он? дает подряд несколько концертов в разных городах, то он всегда меняет (полностью или частично) свою программу. Если ему все же приходится играть в концертах одни и те же произведения, то он всегда стремится найти в них нечто новое, ранее не познанное и скрытое. Даже в самых что ни на есть «заигранных» пьесах он подмечает такие детали, что невольно поражаешься его неожиданным открытиям: он выбирает из этих произведений все, что можно и что не претит его придирчивому вкусу.
Строгость Рихтера, его «нежелание» идти на какие-либо компромиссы сказывается не только на репертуаре, но и в том, как он относится к своим концертам. Для него не существует концертов важных и не важных, первостепенных и второстепенных. Где бы он ни играл, он всегда и всюду предъявляет к себе как артисту максимальные требования. Никаких скидок на аудиторию и место выступления. Никакого дешевого самодовольства. Воля артиста непреклонна. Она властно притягивает к себе слушателей, подчиняет, воодушевляет, возвышает их. Все направлено к одной цели – раскрытию образов.
Не раз отмечалось, что Рихтеру присущи какая-то особая, глубокая внутренняя сосредоточенность, какая-то особая «тишина», которая органически уживается с сокрушительным темпераментом и напором. Он сдержан, но не равнодушен. Он собран, но не замкнут. Он не стремится форсировать эмоции, но и не чуждается их. То, что иными подчас воспринимается как «сухость» и «холодность», есть высшая мудрость артиста, которая подчиняет себе стихию музыки.
И еще одно. Рихтер постоянно играет с определенным подтекстом. Он отлично сознает, сколь «важно в музыке то, что не является музыкой». Быть может, это идет у него от давней любви к опере, театру (характерно его признание, что в юности он «штудировал оперные сочинения больше, чем фортепианные») и от его склонности к конкретно-сценическому мышлению («вслушиваясь в оперную музыку, я всегда представляю себе, как то или другое место должно быть на сцене», «необходима полная гармония, единение того, что слышишь, с тем, что видишь, – как часто эти вещи бывают разъединены: слышишь одно, видишь другое»). Быть может, – от его неизменной любви к живописи, которую не без основания многие считают его вторым призванием. А может быть, – и это скорее всего – от его твердого убеждения, что искусства не разобщены, а, напротив, дополняют друг друга и что их питает один и тот же источник – жизнь.
Всякий новый замысел Рихтер воплощает по-новому. Разнообразию его начинаний можно лишь поражаться. Проникнутый высоким чувством художественной ответственности, он непреклонен в своем продвижении вперед. Он весь устремлен в будущее.
Я.Мильштейн
См. далее фотографии к этой статье:

А.Руссовский. «Советская музыка», 1964, №1
История портретов Рихтера
Тихий, ничем не примечательный московский переулок неподалеку от Никитских ворот. Вы подниметесь на бельэтаж старинного дома, нажмете один раз кнопку звонка, и вам откроет дверь высокая седая женщина. Она проводит вас в свою небольшую комнату, обычную комнату в общей квартире. Вы войдете, и вас поразит большое число картин, которыми увешаны стены. Акварель, пастель, масло... Пейзажи, натюрморты. На самом видном месте два портрета Святослава Рихтера.
Добрую половину комнаты занимает «Бехштейн». По всему видно, что инструменту не приходилось долго стоять «в молчании». Об этом красноречиво говорят стертый местами лак, пожелтевшие клавиши и педали. На них время оставило особенно суровые следы: левая почти стерлась, став совсем тонкой пластиной, а правая... правая просто деформировалась.
Итак, портреты и «Бехштейн»... Какая же связь между ними?
...1944 год. Окна московских квартир еще перекрещены белыми полосками бумаги, еще дежурят у ворот дружинники с противогазами на боку, но война уже отодвинулась далеко на запад...
В то трудное время в комнате художницы Анны Ивановны Трояновской впервые появился студент Московской консерватории Святослав Рихтер. Вошел и присел за рояль. Над городом давно уже опустился вечер, а пианист все играл и играл... С тех пор Рихтер стал приходить сюда. Здесь он находил инструмент, тишину и молчаливого, внимательного слушателя. Иногда за пять-шесть часов напряженной работы не было сказано ни одного слова. Только музыка... Гендель, Бетховен, Хиндемит, Прокофьев, Шостакович...
Однажды, наблюдая за игрой Рихтера, Анна Ивановна начала писать его портрет. Особенно трудно было художнице уловить стремительный полет пальцев. Пианист ни минуты не позировал ей. Нет, он играл самозабвенно. Так, в 1947 году в этой маленькой комнате появился первый портрет Рихтера. Второй – на нем уже другой Рихтер. Тот, каким его узнал весь мир.
...Прошло двадцать лет. Время не изменило привычек пианиста. И теперь, как все эти годы, как и в тот первый раз, в эту комнату приходит Рихтер. Приходит и садится за рояль...
А.Руссовский
Портрет Рихтера (1957 г.)
Г.Г.Нейгауз. "К чему я стремился как музыкант-педагог."
К столетию Московской консерватории.
(О Рихтере - со стр.97.)

Статья Г.Г. Нейгауза (с купюрами), впервые опубликованная в журнале “Советская музыка”, 1964, №3:
ЕЩЕ О РИХТЕРЕ
(По поводу исполнения трех последних сонат Бетховена 10 и 12 декабря 1963)
Москвичи часто жалуются, что Рихтер слишком редко играет в Москве. Когда ему говорят об этом, он достает тетрадь, в которой записаны все когда-либо и где-либо сыгранные им концерты, и на основании фактов доказывет, что больше всего он играет именно в Москве. Но когда слушаешь его, хотя бы на последних двух концертах, где он дважды играл сонаты Бетховена, когда видишь до отказа набитый Большой зал консерватории и сосредоточенные лица слушателей, когда после окончания концерта и публике (и мне!) хочется слушать его еще и еще, тогда думаешь поневоле, что жалобы москвичей оправданы и хотелось бы, чтобы мечта ”трех сестер”: в Москву, в Москву! – чаще бы обуревала и Рихтера. Об этих последних концертах хочется сказать так много, что прямо не знаешь, с чего начать!
Впрочем – после почти каждого концерта Рихтера я страдал бессонницей и ночью мысленно (писать лень было) сочинял большой трактат о нем, о его музыке, об искусстве вообще… Утром жизнь входила в свою колею…
Что же сказать о концертах 10 и 12 декабря, об исполнении трех последних сонат Бетховена, об этом грандиозном триптихе, который останется “навеки” величавым памятником не только бетховенского творчества, но и музыки вообще?..
Coнату As-dur op 110 (предпоследнюю) Рихтер играл еще когда был моим “студентом” (кто у кого учился – вопрос неясный, во всяком случае официально он числился моим студентом). Впоследствии он несколько раз играл ее в концертах. Необыкновенно интересно проследить, как изменяется одно и то же произведение в интерпретации большого пианиста в связи с его “ростом”, “развитием”, с изменениями, происходящими в его жизни, в его душе согласно законам времени!
Насколько “лучше” положение композитора, чем положение исполнителя! Духовные факты его биографии (психографии!) запечатлены в конкретных художественных образах, он высказывается своими словами, говорит от первого лица, а исполнители только варьируют чужие слова, чужие мысли, переживания! Мне иногда казалось почти невероятным, что так мало времени прошло между созданием Бетховеном Сонаты #17 d-moll op.31 и Сонаты #23 f-moll op.57, так называемой Аппассионаты. Ведь это два мира, два разных мира! Как это волнует: проследить (насколько это возможно) “духовную траекторию” композитора, расположенную между двумя точками ор.31 и 57!
Но угадать эту “Tраекторию” у большого исполнителя тоже возможно; вот пример: я имел счастье в молодости услышать в исполнении Бузони два раза Сонату B-dur op 106 Бетховена (Grosse Sonate fur das Hammerklavier). Между обоими исполнениями прошло около четырех лет. Здесь вдаваться в подробности невозможно: скажу лишь, что в моей памяти осталось почти непостижимое различие между этими двумя исполнениями. Первое исполнение показалось мне гораздо более убедительным, особенно скерцо (вторая часть) и фуга (четвертая часть); я гораздо непосредственнее воспринял его. Второе исполнение показалось чрезмерно интеллектуальным (грубо говоря, вульгарно надуманным), предельно изощренным; в общем, Бузони заслонил автора. В первый раз фугу он играл “как полагается” forte energico, во второй раз – почти всю на левой педали: не фуга, а видение фуги! Geisterhalt (призрачно).
Может быть, Бузони не дошел в своем развитии до четвертой его стадии, о которой так хорошо говорил Гете: “Сперва мы пишем просто и плохо, потом сложно и плохо, затем сложно и хорошо и наконец просто и хорошо”, а может быть, я по молодости лет не дорос до понимания высокого искусства Бузони (последнее более вероятно).
Когда Рихтер был студентом, он играл эту сонату (ор.110), я уже говорил об этом, als ein guter Musiker, как прекрасный музыкант, так обычно играют большие композиторы, например, Прокофьев или Рихард Штраус, но без того специфического исполнительского обаяния, которым была так богата (и так памятна нам!) игра Софроницкого или – в отдаленном прошлом – игра Падеревского (я слышал его один раз только, когда мне было четырнадцать лет).
Впоследствии исполнение этой сонаты, как говорится, “заиграло всеми красками”, углубилось, гравюра стала картиной: Arioso dolente стало пронзительно-жалобным, почти декламационно подчеркнутым… Но “цельность” замысла и формальное совершенство исполнения оставалось всегда незыблемым. Такими же они остались и сейчас, когда Рихтеру уже стукнуло сорок восемь лет. В звуке – еще больше изощренности, контрасты в темпах и в динамике еще больше, Arioso dolente предельно медленно (несмотря на указание Бетховена: Adagio, ma non troppo) – так медленно убедительно может играть, пожалуй, только Рихтер; a в целом – еще более “esoterisch”, еще “недоступнее”, как бы подымая сонату еще на несколько сот метров над уровнем моря… Сам Рихтер был больше всего удовлетворен последней Сонатой ор.111, многие весьма понимающие слушатели – также. Может быть, это и так – для меня лично все три сонаты были одинаково убедительны, каждая в своем роде. Я услышал в них то, что – помимо всякого исполнения – я хочу в них слышать.
Соната E-dur (трехчастная), ор.109 – поэзия природы (и человека в ней), созданная глубочайшим чувством природы, как бы прошедшим через призму Спинозы… (бог, то есть природа).
Дебюсси говорил, что природа у Бетховена – книжная природа (он-то, конечно, имел право говорить это), я же чувствую в Бетховене 109-го опуса, особенно в последней его части (с вариациями), родоначальника импрессионизма.
Третья часть! Божественная песня-молитва и божественные вариации! Например, последняя вариация с ее неповторимым сиянием горных вершин, постепенным угасанием: cпускается на землю синяя-синяя ночь, еще раз, еще тише, еще проникновеннее звучит тема-молитва, еле слышные, замолкают ее последние звуки, наступает сон, земных трудов отрада… Все это я угадывал в Бетховене и слышал у Рихтера.
Соната ор.110; в прошлом году я писал о ней в апрельском номере “Советской музыки” (небольшой отрывок из моих “интимных записок” о Бетховене), интересующихся отсылаю к этой статейке.
……………………………………………………………………………………
Некоторым слушателям меньше всего понравилась именно эта Соната в исполнении Рихтера. Незадолго до этого ее играла в Москве Анни Фишер, прекрасная венгерская пианистка, которую я на этот раз, к сожалению, не слышал. Одна пианистка-педагог говорила мне, что предпочитает в этой Сонате Фишер. Вероятно, так думают и многие. Я чрезвычайно ценю Фишер и полагаю, что она, наверное, сыграла Сонату как-то “проще”, человечнее, более понятно, чем Рихтер; не надо было карабкаться на “горные вершины”, ведь “тихие долины” гораздо уютнее… (Не подумайте, что я выражаю малейшее неодобрение Анни Фишер: я одинаково люблю и “тихие долины”, и “горные вершины”…)
И конечно, уж эта Соната самая “человечная” и человеческая из всех трех: повествование (третья и четвертая части) об одиночестве и смертельной скорби, о смертельном недуге и возвращении к жизни силою духа – cogito, ergo sum, ergo vivo… (“Я мыслю, следовательно, существую, следовательно, живу…”)
О последней Сонате , ор.111, и говорить не буду, боюсь, что если начну, то никогда не кончу. Лучше всего прочитайте внимательно доклад музыканта Венделя Кречмара, одного из персонажей романа “Доктор Фаустус” Томаса Манна (восьмая глава): “Почему в фортепианной Сонате ор.111 Бетховен не написал третьей части?” – доклад, сделанный умнейшим лектором-заикой в городе Кайзерсашерне перед аудиторией из нескольких человек, среди которых был герой романа, композитор Адриан Леверкюн.
Но лучшим “комментарием” к этой Сонате будет все-таки интерпретация Рихтера.
На этом пора бы и кончить столь затянувшуюся рецензию (!). Но не могу не прибавить еще два слова о бисах. На первом концерте были сыграны четыре пьесы Брамса: Интермеццо ля минор, Баллада соль минор, Интермеццо до мажор из ор.119, а в конце – Двенадцатый (до минорный) этюд и Ноктюрн фа мажор (#4) Шопена.
Рассказать забавную подробность? Когда я зашел к Рихтеру после концерта в артистическую, то сказал: “Я боялся, что после Ариетты из ор.111 бисов не будет, как хорошо, что играли все-таки на бис” . На что он ответил: “Как же я мог не играть, когда так ужасно звучал Бетховен, надо же было исправить…” Мое лицо, вероятно, выразило крайнее удивление, и он стал объяснять, что рояль ему показался ужасным – крикливым, разбитым, он все время сражался с ним и т.д., - “лучше была Тридцать вторая соната”. Картина эта была мне давно знакома. Сколько раз, бывало, зайдешь к нему после концерта – публика в восторге, - скажешь ему слова благодарности за испытанную радость и услышишь в ответ: да, у меня хорошо вышло это место (какие-нибудь 16 тактов), а остальное – и скорчит кислую гримасу. Наивные люди иногда думают, что “Рихтер кривляется”, им кажется, что он не может не видеть и не сознавать впечатления, производимого им на публику. Менее наивные считают, что он себя недооценивает, совсем ненаивные, к ним я себя (наивно) причисляю, знают, что он говорит чистейшую правду. Мой замечательный учитель Леопольд Годовский сказал мне однажды: “Я дал в этом сезоне 83 концерта, а знаете, сколькими я был доволен?” – И после паузы показал три пальца, - тремя!“
Кому выпала доля носить на своих плечах “легкое бремя” высокого искусства, то не впадает в зазнайство (к сведению некоторых молодых музыкантов).
Едва Рихтер начал играть ля-минорное Интермеццо Брамса, у меня (как всегда) промелькнуло: играет другой пианист! Но не буду разбирать подробно каждую пьесу, скажу только, что Брамс восхитил меня еще больше, чем Бетховен.
Особенно прекрасно было исполнение гениального Интермеццо ор.118 #6! Эта бездна скорби в мелодии и гармонии – до чего же она была чудесно передана! Признаюсь, я не мог удержать слез, несмотря на то, что это Интермеццо часто играют у меня в классе, и подчас оно мне “оскомину набило”.
Довольно. Тютчев прав: “мысль изреченная есть ложь…”, когда говоришь о музыке.

Г.Г.Нейгауз
«Культура и жизнь», 1964, №6
Прекрасный и достойный – этот неистребимый термин греков невольно вспомнился, когда редакция попросила меня коротко написать о Рихтере в связи с предстоящим концертным турне его по Европе. Артист уже всюду хорошо известен, и мне остается добавить немногое.
Однажды в небольшом кругу, где были и композиторы, и дирижеры, мы пытались определить, в чем секрет, в чем разгадка огромного дарования Рихтера. Каждый по-своему формулировал свое мнение, но все сошлись на том, что ни одна деталь, ни одна частность его таланта, не является ущербной, все одинаково совершенны. Физические данные: руки, техника; психические – память, глубина мысли, страстность – все равноправны и равносильны. Почти невозможно обнаружить в этом прекрасном художественном организме «ахиллесову пяту». Вот почему я позволю себе сказать о Рихтере, как в феодальные времена говорили о короле: первый среди равных. А равных, то есть превосходных пианистов, в наше время много, очень много.
Во всех умах созрело представление, что исполнитель является служителем автора, хотя и равноправным. Об этом писали Хиндемит, Стравинский, об этом говорили Прокофьев, Шостакович и многие другие.
Когда Лист переделывал на свой лад, скажем Мейербера, – он имел на это право, так как был гениальнее создателя «Пророка» и «Гугенотов». Но когда он играл Шопена и украшал его своими ослепительными «отсебятинами», Шопен бывал очень недоволен. Любой настоящий музыкант согласится с Шопеном. Верность автору – закон для исполнителя.
В то отдаленное время, когда автор был в то же время и исполнителем (Моцарт, Бах, Бетховен...) – вопрос о разногласиях между автором и исполнителем, естественно, не возникал. А потом бывало и так, что самое гениальное произведение становилось лишь предлогом для высказывания своих, исполнительских мыслей и чувств! Рихтер прекрасен именно тем, что, играя разных авторов, он каждый раз перевоплощается, слышишь не только музыку, но и как бы другого пианиста.
Верность автору предполагает гораздо более могучую индивидуальность, чем верность только себе.
За это-то я и люблю Рихтера. Думаю, что мое чувство разделяют и его зарубежные слушатели.
Генрих НЕЙГАУЗ,
народный артист РСФСР, профессор
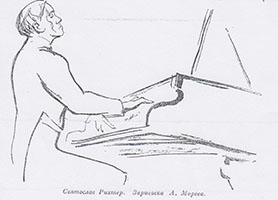
С.Хентова. «Нева», 1965, №4
МУЗЫКАНТ-МЫСЛИТЕЛЬ
Совсем недавно Святослав Рихтер возвратился из очередного турне по зарубежным странам. Передо мной – кипы рецензий на его концерты. «Святослав Рихтер – подлинный мастер клавира, один из величайших пианистов своего времени», – говорит финский рецензент. «Слушать Рихтера – огромное удовольствие. Он поэт фортепьяно», – пишет выдающаяся французская пианистка Маргарита Лонг. «Восхитительная, неслыханная игра!» – характеризует исполнение Рихтера канадский композитор Ян Валеранд. «То, что он делает, можно объяснить только гениальиостью. И он, во всяком случае, гений, гений первого разряда», – заключает свою статью американский критик Джо Моссман. А Пауль Генри Ланг, музыкальиый обозреватель «Нью-Йорк геральд трибюн», добавляет к характеристике игры Рихтера: «Феноменальный артист. Он стоит послов и двадцати пяти дивизий». Не много найдется имен, вызывающих такое восхищение, такой интерес.
Лучшее из всего написанного о Рихтере принадлежит, конечно, его учителю, Генриху Нейгаузу – единственному, кто до некоторой степени приоткрыл сущность творческого процесса и внутреннего мира артиста. Мы говорим «до некоторой степени», ибо Рихтер принадлежит к художникам, которых отличает исключительная скрытность во всем, что связано с его искусством и тем более с личной биографией.
Возможно, эта сдержанность объясняется своеобразием его пути, не похожего на обычный путь одаренных пианистов, к концертной эстраде, к славе...
2
В 1933 году, когда Рихтеру было восемнадцать лет, в Москве проходил Первый Всесоюзный конкурс исполнителей – первый в истории советского музыкального искусства смотр молодых дарований. На этом конкурсе шестнадцатилетний Эмиль Гилельс – коренастый подросток из Одессы – занял первое место и сразу стал, таким образом, знаменитым. Другой земляк Рихтера, Давид Ойстрах, уже в течение нескольких лет концертировал.
Начиналась полоса международных конкурсов. Одесса беспрерывно «поставляла» музыкальные таланты. Колоритный морской город, воспетый Куприным, Бабелем и Паустовским, казался неиссякаемым источником замечательных пианистов и скрипачей.
Рихтера в это время никто не знал. Он даже не обучался в Одесской консерватории. Вообще нигде музыке не обучался. Ребенком Рихтер поступил, правда, в музыкальную школу, но что-то ему там пришлось не по душе, и с тех пор он занимался музыкой сам, когда и как хотел.
К его отцу, местному органисту Теофилу Рихтеру, приходили друзья для музицирования. Составлялись ансамбли. Юноша аккомпанировал, читал партитуры, играли в четыре руки. Он знал наизусть множество опер, симфоний, интересовался музыкальными новинками. Ему нравилась работа в оперном театре: как пианист-аккомпаниатор, он помогал певцам разучивать партии и мечтал о дирижерском дебюте.
В его исполнительские перспективы не верили: находили, что у Рихтера неловкие руки, движения его недостаточно пластичны и звук потому суховат.
Равнодушный к похвалам и порицаниям, Рихтер не делал ни одного шага, чтобы «выдвинуться», обратить на себя внимание, завоевать прочное положение или хотя бы вступить в естественное соревнование со сверстниками, стремившимися на концертную эстраду.
Рихтер делал только то, что ему нравилось. А нравились ему не многочасовые утомительные занятия на фортепьяно, не уроки под наблюдением педантичных учителей и даже не концертные выступления, а постижение музыки, бесконечное вслушивание, открытие нового: незнакомых созвучий, логических закономерностей, образов... В нем рано развились полная самостоятельность, независимость и равнодушие ко всему показному.
Он не собирался покидать Одессу, если бы не такая уж значительная, но для него очень горькая обида: ему не дали обещанного дирижерского дебюта в опере.
И тогда Рихтер поехал в Москву к известному фортепьянному педагогу Ней- гаузу.
Шаг этот был достаточно решительным и, пожалуй, даже смелым. Рихтеру минуло двадцать два года – возраст, в котором пианисты обычно уже концертируют и имеют ясное представление о своих артистических возможностях. А Рихтер собирался только поступать в Консерваторию, причем не имея даже диплома о среднем музыкальном образовании.
«Интересно было посмотреть на смельчака, – рассказывал Нейгауз о первой встрече с Рихтером. – И вот он пришел. Высокий, худощавый юноша, светловолосый, синеглазый, с живым, удивительно привлекательным лицом. Он сел за рояль, положил на клавиши большие, мягкие, нервные руки и заиграл.
Играл он очень сдержанно, я бы сказал, даже подчеркнуто просто и строго. Его исполнение сразу захватило меня каким-то удивительным проникновением в музыку. Я шепнул своей ученице: «По-моему, он гениальный музыкант».
Гениальный музыкант! – это мнение Нейгауза, проницательность которого не вызывала сомнений, скоро стало известным в Консерватории, блиставшей тогда многими первоклассными молодыми пианистами.
Больше всех удивлен был сам Рихтер: он всегда считал, что не многие имеют право считаться гениями фортепьянного искусства: как правило, исполнители, являвшиеся одновременно композиторами – реформаторами фортепьяно, – Бетховен, Лист, Шопен, Скрябин, Рахманинов... Но сказанное Нейгаузом означало для Рихтера многое. Уже тогда довольно зрелый музыкант, замкнутый, недоверчивый, с острым чувством самокритики, он впервые встретил такую оценку своих возможностей. Это заставило задуматься: не пришла ли пора определить свой путь, концентрируя усилия в одном направлении?
Нейгауз ориентировал Рихтера на исполнительство, и Рихтер всецело поверил ему. Не избалованный в юности признанием и участием, он со всей силой своей трудной, сложной натуры потянулся к яркому педагогу-художнику, оказавшемуся именно тем учителем, какой единственно и мог подойти Рихтеру: разносторонне одаренным, ненавязчивым, умевшим ждать и верить, бережно, чутко направляя усилия ученика, пробуждая в нем желание играть на эстраде, «вкус» к артистической деятельности и связанное с этим стремление к законченности, совершенству игры.
И все же прошло еще около пяти лет, прежде чем Рихтер смог себя ограничить: лишь в 1942 году, в двадцатисемилетнем возрасте он начал заниматься фортепьянной игрой без перерывов, с большим напряжением.
Однако что его ждет впереди, он и тогда еще не представлял. Он все еще обучался в Консерватории и отнюдь не торопился ее закончить. Далеко не все занятия его интересовали. Некоторые курсы Рихтер совсем не посещал, зато, не считаясь со временем, увлекался работой в кружке ознакомления с музыкальной литературой, где переиграл с листа едва ли не всю оперную литературу.
Условия жизни оставались трудными, и Рихтер ничего не предпринимал, чтобы их изменить. Не было ни квартиры, ни рояля, ни денег. Ютился Рихтер у товарищей, занимался где придется, главным образом ночами: он поражал редкой способностью сосредоточиваться на творчестве в любой обстановке, в любое время. Стоило ему прикоснуться к инструменту, как он забывал обо всем на свете, мог играть по восемь – десять часов; особенно любил он играть сразу после концерта, когда подъем и возбуждение помогали преодолевать усталость.
Помнится, в 1944 году, незадолго до очередного Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, на доске учебных распоряжений Московской консерватории появился наконец маленький плакат, извещавший о государственном выпускном экзамене по фортепьяно Святослава Рихтера.
Экзаменационной комиссии пришлось перейти в Большой зал Консерватории, так как экзамен Рихтера заключался в открытом сольном концерте, собравшем много слушателей.
Вскоре Рихтер сыграл и на Всесоюзном конкурсе. Судьба еще раз – но, кажется, последний – позаботилась о сравнительно скромной оценке его таланта: Рихтер разделил первое место с московским пианистом Виктором Мержановым. Но именно тогда же его высоко оценил Сергей Прокофьев. Рихтеру передал он для первого исполнения свою Седьмую сонату (разученную пианистом в рекордно короткий срок – за четыре дня) и затем, позднее, посвятил ему Девятую. Прокофьев вошел к жизнь пианиста как самый близкий композитор, в интерпретации произведений которого раскрываются лучшие черты исполнительского облика Святослава Рихтера, связь его искусства с напряженным пульсом современной жизни.
3
С этого времени, то есть с середины сороковых годов, канва биографии артиста, и прежде небогатой событиями, определяется только работой и концертами. Концерты – значит беспрерывные путешествия. А путешествия часто настолько насыщены концертами, что почти исключают элемент познавательный. Так, в Америке Рихтеру не удалось посетить ни одного концерта, только один раз он встретился с журналистами, поставив, таким образом, по мнению иностранной прессы, своеобразный рекорд сдержанности.
Скромность Рихтера чужда нарочитости: это естественная потребность натуры, которая достаточно поздно осознала призвание и теперь бережет каждое мгновение для самого лучшего дела, для творчества.
Непоседливость Рихтера, его постоянные «перемены мест» – проявление жажды деятельности, составляющей смысл жизни выдающегося мастера. Его энергию, как и прежде, подстегивает неудовлетворенность собой: зал может стонать от восторга, а Рихтер внутренне убежден: почти ничего не удалось. Вот, кажется, только одно местечко... И, терпеливо дождавшись, пока публика разойдется, усаживается за фортепьяно, чтобы поработать еще и еще.
Нет ничего более ошибочного и даже обидного для Рихтера, нежели представлять его пианизм как застывшее классическое совершенство, ограничиваясь восторженными эпитетами. Трудная, очень важная и еще далеко не выполненная задача советского музыковедения – детально проследить эволюцию артиста, поучительные этапы развития его пианизма, сущность его поисков. Ведь достаточно было послушать недавние концерты Рихтера в Ленинграде (сонаты Бетховена, Прокофьева), чтобы ощутить, насколько беспредельна способность пианиста к совершенствованию, к открытию нового, неведанного в давно известном и даже совсем простом «учебном репертуаре» (Девятнадцатая, Двадцатая бетховенские сонаты).
Было у Рихтера время – мое поколение помнит его ясно, – когда в центре внимания стояло накопление репертуара. Казалось, пианист никогда не играл дважды одно и то же.
Сочинение выучивалось стремительно, «авральным способом», и тут же выносилось на эстраду. Феноменальная память и сосредоточенность помогали быстрому усвоению капитальнейших произведений: цикла из сорока восьми прелюдий и фуг «Хорошо темперированного клавесина» Баха, сонат Бетховена, сочинений современных авторов – Бартока, Шимановского... Казалось, у Рихтера не было симпатий или антипатий. Фортепьянная литература лежала перед ним словно открытая книга, и он листал ее с лихорадочной поспешностью, во всем находя прелесть, интерес, новизну (вспомним, например, его «открытие» и блестящее исполнение столь заурядного фортепьянного произведения, как Концерт Римского-Корсакова).
«Репертуарная лихорадка» приводила к перенапряжению. Эстрада порой мстила за поспешность. Изменяла память: внезапно появлялись «провалы» в простых местах. Не всегда хватало эмоциональных сил: исполнение становилось чрезмерно сдержанным. Пианист как будто не исполнял, а «докладывал» музыку. Периоды творческого подъема сменялись упадком, депрессией, когда Рихтер, неудовлетворенный своей игрой, не прикасался к фортепьяно.
Дальнейшее развитие его пианизма показало, что репертуарное обогащение имело для Рихтера принципиальное творческое значение. Рихтер никогда специально не занимался тем, что принято называть техникой фортепьянной игры, не играл упражнений, этюдов, гамм. Он и здесь шел путем необычным. Мастерство вырабатывалось на самом репертуаре, в процессе бесконечного «вхождения» в произведения разных авторов – от Баха до Прокофьева, использовавших разные средства и возможности фортепьяно, требовавших совсем разного подхода. Вот почему на вопрос: «Как же вам все-таки удалось овладеть вершинами пианистической техники?» – Рихтер имеет право коротко ответить: «Я просто очень много играл. Вот и все».
И это действительно так: накопление репертуара было одновременно борьбой за мастерство.
В истории исполнительства чаще встречаются примеры, когда исключительно приспособленным к фортепьянной игре натурам приходится усилием воли восполнять недостатки музыкальной культуры, образования, кругозора, многосторонних качеств музыканта.
У Рихтера – наоборот. Музыкант превалирует над пианистом-артистом. Приходится задумываться над чисто пианистическими навыками, добиваться совершенства аппарата воплощения. И не нужно думать, что это давалось Рихтеру легко. Ведь у него не было школы, приобретаемой в детстве, его никто не учил, как проще и надежней владеть инструментом. Однако – и здесь снова мы встречаемся со способностью истинно великих артистов даже недостатки превращать в достоинства, – лишенный ремесленного ученичества, Рихтер создает свою технику, в которой начисто отсутствуют привычные технические стандарты. Это техника, продиктованная единственно художественной волей артиста, его личными образными представлениями, полностью соответствующая артистической индивидуальности. В этом смысле Рихтеру удается выработать совершенную технику, подражать которой, все же, невозможно: она по-рихтеровски неповторима и притом – что редко бывает даже у талантливых артистов – исключительно гибка, изменчива, в зависимости от стилей, которые интерпретирует артист. Нам пришлось на небольшом отрезке времени услышать три концерта Рихтера, когда игрались Шопен, Дебюсси, затем Бетховен, Прокофьев. Казалось, что за фортепьяно сидели разные пианисты, настолько все менялось: приемы звукоизвлечения, характер пассажей, движения.
4
Периодом существенных сдвигов в исполнительском облике Рихтера была первая половина пятидесятых годов. Осуществилось задуманное: пианист в совершенстве овладел выразительными ресурсами фортепьяно. Отчетливо выявились устойчивые психологические особенности процесса исполнительского творчества, в частности характерный для Рихтера дирижерский склад исполнительского мышления. Он сказывается в поразительной целостности трактовок. Еще прежде чем пианист прикасается к инструменту, вся музыкальная картина рельефно, словно совершенное создание архитектуры, воссоздается в его голове. Безупречна логика построения формы, соотношений, каждая деталь оправдана, необходима и кажется единственно правильной и уместной. Ничего лишнего. Ничего ради украшения. Никакой уступки соблазнам фортепьянной виртуозности, красочности, чувственному очарованию фортепьянного звука, имеющему свою притягательную прелесть для слушателей.
Исполнительская манера Рихтера ярка и многокрасочна. Вокальные принципы интонирования ему мало свойственны. Тембровая палитра настолько богата, что создается впечатление «фортепьянной оркестровки». Истоки такого мышления, конечно же, в глубоком знакомстве с оркестровой литературой, изучении оркестровой звучности, чтении партитур, давней привычке воспринимать через фортепьяно музыку симфоническую, оперную. Вероятно, так играл Лист, решавшийся исполнять в концертах симфонии и называвший свои переложения «фортепьянными партитурами». Эта традиция имела в России своего сторонника в лице гениального Мусоргского: его «Картинки с выставки» написаны для фортепьяно, которое должно звучать с разнообразием красок оркестра. Рихтер, кстати говоря, является сейчас лучшим в мире интерпретатором фортепьянного цикла Мусоргского.
Сейчас Рихтер достиг творческой зрелости.
Постоянные поиски, одержимость в работе остаются неотъемлемыми свойствами Рихтера, но развитие его искусства идет теперь уже не вширь, а вглубь.
Круг репертуара, характерный для нынешнего Рихтера, – Гайдн, Бетховен, Шуман, Брамс, Прокофьев, причем произведения, сравнительно редко звучащие с эстрады.
Обычно с возрастом исполнители умеряют проявления эмоциональной непосредственности. Рихтер вновь – исключение из правила. Неудивительно: ведь признание и внутренняя уверенность приходят к нему сравнительно поздно. Поздно постигает он артистические законы восприятия, узнает окрыляющую радость глубокого душевного контакта со слушателями, которая одна только и способствует эмоциональной непосредственности. Наблюдая Рихтера на эстраде – сдержанного, всецело погруженного в музыку, можно подумать о равнодушии артиста к реакции зала на его игру. Но это не так. Рихтер, по его собственным словам, судит о слушателях «не по аплодисментам и вызовам, которые нередко бывают данью вежливости, и не по лестным отзывам прессы... а по той «немой», но так знакомой, каждому исполнителю, глубокой реакции слушателей, по тем, я сказал бы, трепетным сердечным нитям, которые связывают зал с эстрадой». Эти-то трепетные нити, всегда возникающие на концертах Рихтера, и составляют самое ценное завоевание музыканта, помогающее ему свободно и смело выявлять свои исполнительские намерения.
Отсюда не следует, что игра Рихтера одинаково близка всем. Рихтер едва ли многое скажет людям, ищущим в музыке тихой пристани от житейских бурь, наслаждения, безмятежной радости, изысканности, патетики, риторики. Музыка в его исполнении, как правильно определил один зарубежный критик, прежде всего «звуковой процесс мышления». В игре Рихтера – сложная диалектика нашей бурной эпохи. Есть элементы, сближающие его искусство с видением мира Блоком, Маяковским, Хемингуэем. Аналогией в области композиторского творчества может быть творческий метод Сергея Прокофьева, в области киноискусства – Сергея Эйзенштейна. Как и названным художникам, Рихтеру свойственна манера выражения, типичная для нашего времени: лаконизм, простота, точность, интеллектуальная глубина и сдержанность при необычайной внутренней эмоциональной насыщенности.
Такие художники, как Рихтер, многое дают людям. Учат правде. Возвышают над обыденностью. Просвещают. Увлекают творческой одержимостью, фанатической преданностью избранному делу. Вот почему все, кто любит музыку, восхищаются Рихтером и относят его к числу самых значительных музыкантов-исполнителей XX века.
С.Хентова
Д.Рабинович. "Артуро-Бенедетти Микеланджели" (фрагмент - сравнение с Рихтером). "Музыкальная жизнь", №15, август, 1964.
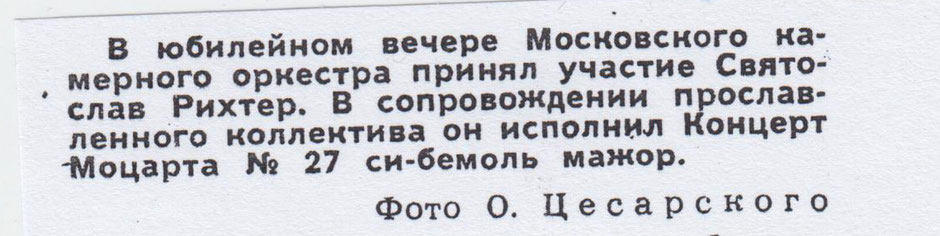

«Рука Москвы», 5 диалогов с господином ИКС, АПН, 1967.
СВЯТОСЛАВ: ИДУ НА ВЫ
С помощью газеты «Нью-Йорк таймс» мистер Робертс Клементс оповестил читателей о «культурном проникновении» Советского Союза в страны Европы, Азии и Южной Америки, перед которым «бледнеют попытки Петра Великого насадить западную культуру в России, казавшиеся в то время титаническими». Надо полагать, для Клементса даже рука, падающая на клавиатуру рояля, превращается в пресловутую «руку Москвы». Но почему же тогда содрогается от аплодисментов даже привыкший к гениям миланский Ла Скала? Почему склоняют копья маститые седовласые критики, предубежденные становятся заинтересованными, заинтересованные – симпатизирующими, симпатизирующие – восторженными? .
Это Святослав «идет на вы».
Одна из стен в мастерской Юрия Васильева, московского художника, почти сплошь покрыта слепками, снятыми с рук его гостей. Среди гипсовых отливок рук академика Ландау и писателя Эренбурга, кинорежиссера Ромма и американского композитора Барбера, поэта Хикмета и поэтессы Ахмадулиной, среди муляжей, оставленных хирургами, геологами, натурщицами, балеринами, туристами, резко выделяются две огромные, массивные руки с толстыми подушками ладоней, с динамичными пальцами, словно приготовившимися к бою.
Эти руки требовательно взывают к вниманию. Даже от гипсовых, от них исходит магический ток ищущей выхода силы. Гдядя на них, вы скажете: руки рабочего, неточеные – рубленые, не фарфоровые – гранитные.
Это слепки с рук Святослава Рихтера.
Его друг как-то назвал их совершенным аппаратом, который дается только великому музыканту. Под этими руками молотобойца фортиссимо оглушительны, как громы; но под этими же руками пианиссимо хрупки и прозрачны, как крылья стрекоз ...
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ
Олицетворенное исключение из правил, он начисто нарушил обычную схему подготовки пианиста: музыкальная школа – консерватория – концертный зал. Он миновал школу, да и учился ли он в консерватории так, как учились другие?
– Должен сказать откровенно, – вспоминает профессор Нейгауз, – что учить Рихтера в общепринятом смысле слова было мне нечему. По отношению к нему я всегда соблюдал лишь позицию советчика ...
С основами исполнительского искусства мальчика познакомил отец, Теофил Рихтер, органист и педагог. Из музыкальной школы маленький Святослав сбежал едва ли не через неделю после поступления и не вернулся в нее.
Юный Рихтер рано проявляет одаренность, но эта одаренность не находит выражения в чем-либо предпочтительном; Святослав боготворит оперу, пытается писать драмы, рисует, устраивает театрализованные представлениячтае
Летом 1937 года к Генриху Нейгаузу вошел худощавый молодой человек с большой головой, шишковатым лбом и светло-синими глазами – и попросил прослушать его.
Играл он сдержанно, подчеркнуто просто. Ему понадобилось ровно тридцать минут, чтобы исторгнуть у опытного Нейгауза слова, которые тот шепнул своей ученице:
– По-моему, он гениальный музыкант ...
– Рихтер был принят в консерваторию.
– Он пришел в нее взрослым, сформировавшимся человеком, имея опыт не только самостоятельного образования, но и самостоятельной работы. Он обладал эрудицией до своей профессионализации и обладал опытом до того, как начал изучать теорию.
То, что неверно в геометрии, порой бывает верным в жизни: крутая и затяжная парабола, описанная Святославом Рихтером, оказалась самым коротким путем к славе.
«ЕГО СТИЛЬ – ИМЯРЕК»
Сидят в гостиной меломаны и слушают фортепьянные грамзаписи. Три произведения в исполнении трех разных пианистов. В этом ни у кого нет сомнений, и только хозяин знает, что во всех трех случаях за фортепьяно Святослав Рихтер.
– Ну как? – восклицает хозяин, наслаждаясь их изумлением, – каково?!
Вы можете проделать подобный эксперимент и убедитесь, что Рихтер, исполняющий Гайдна, абсолютно не похож на Рихтера, исполняющего Шумана. Все становится другим – рояль, звук, характер экспрессии. Меняется не колорит, даже не краски, а сама манера, сам художник, меняется сам Рихтер.
Генрих Нейгауз говорил, что стиль Святослава Рихтера – имярек. Он не есть нечто заданное. Что универсализм Рихтера – это высшее достижение искусства.
Рихтера нельзя втиснуть в рамки «рихтеровского» репертуара. Критики едва успевали менять ярлыки. Но прав был тот, кто сказал, что пианист играет все: от прелюдов и фуг Баха до прелюдов и фуг Шостаковича.
Вот что сказал о себе по этому поводу Рихтер: «Я существую «всеядно», и мне многого хочется. И не потому, что я честолюбив или разбрасываюсь. Просто я многое люблю, и меня никогда не оставляет желание довести все любимое мною до слушателей.»
СОВМЕЩЕНИЕ НЕСОВМЕСТИМОГО
Уже в самом его имени заложена некая многострунность, почти символическая. В его жилах смешалась русская и немецкая кровь. Его нарекли именем Святослава, и это дает его соотечественникам право на богатырские ассоциации, на исторические аналогии, в которых возникает образ бойца и воителя: не случайно ведущие музыкальные критики видят в манере Рихтера нечто богатырское, нечто от орлиного полета ...
Фамилия же его в переводе с немецкого значит судья. О, Рихтер – великий судья! Наделенный непогрешимым вкусом, он выносит приговоры, с которыми никто не спорит, ибо они даруют бессмертие красоте. Как интерпретатор Рихтер судит других, как художник – самого себя. Бескомпромиссный и жестокий в своей требовательности, он осуждает себя на беспрерывный, всегда изнурительный труд ... К концу каждого концерта пианист теряет в весе, и это видно даже из зала, туго обтягивает кожа осунувшееся лицо, черты становятся резче и суше.
Рихтер уникально сочетает в себе разные и даже противоположные таланты, которые удивительным образом не заглушили один другого.
Говорят: слух музыканта, глаз художника. Говорят так, прокладывая демаркационную линию между двумя талантами: мало общего между абстрагированным звуковым образом и образом конкретным, возникающим под рукой живописца или рисовальщика.
А вот Генрих Нейгауз одной из тайн рихтеровского дарования считал редкое сочетание равно развитой способности видения и слышания. Об этом же писал итальянский журнал «Эпока» во время гастролей Рихтера в миланском Ла Скала: «Многие уже слышали Второй концерт Брамса для фортепьяно с оркестром, тот, кто не слушал Рихтера, еще не ВИДЕЛ этого концерта, потому что только у Рихтера звук «видимый» ...
Не менее тонко Рихтер чувствует пластику словесного образа. Его воспоминания о Сергее Прокофьеве написаны рукой литератора, они метафоричны и выразительны. Например, о Третьей симфонии пианист пишет: «Она подействовала на меня, как светопреставление ... В третьей части, скерцо, струнные играют такую отрывистую фигуру, которая как бы летает, точно летают сгустки угара ... Я сидел и не знал, что со мной будет. Хотелось спрятаться.»
РУКОПЛЕСКАНИЯ ОБОИХ ПОЛУШАРИЙ
Рихтер за роялем рождает в слушателе ощущение главной идеи того, что он исполняет, ощущение точное и ясное, как отпечаток клише. Колдуя над роялем, он вызывает любые нужные ему образы и вы видите. – или слышите – какое слово здесь уместней? – холодное сияние ледяных вершин, гулкое эхо бездонных ущелий, аромат синей ночи, вы видите, как струится по стеклу дождь, как бегут по лицу слезы, как губы шепчут признание, последнее прости ...
Он воспроизводит образы? Нет, он рождает их. Это его Шуберт, его Брамс и его Бетховен. Без него, вне его их нет – таких, с которыми он вас познакомил, ибо это его, Рихтера, искусством созданный мир ...
Искусство Рихтера – достояние человечества. Он играл в двадцати странах мира; он играл в 75 городах Советского Союза.
Подобно тому, как пианист, взяв максимально доступный человеческой руке темп, вдруг увеличивает его еще и еще, музыкальные критики Европы и Америки, обгоняя друг друга, находили все более красочные и невообразимые сравнения.
В Америке сказали, что Рихтер играет десятью руками; во Франции парировали: Рихтер играет десятью головами. В Италии подвели итог: Рихтер играет всей своей СУЩНОСТЬЮ.
«Надо слышать Рихтера, чтобы поверить в то, что такое возможно», – писал Джей Гаррисон в «Нью-Йорк геральд трибюн».
МИССИОНЕР ПРЕКРАСНОГО
Он возвращается с концерта домой, – спавший с лица, в промокших от пота рубашке и фраке. Впрочем, физическое утомление не огорчает его: он рад всякой возможности похудеть.
Он ужинает. Неприхотливый и скромный в еде, он с ужасом вспоминает, как хлебосольно потчуют его на всяких банкетах в его честь. О, эти долгие сидения за крахмальными скатертями, словно людям некуда девать время. Что касается его, Рихтера, то у него времени нет, все забирает музыка.
Рихтер любит путешествовать. Путешествием он в равной степени называет поездку в Неаполь и прогулку за город. Подмосковье он знает, как свои книжные полки: он может сказать, сколько километров от одного села до другого, если вы назовете их наугад.
В прогулках, как вообще в жизни, он держится несколько замкнуто, но не настолько, чтобы умывать руки, когда его вмешательство необходимо.
Как-то в пристанционном буфете он увидел пьяного, пристававшего к официантке. Рихтер схватил негодяя за шиворот и выбросил за дверь. Он схватил его с такой силой, что сломал себе конечную фалангу пальца. Перелом был скверный, и это чудо, что кость срослась без дурных последствий.
... Вот Рихтер вернулся из дальней поездки по городам Канады и Европы. Два месяца он концертирует в СССР и вновь уезжает – на этот раз в Лондон. В скитаниях и беспрестанной перемене мест проходит его служение искусству. Человек, близко знающий Святослава Рихтера, сказал мне: «Он культуртрегер в самом хорошем смысле этого слова. У него определенная страсть что-то внедрять, кого-то воспитывать ...»
20 марта 1967 года народному артисту СССР, лауреату Ленинской премии Святославу Рихтеру исполнилось 53 года. Не так уж мало. Но как обычно, он каждые два-три
снова и снова творит он на глазах у слушателей и приобщает их к своему творчеству, и они чувствуют себя соавторами и композитора, и пианиста, – они чувствуют за спиной широкие крылья вдохновения.
Мне сказали, что пианист наметил себе срок, когда оставит сцену. Он не допустит, чтобы Рихтер стал играть хуже самого себя.
Но сегодня Рихтер за роялем. И сегодня, как было вчера и будет завтра, идет спор о том, кто он: классик или романтик', мыслитель или поэт, кто его композитор – Бетховен или Прокофьев?
Отбросьте «или», это маленькое слово, укорачивающее больших людей. Поставьте везде «и».

Леонид Евгеньевич Гаккель.
I. "О Рихтере. 50-60-е годы". «Советская музыка», 1967, № 8.
II. "О Рихтере. 70-е годы". Из книги “Музыкальное исполнительство”. М.: 1983, “Музыка”. Л. Гаккель. “Пианистический Ленинград, 70-е годы”
О Рихтере. Для слушателей моего «призыва» он начался в пятидесятые годы. Начало было ослепительным, концерты 1951 — 1953 годов так и остались в памяти, как вспышки дарования, притом освещались словно разные его стороны. Клавирабенд в сезоне 1951/52 года (Шуберт; Papillons, Токката Шумана; «Годы странствий» Листа) дал импульсивного и чувственного романтика, переживавшего и моторику, и звуковые колориты романтической музыки по-композиторски первично (чувственно!), слышавшего скорее «атектонично», чем «тектонично». В сезоне 1952/53 года Рихтер играл Wohltemperiertes Klavier Баха и открыл себя в ином: в гипнотическом постоянстве динамики и темпа, в размышлении, которое хочет обособиться от действия, в созерцании-бездействии столь длительном, что у меня, слушателя, начинает меняться восприятие времени (время, организованное музыкальной формой, отождествляется с реальным, физическим временем); словом, появились черты, противоположные эмоционально-общительной романтической манере...*
Соседство, связи, соперничество двух начал составляют драматургию творческого пути Рихтера. Так, в апрельских концертах 1956 года (Трансцендентные этюды Листа, Соната D-dur Шуберта, Соната G-dur Чайковского) он был необычайно активен, действен, и общение его с залом шло через короткий и сильный эмоциональный нажим. В предыдущем же сезоне (1954/55) Рихтер играл Франка, Шимановского, Дебюсси, и все было иное: пианист замкнулся в кругу однородных состояний, он отрешенно «волхвовал» над инструментом, создавая в зале почти гипнотическую атмосферу, и именно атмосфера была, по-видимому, его заботой, а не соучастие исполнителя и слушателя... Чуть не каждый сезон дает контраст, подобный только что описанному. «Странный, невыносимый холод» в Сонате ор. 2 Брамса, в Pensee des morts Листа сменяется пламенной игрой в брамсовском квинтете (1959/60). Шуберт в Малом зале филармонии не похож на Шуберта в Большом зале — снова эмоциональный диктат уступил место «лирической атмосфере» (1963/64). Но вот чередой идут концерты недавних лет: Бетховен (1964/65), Шуберт, Франк, Лист (1965/66), Бетховен, Дебюсси (1966/67). Здесь уже трудно говорить о контрастах. Все дальше уходит Рихтер вглубь мистически-созерцательного, медитативного пианизма, воздействующего порою гипнотически, порой же подымающего так высоко, что слушатель «глохнет»... Интерпретация моцартовского концерта B-dur (с Московским камерным оркестром в сезоне 1965/66 года) осталась в памяти как некий образец. Если воспользоваться модным словом, то «дедраматизация» музыки у исполнителя достигла таких пределов, что это стало опасно напоминать произвол. Спросят: «А какая же драма в B-dur'ном концерте?» Но ведь мы говорим не о драматизме конфликта, а о драматургии формы,о контрастах внутри материала, о модуляционном напряжении, о диалектике вертикали и горизонтали, противоречиях метра и ритма — об имманентном драматизме формы! Он-то именно и был снят в условиях редкостной устойчивости динамики, темпо-ритма и артикуляции. Спору нет, была «атмосфера», но слух скучал, ему не за что было зацепиться, в итоге он почти что выключился...
Как много в Рихтере стало бузониевского! «Соборные» его устремления — игра для всех, но не для каждого, воздействие не через прямой эмоциональный «посыл», не через «жест», а через «атмосферу», некая сверхчувственность в покое и просветленности последних лет — все напоминает Бузони, и даже репертуар (обилие «монохромных» сочинений: Франк, Дебюсси, Скрябин и, напротив, редко сейчас играемый пианистом «поли-хромный» Шуман) дает пищу для аналогий. Конечно, Рихтер — личность самобытнейшая и ее ни за какие аналогии не упрячешь. Но все же задумываешься о них и встаешь перед вопросом: ко времени ли «сверхпианизм», если так можно выразиться, сегодняшнего Рихтера? Не грозит ли он разладом — хоть в чем-то — с широкой публикой, явственно желающей эмоциональности? К вкусам публики я еще вернусь; что касается Рихтера — само время покажет меру его правоты...
* Пользуясь категориями Карла Мартинсена, можно — не без натяжек — свести дело к проявлению экстатической и экспансивной творческих воль. Рубинштейновское и бузониевское, бесспорно, присутствует в Рихтере, и мы еще воспользуемся некоторыми аналогиями в этом направлении.
Л. Г а к к е л ь. Мудрость, молодость, вдохновение. «Советская музыка», 1967, № 8.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"О Рихтере. 70-е годы".
Я суммирую свои впечатления от игры С. Т. Рихтера в январе 1972 года (концерт до минор Моцарта с оркестром старинной и современной музыки под управлением Н. С. Рабиновича), в мае 1973 года (восемь прелюдий и фуг из второго тома «Хорошо темперированного клавира» Баха, соната № 32 Бетховена) и в январе 1975 года (бетховенские сонаты № 3, 4, 32). Для Рихтера исчез инструмент, имеющий ценность как таковой; фортепиано осталось как орудие мысли, но не как объект творчества: объектом являются мысли великих творцов музыки, а фортепиано позволяет воспроизвести эти мысли, сверх того оно не нужно, не интересно Рихтеру. Очень много, я думаю, говорят ему строки Томаса Манна: «...рояль — непосредственный и суверенный представитель музыки как таковой, музыки в ее чистой духовности, почему и надо им владеть» («Доктор Фаустус»). Поэтому Рихтер и владеет им, только поэтому!
И второе. Почти физическую реальность — особенно в январском концерте 1975 года — получало ощущение высокой цены, которую платит Рихтер за целостность и яркость своих трактовок, за единство исполнительского тонуса. Не один я почувствовал, что артист находится в преддверии какого-то качественного сдвига, какого-то «прорыва», который ведет к новому творческому откровению; в этом преддверии все напряжено в артисте, напряжение гипнотизирует, иногда почти пугает, иногда резкость исполнительского жеста вырывает нас из пределов концертной условности и мы судорожно сжимаемся, как если бы что-то произошло с человеком на эстраде (вспоминаю долгую паузу за несколько тактов до конца Третьей сонаты Бетховена!).
Напряжение не было разрешено в «прорыве» — оно было снято. Таким «снятием» представляются ансамблевые выступления Рихтера, следующие один за другим во второй половине 70-х годов в Ленинграде. Особой умиротворенностью дышит игра Рихтера в ансамбле со скрипачом Олегом Каганом. Каган как скрипач мягок, искренен, в одно и то же время и чувствен и чист (сочетание, вообще присущее хорошим скрипачам), он в своей привлекательной, теплой «материальности» напоминает нам скрипача Руди Швертфегера из манновского «Доктора Фаустуса». Договорим до конца: Рихтер —это манновский Адриан Леверкюн, небывало духовный, небывало высокий в своей духовности и страстотерпении. Подобно тому как у Т. Манна розовощекий Руди согрел и умиротворил (пусть на время, на миг!) душу великого духовидца, игра Олега Кагана помогла разрядить грозовое электричество рихтеровского пианизма, на какой-то спасительный миг снять напряжение творческого тонуса, она внесла долю уютного, «обволакивающего» в аскетический мир рихтеровского музицирования.
Были ли выступления Рихтера с Дитрихом Фишером-Дискау в октябре 1977 года или исполнение пианистом концертов Баха с камерным оркестром Московской консерватории в апреле 1978 года явлениями прежнего гипнотически напряженного, беспощадно ясного и резкого пианизма? Нет, не были. О вечерах с Фишером-Дискау мы еще скажем. Концерты Баха звучали очень насыщенно, тонус был очень высокий, но больше было сосредоточенности, чем напряжения, — и вовсе не было пугающе ярких контрастов, подобных, например, динамическим контрастам до-мажорной и до-минорной прелюдий и фуг Баха в майской программе 1973 года. Все стало плотнее, теплее, «уютнее»...
Были ли уроки среди событий ленинградской пианистической жизни 70-х годов? Есть отчего помедлить перед ответом. Чертами урока обладали почти все поименованные нами здесь концерты, иначе, вероятно, и не было бы смысла писать о них. Но были ли события, разом открывшие новый горизонт, разом давшие новое понятие о вещах, — подобные, скажем, концертам Г. Гуль-да весной 1957 года? Пожалуй что пет. А близко к таким событиям мы бы поставили одно: концерты С. Т. Рихтера с Д. Фишером-Дискау в октябре 1977 года. Песни Шуберта, песни Вольфа. Звучание ансамбля представляется инструментальным. В сущности это звучание инструмента. Голос Фишера-Дискау — это один из голосов в инструментальной фактуре. Все другие, многие голоса — Рихтер. Рихтеровский рояль обнимает собою голос певца, вмещает его в себя. Это меняет понятие об ансамбле вокалиста с пианистом, голоса с фортепиано. Не отвечает ли сказанное уже обсуждавшимся здесь понятиям Рихтера о фортепиано как о «суверенном представителе музыки в ее чистой духовности»? Песни Шуберта, испокон века неотделимые от чувственной прелести вокала, от его тепла и уюта, стали «чистой духовностью». Вокалист Фишер-Дискау, ведомый пианистом Рихтером, растворившийся в нем, участвовал в этом превращении. А какое богатство «чисто духовного» открыла шубертовская музыка воззвавшим к ней великим артистам — и благоговейно внимавшему залу! Что же касается песен Гуго Вольфа — в них больше, чем у Шуберта, театральности, больше сцены. И надо сказать, что публика внимала Вольфу спокойнее: все здесь для нее было проще, ибо обычнее — при всей приподнятости совместного творчества на эстраде в тот вечер. А Шуберт днем раньше был необычен, он создал животворное напряжение новых горизонтов, дал надышаться воздухом высокогорья. Он был уроком...
Из книги “Музыкальное исполнительство”. М.: 1983, “Музыка”. Л. Гаккель. “Пианистический Ленинград, 70-е годы”

Я.Мильштейн.
«Культура и жизнь», 1969, №2
Творческие портреты
СВЯТОСЛАВ РИХТЕР
Где бы ни выступал Святослав Рихтер – у себя на родине или за рубежом, – его игра неизменно вызывает восхищение. В чем секрет художественной силы пианиста? В чем причина покоряющей жизненности его исполнительского искусства?
Прежде всего, Рихтер как никто умеет быть ясным. Его намерения нельзя не понять. Самые тонкие оттенки мысли и чувства он выражает совершенно точно. Можно не уловить всех разветвлений фантазии исполнителя, но характер направляющих мыслей, их сущность поймет каждый желающий и умеющий слушать.
Он никому не подражает, играет со сдержанным благородством, целомудрием, чистотой чувства и, в сущности, весьма просто. Сила выражения у него всегда соответствует силе чувствования. Поражает соразмерность целого и деталей, гармония частей, разнообразие звуковых красок. С его именем связана в пианистическом искусстве линия, начатая еще Листом и продолженная Бузони, – линия преодоления «фортепьянности» и создания оркестрового колорита: фортепьяно словно бы исчезает, и перед нами многоликий оркестр... Стихия звуков.
Как-то Г.Г.Нейгауз сказал, что Рихтер в такой же степени человек видения, как и слышания, и что это довольно редкое сочетание. Очень верное замечание! Дело в том, что, играя или слушая, пианист не только слышит произведение, но и видит его. Он мыслит образами, потому так рельефно перед его слушателями предстают навеянные музыкой пейзажи, жизненные сцены, события, люди…
С именем Рихтера связано также понятие о предельной пианистической виртуозности. Но он не выпячивает свою технику, не подчеркивает ее, а, напротив, придает ей лишь подчиненное, служебное значение.
В его исполнении подчас может быть немало неожиданного, непривычного. Но музыкант настолько вживается в исполняемое, настолько глубоко проникает в самое существо произведения, что слушатель невольно подпадает под его власть. Можно не соглашаться с рихтеровской трактовкой Моцарта, считать ее излишне строгой или, наоборот, излишне свободной. Или не принимать до конца его интерпретации Шопена. Но нельзя не отметить глубину и ясность его замыслов. Нельзя не любоваться мастерством, с которым эти замыслы воплощаются.
Когда он исполняет произведения разных авторов, может создаться впечатление, что играют разные пианисты. Настолько велик дар перевоплощения, настолько органично меняется характер игры! И если просмотреть тетради, которые Рихтер ведет с завидной точностью и в которых записаны все когда-либо сыгранные им концерты, сразу же бросается в глаза широта репертуара – от истоков фортепьянной музыки до наших дней. Он и вдохновенный исполнитель отечественной музыки, и талантливый интерпретатор зарубежной. Здесь Чайковский, Мусоргский, Скрябин, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович. Здесь и Бах с его сюитами, токкатами, концертами, с его «Хорошо темперированным клавиром», который сыгран Рихтером полностью. Здесь и Гайдн, и Моцарт, и Бетховен, Здесь и Шуберт, Вебер, Шуман, Мендельсон, Шопен, Брамс. Наконец, здесь и более поздние композиторы – Дебюсси, Ра Хиндемит, Барток, Бриттен и многие другие. Что бы ни играл пианист в своих концертах, всегда испытываешь чувство, будто произведение создается в эту минуту под его пальцами заново рождается...
Путь Рихтера к вершинам искусства, во многом необычен. Родители определили его в детскую музыкальную школу, но что-то там; пришлось не по нраву, и после нескольких уроков он оставил ее. С тех пор, вплоть до поступления в Московскую консерваторию, он, в сущности, не получал специального музыкального образования. Правда, с ним занимался отец, отличный музыкант. Но, по собственному признанию пианиста, за все время он взял у отца лишь 8–10 систематических уроков, в остальном же лишь пользовался некоторыми его советами. На вопрос о том, как формировался его художественный вкус, что он больше всего любил, с чего начинал, Рихтер отвечает:
– Очень много читал с листа И не только фортепьянную музыку. Всегда привлекала опера. В детстве была страсть – покупать клавиры. Из них даже составил себе целую библиотеку, насчитывавшую свыше ста томов. Начал с Верди. Затем увлекся Вагнером. Все играл, запоминал и снова играл – без конца. Думаю, что многим обязан этой: оперной (и, конечно, симфонической) литературы. Часто аккомпанировал знакомым певцам и певицам. Участвовал в самодеятельном кружке в Одесском доме моряков. К концертмейстерской работе относился восторженно. Мне иногда говорили, что играю я оркестрово, как дирижер, и что пианист из меня вряд ли выйдет... К чисто фортепьянной музыке вначале душа не лежала. Правда, любил Шопена (и продолжаю его нежно любить), ранние сонаты Бетховена, да и многое другое.
Первый сольный концерт Рихтера состоялся в марте 1934 года в Одесском доме инженеров. Программа была целиком посвящена Шопену: Полонез-фантазия, 4-е скерцо, 4-я баллада, два ноктюрна ор. 55, два этюда из ор. 10, восемь прелюдий. Рихтер играл удачно, хотя и очень волновался. Тогда же он стал концертмейстером Одесской оперы, в которой проработал три сезона. Сыграл под палочку дирижера множество оперных произведений. Готовил себя к дирижерской деятельности. Но в последний момент почему-то раздумал, решил ехать в Москву, в консерваторию, учиться по классу фортепьяно.
Так стал он учеником Г. Г. Нейгауза, большого художника и педагога, воспитателя целой плеяды советских пианистов. Было Рихтеру в ту пору 22 года, в этом возрасте многие уже заканчивают музыкальное образование. Но в консерваторию он пришел, в сущности, уже крупным пианистом. Его выступления на студенческих концертах и прослушиваниях становились своего рода событиями. Вызывало восторг и его исполнение с листа оперных и симфонических произведений на собраниях студенческого творческого кружка, организатором и душой которого был он сам на протяжении ряда лет.
Естественно, что в консерватории пианист занимался не по обычной программе. Г.Г.Нейгауз, оказавший на него огромное влияние, вспоминал:
«Должен сказать откровенно, что учить Рихтера в общепринятом смысле слова мне было нечему. По отношению к нему я всегда соблюдал лишь позицию советчика – политику «дружественного нейтралитета». Однажды я попросил Рихтера подготовить к уроку сонату Листа – произведение исключительно сложное. Через некоторое время он сыграл сонату, и сыграл превосходно. Оставалось только дать ему несколько небольших советов да поспорить о трактовке одного эпизода, который показался мне недостаточно драматичным. На все это ушло минут 30– 40. А обычно со своими учениками я работаю над этой сонатой по 3–4 часа на нескольких уроках. Хочу думать, что мои занятия помогли Рихтеру, но больше всего он помог сам себе, помогла его страстная любовь к музыке...»
В своих концертах после окончания консерватории он ни в чем не повторялся: возникали все новые и новые программы. Постепенно приходила большая зоркость, тонкость понимания, умение найти единственно верную опорную точку и подлинную живость исполнения. Легкая победа не вызывала радости, но то, что доставалось ценой упорной работы, приносило истинное удовлетворение.
Осенью 1960 года, когда Святославу Рихтеру исполнилось 45 лет – возраст, в котором иные пианисты уже прекращают концертную деятельность, – началась блистательная пора его зарубежных гастролей. В октябре–ноябре 1960 года он концертирует в США, в декабре – в Канаде, затем, начиная с 1961 года, неоднократно выступает в Англии, Австрии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Голландии, Италии, Канаде, Польше, Румынии, США, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Югославии. В канун 1968 года он впервые появляется перед турецкими слушателями и затем снова концертирует в Австрии, Италии, Франции, Чехословакии... С его участием проходят фестивали в Туре (Франция), Зальцбурге (Австрия), Альдебурге (Англия), Флоренции (Италия), Ментоне (Франция), Сполето (Италия), Эдинбурге (Англия) и других городах Европы. Рихтер играет один или в ансамблях (с Ростроповичем, Ойстрахом, Бриттеном), выступает с различными музыкальными коллективами – с советским камерным оркестром Баршая, с симфоническими оркестрами под управлением Караяна, Мюнша, Орманди, Бернстайна, Маазеля и других выдающихся дирижеров, наконец, с прославленным певцом Фишером- Дискау. Он играет теперь иначе, чем в прошлом, – заметно сдержаннее. Его пафос и темперамент как бы ушли вглубь. Чище, строже стала его манера. Но искусство Рихтера, возросшее с годами, – это не застывшее мастерство. Оно не имеет ничего общего с холодным расчетом или виртуозным щегольством, оно одухотворено, проникнуто волей, озарено умом, освящено чувством. Оно плоть от плоти нашего времени и нашего народа.
Многое изменилось с той поры, когда музыкант учился в Московской консерватории. Из простого студента, порой нуждавшегося и не имевшего своего дома, он превратился в пианиста с мировым именем, концертов которого ждут с нетерпением во всех странах. Но он во многом остался таким же, каким был раньше. По-прежнему сохранил любовь к длительным пешеходным прогулкам. По-прежнему увлекается живописью, много рисует сам. По-прежнему, но уже у себя дома, устраивает театрализованные вечера, шарады, выставки полюбившихся ему картин.
Иным кажется, что Рихтер – человек не от мира сего, что он ничего вокруг себя не замечает. Но он на редкость наблюдателен. Об этом говорят многие его суждения, точные, лаконичные, всегда содержащие в себе нечто новое и интересное.
Пианист обладает еще одним ценным человеческим качеством, которое помогает ему в работе, – твердостью и непреклонностью в достижении намеченной цели. Он никогда не бросает произведения, если оно не получилось у него так, как хотелось бы. Продолжает работать над ним и играть до тех пор, пока не получится. Рихтер – очень строгий «судья» своего творчества. Это большой, истинный художник нашего времени.
Яков МИЛЬШТЕИН,
профессор Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского

ЮРИЙ БАШМЕТ "ВОКЗАЛ МЕЧТЫ"
ФРАГМЕНТ КНИГИ
СВЯТОСЛАВ РИХТЕР — ЭТО ОГРОМНАЯ КНИГА В МОЕЙ ЖИЗНИ
Первый раз я увидел Рихтера в городе Львове со спины. Это был его сольный концерт. Благодаря моему другу, сыну профессора Львовской консерватории, я получил пропуск, иначе попасть на концерт было невозможно. Из-за нехватки мест в зале стулья поставили на сцене, я оказался за спиной Рихтера в первом ряду. Меня поразила подвижная правая нога, которая постоянно ерзала по полу, и невероятная смелость броска на клавиатуру. В общем, запомнились какие-то внешние стороны и, конечно, всеобщее восхищение, ажиотаж вокруг приезда великого пианиста.
Я - тогда еще школьник - мало понимал, как играл Рихтер, что это за явление, но оказался как бы втянутым в эту атмосферу, в сам процесс. А потом, через много лет вспомнил и говорил с Рихтером об этом концерте, рассказывал свои совершенно немузыкальные впечатления.
Прошло много лет, я поступил в Московскую консерваторию. И тут - афиши по всему городу, гул в консерватории: концерт Рихтера. Событие!
Билеты, конечно же, не достать, и мы, студенты, сбивались в клин и, ощущая себя прямо-таки мятежниками, прорывались мимо старушек-билетерш. А потом был создан студенческий ансамбль, который исполнял очень редкий репертуар, и мы гастролировали с Рихтером.
Я, аспирант Московской консерватории, был приглашен в ансамбль для исполнения "Камерной музыки №2" для рояля с духовыми и четырьмя струнными Пауля Хиндемита. Второе отделение включало Концерт для скрипки и фортепиано с оркестром Альбана Берга с участием скрипача Олега Кагана. Наблюдая за игрой Рихтера с Каганом, я понимал, что для Рихтера возрастного барьера не существует. У меня закралась мысль, что вдруг... если Святослав Теофилович задумает сыграть что-нибудь с альтом... то, может быть... Но, конечно, сам я никогда ничего не осмелился бы предложить. Такое только во сне могло привидеться.
Однажды во время репетиции Концерта Баха со студенческим оркестром (дирижировал Юрий Николаевский, а мы все - Олег, Наташа Гутман и я - укрепляли каждый свою группу оркестра) Рихтер резко встал из-за рояля, проходя мимо меня, вдруг остановился и, отведя в сторону, спросил:
- Юра, как вы отнесетесь к тому, чтобы сыграть Сонату Шостаковича?
Я словно язык проглотил, ответить ничего не могу.
Он повторяет:
- Юра, а если нам с вами Шостаковича Сонату сыграть - как вы?
Тут уж меня прорвало. Я было начал, что это моя мечта, но сразу понесло куда-то в сторону: мол, кроме Шостаковича, есть еще Шуберт, сонаты Брамса. Зная, что он любит Хиндемита и как раз в то время был им увлечен, я добавил:
- И у Хиндемита много сонат, он ведь был альтистом.
- Да-да, я знаю, но это вопрос будущего, а сейчас именно Шостакович. Как вы к нему относитесь?
- Как я могу к нему относиться!
Тут Святослав Теофилович задал мне вопрос, который очень точно его характеризует:
- А как ваш постоянный пианист Мунтян, он не обидится? Вы ведь с ним ее играли?
Действительно, с Михаилом Мунтяном мы играли уже восемь лет, в том числе года полтора-два Сонату Шостаковича, это блестящий партнер и мой близкий друг, я работаю только с ним. Я был уверен, что он поймет меня, - и не ошибся.
Есть любопытный факт, связанный с этой сонатой Шостаковича. Она была посвящена великим композитором моему учителю Федору Дружинину. Так вот, когда я готовился к конкурсу в Будапеште, Дружинин приехал во Львов для того, чтобы со мной позаниматься. Дал мне несколько замечательных уроков. Мы работали у нас дома, и мама изощрялась в кулинарии. А он гурман! В общем, все было прекрасно. После уроков со мной он уходил сам заниматься в гостиницу. У Федора Серафимовича были с собой ноты альтовой сонаты Шостаковича, - он только что получил ее, разбирал, начинал учить и был, конечно, абсолютно поглощен этим произведением.
Позже я прочитал в одном его интервью, что он говорил Шостаковичу:
- Мне нужно уехать из Москвы позаниматься с моим студентом, который готовится на конкурс.
И Шостакович ему отвечает:
- Конечно, поезжайте, если будут какие-то вопросы, мы всегда можем созвониться.
Дальше, уже после Будапештского и Мюнхенского конкурсов, когда я составлял сольные программы, мне очень хотелось поставить в программу Сонату Шостаковича. Лакомый кусочек! Но я не сделал этого принципиально, из этических соображений. Для меня было совершенно очевидно, что человек, которому посвящено произведение (причем гениальное!), конечно же, должен первым его сыграть и записать пластинку. И только после этого формально можно считать, что произведение свободно. Но и после того, как это все произошло, я, ученик Дружинина, еще несколько лет по инерции не трогал сонату. Другие альтисты уже поигрывали ее, а я нет.
Должен сказать, что на премьере я не принял ее всей душой. Да, я ощутил глубину этого произведения, и местами оно понравилось, но в целом схватить его, прочувствовать не сумел. Но в любом случае - это же Шостакович, и, в конце концов, его музыка должна быть в моем репертуаре! Так через несколько лет и произошло. Сегодня эта соната одно из самых любимых моих произведений.

Борис Александрович Покровский.
Только ли пианист?" Нет, не только!
С детства в моей голове поселился целый рой воспоминаний о пианистах. Тут и Софроницкий со скрябинскими взлетами, и Эмиль Гилельс с фейерверком фортепианного концерта Сен-Санса. Заезжие на малое время Казадезюс или Эгон Петри, записи (увы, только записи) Сергея Рахманинова... безуспешные примеры Елены Фабиановны Гнесиной, моей первой наставницы по фортепиано («Вот Левушка Оборин, как занимается, а ты снова не выучил этот простейший пассаж...»).
Великие пианисты! Один другого лучше! Среди них, конечно, Рихтер. Но! Как только вспоминаю о нем, так, зная, что это великий пианист, представляю себе не клавиатуру, не черный ящик, который становится волшебным при прикосновении к нему «Пианиста от Бога», а множество многообразных зримых образов. Образов театра, живописи, природы... Конечно, сейчас легко доказать, что Святослав Теофилович был отличным живописцем, владел красками, композицией... Труднее убедить людей в том, что он музыку не только слышал, но и видел. Музицируя, он мыслил зримыми образами, более того – действенными, т.е. театральными.
Как-то, задумав поставить для уже знаменитых в то время «Декабрьских вечеров» одну из опер Бриттена, он обратился ко мне за помощью. Конечно, это было лукавство, он и без меня мог бы справиться с этой новой, но желанной (театральной!) для него задачей. Он пришел ко мне в театр, сразу получил (и освоил!) ряд законов режиссуры, главным образом организационно-творческих, и мы с ним стали фантазировать. Он быстро освоился и начал сочинять спектакль вполне конкретно, исхода из «данных» и, добавлю, реальных «предлагаемых обстоятельств». Он не только показывал мне мизансцены, он актерски (!) их исполнял. Уверенно, увлеченно и убедительно. Раз, придя на репетицию раньше срока, я застал его ползающим по полу и собирающим фрукты, рассыпанные одним из персонажей сцены. Видя, как этот персонаж должен собирать рассыпанные фрукты, я точно услышал музыку, на которой должен был происходить этот акт. Акт действия был музыкой. Подобно этому, музыка, увиденная режиссером в партитуре оперы, должна звучать у него в мизансценах и характере поведения актера. Собственно говоря, это и есть «зерно» оперного искусства, только в этом заключается суть настоящего оперного режиссера: в музыке увидеть действие – в действии услышать музыку.
Вот и скажите теперь, кто в этом «альянсе» был учителем, а кто режиссером.
Он имел дар видеть музыку и слышать действие. Природа оперного искусства была его собственностью; смею уверять – и его великим даром. Как-то об этом мы разговаривали с Ростроповичем. Он сказал мне: «Рихтер, когда играет одну из сонат Бетховена, видит некую женщину в белом платье, идущую по саду. И всегда в одном и том же месте».
Я передал этот разговор Рихтеру.
– Чушь! – гневно ответил он мне. – Славка всегда фантазирует всякую ерунду!
И, подумав немного, добавил:
– Она почти никогда не появляется в белом платье! Да и откуда там белое платье, если звучит си бемоль минор? Правда, когда она заходит за куст, на котором трепещут листики и попадает в луч солнца... Помните, там несколько тактов, будто бы скерцо?
Подумав и словно проверив «в уме», как звучат такты сонаты, Рихтер, как бы между прочим, как само собою разумеющееся, говорит:
– Кстати, выйдя из-за куста, она обычно идет к озеру, которое, вы помните, в глубине сада. Так что она оказывается ко мне спиной...
И снова пауза.
– Ха, эта выдумка с белым платьем, как будто там ля мажор!
Я согласился, что озеро в глубине сада; увидел и некую рябь, пробежавшую по воде... И, конечно, дама в темном платье. Все это я увидел, мне это вообразить было легко... Я, кажется, уже и музыку услышал...
Опера! Великое искусство, которое знал и любил пианист Рихтер.
Опера, таинственный синтез многих искусств, служащий главному – «жизни человеческого Духа»!
Так породнился в моем сознании Рихтер со Станиславским, его главной формулой театрального искусства.
Господи! Почему ты этот великий дар слишком рано отнял от нас?
Музыка, театр, живопись... Как нам нужен Человек, владеющий и объединяющий все эти великие искусства!

Дмитрий Николаевич Журавлев.
Успевал слушать, смотреть, запоминать
Еще в начале нашего знакомства я слышал о том, что Святослав Теофилович занимается целыми днями, а потом он и сам рассказывал мне, что, для того, чтобы быть «в форме», ему необходимо играть минимально 3-5 часов день.
По сей день меня поражает, как велико в нем чувство ответственности и требовательности к самому себе! Он сердится, если ему говорят: «Вы же так недавно исполняли это произведение, что можете его сыграть с закрытыми глазами»...
– Вот вы и играйте с закрытыми глазами! А я должен готовиться каждый день...
Его скромность невероятна. Он никогда никому не рассказывает о своих успехах, победах, триумфах. Как высшую оценку можно иногда услышать: «Кажется, в этот раз что-то получилось»...
Его жизнь, насыщенная интересными поездками в разные страны, встречами, яркими впечатлениями, успехом, овациями, на самом деле тяжела и сложна: бесконечные занятия, репетиции, концерты, переезды с места на место... Зачастую нет времени ни отдохнуть, ни оглядеться.
Вот пишет он нам из Перуджии:
«...Италия прекрасна, только у меня нет времени, как всегда».
Еще письмо из Италии:
«Последние дни у меня очень напряженные из-за трудных программ. Поэтому совсем нет времени что-нибудь смотреть... Вчера играл в Риме концерт Грига. Завтра играю советскую программу, а послезавтра возвращаюсь в Милан...»
Из Виченцы:
«Выскочив из московских сумасшедших концертных событий, продолжаю это занятие на итальянской земле. Столько же часов в день прикован к стулу. Очень томительно, но ничего не поделаешь! Виченца – чудо! Приехал за час до концерта и сразу же после – назад. Публика весьма экспансивна...»
Письма из Франции:
«Спасибо за телеграмму – она как раз пришла вовремя. И я все-таки не провалился на своем концерте (хотя было похоже, что это случится). Завтра я опять играю в Париже. Се ля ви артистик!..»
Из Монте-Карло:
«Вот оно, то место, которое описал Достоевский. И представьте – здесь я делаю записи. Город роскошный и безвкусный. А записи выматывают до полного изнеможения...»
Из Австрии:
«...Опустевший Зальцбург (вчера кончился фестиваль). Я начал записывать «Симфонические этюды» в том самом дворце, который вы видели в проекции на стене в праздники.
Здесь тихо, сыро, часто льет дождь. Но часто также светит солнце. Горы то скрываются, то показываются...
Шуман архитруден на записи (в пять раз труднее, чем на концерте).
Мой август был полон разнообразия. После югославской македонской поездки мы очутились в Ментоне.
В середине месяца концерт в Люксембурге, в маленьком опрятном городке Вильтце с замком. Путешествие через Мюнхен, Инсбрук и вот Зальцбург... Целый месяц играть в присутствии микрофона – ужасно!..»
Тремя неделями позже:
«...Я вместо звезд все время вижу ноты (а слышу фальшивые, которые надо исправлять).
Самое трудное, как всегда, это быть прилежным! Тут все время приходится идти поперек себя (в особенности тем людям, которые от природы влюблены в лень). Ну, не буду жаловаться, а буду надеяться на лучшее...»
И только изредка промелькнут такие строки, как вот эти, написанные из Азоло, где родилась и похоронена Элеонора Дузе:
«...Здесь так хорошо, что описать невозможно! Провожу время прекрасно, как новорожденный. А потом еще очень весело и легко.
Мы знакомы со всей деревней, и какие здесь милые люди... Дом Элеоноры сейчас ремонтируется: мы были на могиле, которая находится на монастырском кладбище, изумительно красивом, с видом на Азоло. Если бы вы все это видели...
Сижу у окна в сумерках: через узкую улицу вижу высочайшую церковную башню. В этот момент она громко звонит. Можете мне завидовать...»
И несмотря на огромный труд, творческая энергия этого человека настолько велика, что он успевает слушать, смотреть, запоминать и потому необычайно увлекательно обо всем рассказывать.
Но еще немного о Рихтере-музыканте.
Я не могу не восхищаться одним из замечательных его качеств: творческой щедростью, с которой он относится к молодым музыкантам.
Услышав однажды молодого, талантливого скрипача Олега Кагана, Рихтер предложил ему сделать вместе программу. Содружество это закрепилось, и от программы к программе мы ощущаем, как совершенствуется мастерство Кагана, как обогащается его творческий мир.
Страсть открытия для других новой музыки положила начало совершенно уникальному, с моей точки зрения, содружеству великого артиста с группой молодых музыкантов. Рихтеру хотелось сыграть в Москве камерный концерт австрийского композитора Альбана Берга. Первая попытка с опытными солистами-духовиками оказалась неудачной. При общей загруженности не хватало времени на репетиции. Рихтер считал, что исполнение не состоялось. Но не такой он художник, чтобы успокоиться. Он должен был показать музыкальной Москве настоящего Альбана Берга. И вот возник ансамбль: Святослав Рихтер, Олег Каган и молодые студенты и аспиранты консерватории во главе с превосходным дирижером Юрием Николаевским. Начались репетиции. Собирались, главным образом, в квартире Святослава Теофиловича. Репетировали по много часов подряд. Потом все дружно пили чай, заботливо приготовленный хозяйкой дома Ниной Львовной. Удивительной была атмосфера этих встреч! Ни тени менторства со стороны мэтра, ни тени скованности со стороны молодых. Царила атмосфера делового, творческого содружества.
Концерт Берга имел огромный успех. А двенадцать юношей и одна девочка-флейтистка за это время стали членами своеобразного музыкального братства.
Эта программа была сыграна не только в нашей стране, но и за рубежом: в ГДР, Франции и в Греции.
«Мальчики наши не подкачали! – писал позже Рихтер. – Семь тысяч зрителей слушали как один!..»
Вслед за Бергом, Рихтер приготовил с теми же молодыми музыкантами ряд интересных программ: сонату Брамса для кларнета (Анатолий Камышев) и фортепиано, Хиндемита – для фагота (Андрис Арницанс) и фортепиано, для трубы (Владимир Зыков) и фортепиано.
Еще позже – новое чудо: Ваковский ансамбль!
Святослав Рихтер, Наталия Гутман, Олег Каган, две флейтистки и молодые «струнники» под управлением Ю.И.Николаевского приготовили четыре концерта Баха: для фортепиано с оркестром, для скрипки с оркестром, для фортепиано и двух флейт и пятый Бранденбургский концерт. И опять многочасовые репетиции, огромная, кропотливая работа и в результате – триумфальное выступление в Большом зале консерватории.
В Бранденбургском концерте есть довольно большая и сложная каденция, о которой Рихтер говорил: «Играем, играем все вместе, а потом остаешься один – так страшно!..» Помню впечатление, произведенное на меня тем, что произошло с маленьким оркестром во время исполнения каденции. Как только началось соло фортепиано, все замерли и, не дыша, мысленно как бы «проиграли» всю каденцию вместе с Рихтером. Глядя на них, я думал: «Если бы великий скульптор мог сейчас оказаться здесь, вероятно, появилась бы прекрасная скульптурная группа «Музыка»!
Май 1980 года. Конец музыкального сезона. Казалось бы, никаких событий в музыкальной жизни не предвидится. Рихтер в это время усиленно занимается – готовится к поездке по Украине и к большому заграничному турне: учит новую сонату Бетховена, репетирует с Квартетом Бородина «Forellenquintett» Шуберта.
Каждую новую программу он старается обыгрывать в закрытых концертах – в музыкальных школах, музеях и, конечно, дома... Я очень люблю эти «репетиционные концерты», стараюсь не пропускать их. Люблю волнение юных музыкантов, сидящих в зале, их сияющие лица...
В этот раз репетировалась шубертовская часть программы. Она была сыграна в музыкальной школе, в Концертном зале Знаменского собора, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонке, а перед этим – дома.
Я уже говорил, что есть в Москве чудесный дом, который мы называем «дом Рихтеров». В нем, несмотря на огромную занятость его хозяев, мы проводим много счастливых часов. И вот, 31 мая мы были приглашены на домашнюю шубертовскую репетицию.
Слушателей было человек двадцать, но присутствовали мы на концерте, который мог быть украшением самого блестящего Концертного зала. Все было обставлено так, как если бы мы там и находились. Музыканты из Квартета Бородина во фраках, Рихтер в смокинге. Играли без всяких скидок на домашнюю обстановку и малое количество публики.
Я не раз слышал гениальный квинтет Шуберта в очень хорошем исполнении, но здесь было нечто неожиданно новое. Участники квартета прониклись рихтеровским прочтением Шуберта, и он зазвучал необычайно свежо, невероятно по разнообразию красок. Исполнители в этот вечер, казалось, были охвачены тем редчайшим чувством, какое называется вдохновением.
Когда 2 июня эта программа была сыграна в Музее изобразительных искусств на Волхонке, все повторилось с еще большей силой.

Валентина Николаевна Чемберджи.
Бал Глори
Почти десять лет ежедневного общения, из них четыре месяца, проведенные в двух гастрольных поездках Святослава Рихтера по России, Казахстану, Сибири. Перед глазами стоит его первое появление в жизни (не на сцене): через узенькую щель между занавесками нашей террасы в Верхнем Посаде в Звенигороде, робея, смотрим на пыльную проселочную дорогу, по которой с Николиной Горы должен вот-вот пешком прийти Маэстро. И вот он и в самом деле идет, босоногий, с закатанными брюками, вот его профиль на фоне забора и избы напротив, и мы прильнули к этой узкой щели (хоть он не может нас увидеть и совершенно о нас не подозревает), и с этого начинаются восемь лет наших знаменитых «Музыкальных Собраний в Верхнем Посаде».
С идеей — обязательно, немедленно! — организовать свой фестиваль прилетели в 1979 году из Финляндии Наталия Гутман и Олег Каган, переполненные впечатлениями от фестиваля камерной музыки в Кухмо («какое бескорыстие, какие музыканты, и все это в деревне!»). Святослав Теофилович на лету подхватил эту идею. Он вместе с Олегом Каганом, Наталией Гутман, Юрием Башметом и многими-многими другими замечательными артистами принимал участие во всех фестивалях Верхнего Посада, он задал им тон, и «Собрания» с нарастающим успехом проходили с 1980 по 1988 год, когда ведущий, прощаясь со зрителями, затопившими не только зал, но и окна, дворик, даже часть улицы, на которой стоит музыкальная школа Звенигорода, сказал: Друзья! Мы провели уже восемь фестивалей. Это дает нам право надеяться, что проведем и девятый. Встретимся через год!» Но больше фестивалей не было, потому что уже другой мир отнимал у нас Олега Кагана. Может быть, написать об этих фестивалях?
А после появления на деревенской нашей улице уже и встречи в «залах» Верхнего Посада, а потом в Москве концерт Элисо Вирсаладзе в зале на Бронной29. Самодельная настольная игра Маэстро «Путь музыканта» о шансах и провалах в судьбе юного Рауля, а потом приходы к нам в Москве (сразу же перевесить все картины!), невиданные золотисто-бордовые хризантемы, его наслаждение баклажанной икрой. Или вот уже в тысячный, наверное, раз я иду на Большую Бронную, поднимаюсь на последний, шестнадцатый этаж, звоню в дверь, и каждый раз не только не могу привыкнуть к этому, но не верю себе, что иду в этот Дом, отличный от всего окружающего мира. И Дом этот исчез после первого августа 1997 года навсегда.
Или написать об испанском периоде? Рихтер в Барселоне, Кддакесе, Таррагоне, Саламанке, Мадриде, у нас в гостях в Серданьоле (ему очень нравилось это название, и он с удовольствием повторял его, выделяя слоги), и как весело, и какие розы! Что выбрать? О чем писать?
Святослав Теофилович не раз говорил, что очень любит, когда о нем пишут не как о пианисте, музыканте, а как о художнике, режиссере, мечтал ставить оперы и ставил их. И вдруг я поняла: именно режиссер, автор, постановщик сценарист, зритель – все это у меня в тетради под названием «Бал 1988».
«Надо постараться...»
...Шел ноябрь 1987 года. Идея новогоднего бала носилась в воздухе уже не один месяц. Святослав Теофилович все больше увлекался ею и при проявлениях скептицизма (затея грозила стать грандиозной!) огорчался. Стоило Олегу сказать, что он не сможет оставить маму, Нине Львовне сделать замечания по списку приглашенных, мне в очередной раз повторить, что непонятно, откуда люди могут взять нужные головные уборы, как Маэстро обижался и сникал. «Надо постараться», — говорил он. «Но не у всех же есть возможности», — бубнила я. «Надо постараться», — твердо повторял Святослав Теофилович.
29 ноября 1987 года состоялось первое серьезное обсуждение. Я пришла тогда днем. Святослав Теофилович плохо себя чувствовал, но не терял ни капли энтузиазма. По столу разбросаны листы, заполненные — одни списком приглашенных, другие — планом проведения беспроигрышной лотереи. Лежит разграфленный толстым красным фломастером картон, в каждой клеточке напоминание, чтобы ничего не упустить из виду. «Как вы думаете, — спрашивает Святослав Теофилович, — этот бронзовый фонарь достоин участвовать в лотерее? — «Конечно, ведь он такой красивый».
Святослав Теофилович стал увлеченно рассказывать: управлять балом будет «Орава», каждый получит карточку, в которой написано, что ему надлежит делать по ходу бала, с указанием времени и всех обязанностей. У членов Оравы свои конспиративные имена. Святослав Теофилович так разнервничался, что ничего не успеется, все сорвется (речь шла именно о том, чтобы не сорвалось ничего), что я пообещала вечером прийти еще раз и вместе с Маэстро написать развернутый сценарий бала.
Несколько успокоенный, Маэстро продолжал свой рассказ.
— Все фантастично, — рассказывал он, мысленно перенесясь уже в атмосферу бала. — Дракон спит. Когда все приходят — музыка, голод. В 11.50 все идут в столовую, где шампанское и закуски (за них отвечают Бирюлина, Сидорина и Таня). Потом БУММ! В 12 часов куранты, Катя и Вася играют гимн. Шесть или семь мужчин во время гимна зажигают бенгальские огни, иллюминацию, над дверью столовой вспыхивает «1988». После гимна разносят на подносах еду и вино. Полчаса. Таня, Си-дорйна, Бирюлйна. Музыка: «Празднества» Дебюсси. Шествие. До часа ночи музыка в записи. В час появляются Спичка, Пифия, Виолончель и другие. Номер «Шемаханская царица». Тёмнозор и Сашими стоя держат занавес на вытянутых руках, перед каждым номером опускаются па колени, чтобы открыть его. Двадцать минут танцы. Занавес. Толмачева. Блок. Танцы. Занавес.
Король и дама (карты!) на дверях в ванные комнаты. Запирать на ключ комнату с пальто. Сделать маленькие лампочки к роялям. Повесить зеленое покрывало как задник сцены. Второй прожектор! А где «Царица Савская» Гольдмарка? Два часа ночи. Тигр — танцы. Потом Галя Писаренко с Васей (романсы Алябьева, Гурилева). Танцы под запись. Музыкальный антракт: Густав Холст, «Уран», дирижер — Герберт фон Караян. Броневой: «Попрыгунья стрекоза». Три часа ночи. Номер сестер Лисициан (народные песни). Гладиаторы и дрессировка (силовой номер). Занавес закрывается. Маэстро играет музыку папы. Курмангалиев. Продажа лотерейных билетов. Танцы двадцать минут под запись. Живая картина: «Рембрандт с Саскией на коленях». Запись для слушания: «Цыганский барон» — Элизабет Шварцкопф. Олег и Башмет — цыганская музыка. Сногсшибательный номер. Танцы под запись. Выдача выигрышей. Марш из «Царицы Савской» (в записи).
Я записывала быструю речь Святослава Теофиловича, в который раз удивлялась его памяти и приходила в ужас от масштаба поставленной задачи, не все понимала и в глубине души не верила в осуществимость задуманного. Я поняла, что, конечно, мне надо прийти еще раз.
Вечером мы и в самом деле пришли. Марибор и Арамис — члены Оравы, со шнурами, лампочками, переключателями и прочими электрическими приборами (электрификация квартиры подверглась временно кардинальнейшим изменениям), а я, собравшись с мыслями и сосредоточившись изо всех сил, сидя за столом напротив Святослава Теофиловича в его маленькой рабочей комнатке, принялась за дело.
Святослав Теофилович по первой же просьбе с полной готовностью бежал в соседнюю комнату, то за фломастером, то за ножницами, клеем, скотчем, — всем, в чем я нуждалась. В остальное время сидел напротив, страшно довольный, и все время приговаривал: «Вот это мне нравится». В какой-то момент я очень сильно его насмешила словами: «Не мешайте мне, пожалуйста!» Он долго смеялся и сказал тогда: «Вот и я всем так говорю всегда!»
В чем же заключалась моя работа? Ведь Маэстро уже продумал сценарий бала до мелочей. Я же взяла лист бумаги и разлиновала его на пять граф так: точное время, концертный номер и его исполнители, ответственный за него, объявляющий его, танцы и музыкальные антракты. Сведя все воедино, мы вписали обязанности каждого члена Оравы в специальную карточку, которую потом ему вручили (...).
В славную Ораву входили и знаменитые на весь мир музыканты, и никому доселе неизвестные личности и, конечно, друзья и родственники Маэстро.Перечисляю их в алфавитном порядке под вымышленными «конспиративными» именами.
Арамис, Тёмнозор, Сашими. Принимают в дверях гостей. Открывают шампанское. Зажигают две елки, транспарант с огромными цифрами «1988» над дверями в столовую. На них же возложено освещение всех номеров.
Освещению Святослав Теофилович придавал большое значение и проявлял неумолимость в достижении результата, которым остался бы доволен. На «задник» сцены (одна из стен зала в квартире Маэстро и Нины Львовны) повесили зеленое покрывало, снятое с аскетического ложа Святослава Теофиловича, поставили меня на его фон и с разных расстояний, высоты и с разными фильтрами направляли прожекторы, выверяя освещение будущих концертных номеров. Тёмнозор и Сашими должны были с двух сторон поднимать и опускать занавес.
Тёмнозор — художник, автор широко известного портрета Рихтера — изобрел, смастерил, разрисовал десятки фонариков, не уступавших привезенным из Японии. Он помог и осуществлению идеи задуманного Маэстро костюма. Но этот костюм стал сюрпризом для всех, поэтому скажу о нем позже.
Бирюлина, Сидорина. Угощение (включая его приготовление).
Виолончель. Продажа лотерейных билетов.
Глори.
Владимир Зива. Объявление всех номеров.
Канон-сан. Помогает угощать, переводит с латинского языка на японский содержание номера «Torba mirabilis (Чудесный мешок)». Объявляет «любимца публики» Леонида Броневого. Объявляет номер «Цирк! Цирк! Цирк!»
Марибор. Распорядитель бала. На его карточке написано: «Мажордомствовать».
Папагено. Объявление номеров «Старая Вена» («Перенесемся в добрую старую Вену...»), Эрика Курмангалиева, продажи лотерейных билетов.
Пифия. Выдача выигрышей, сопровождаемая чтением стихов собственного сочинения.
Роксана. Хозяйка. Царица бала.
Сабина. «Вообще все», и дублирование, и помощь Марибору. На карточке было написано: «Во всем помогать (с любовью) Марибору.»
Соня.
Спичка.
Таня. Руководить угощением.
Тигр. Все музыкальные записи и игра на рояле джазовой музыки.
Гости (их было около восьмидесяти человек) получили приглашения на открытках с нотными строками из посвященной Рихтеру Девятой фортепианной сонаты Сергея Прокофьева и копией автографа Маэстро. Такие открытки за несколько лет до того сделали для Святослава Рихтера в Японии.
«Глори, Роксана, Папагено и Таня не могут отказать себе в удовольствии просить Вас пожаловать на новогодний бал, который состоится в квартире 58 дома 26 по Большой Бронной улице. Съезд гостей от 22 часов 30 минут до 23 часов. Беспредельную свободу в выборе Вашего вечернего туалета мы позволим себе ограничить лишь просьбой увенчать его непременными атрибутами новогоднего маскарада: головным убором, перекликающимся с любой деталью Вашего туалета. О Вашем согласии просим уведомить распорядителей бала по телефону номер…..»
Святослав Теофилович неустанно обсуждал подробности предстоящего празднества, вникая во все детали. Угощение должно было происходить только во время танцев и было категорически задумано только такое, которое не потребовало бы ни вилок, ни ножей, ни тарелок, — то есть всевозможные маленькие пирожки, пирожные, с разными начинками. Они были наделаны в таком огромном количестве, что многим и домой потом надавали сумки с этими изысканными произведениями кулинарного искусства, — уж там оказались такие мастерицы! Только руками разведешь: что Сидорина, что Бирюлина. Светское руководство обрядом угощения (медленно, учтиво, внимательно) было поручено Тане. Когда ранним утром мы расходились по домам, оставляя квартиру в беспорядке, то, помню, с пристрастием допрашивали Роксану, кто поможет ей в уборке. И Роксана, приветливо и ласково улыбаясь, называла каких-то мифических помощниц. Но, как я и опасалась, Роксана со своей верной подругой убрали все сами. Не боялись работы в этом Доме. Святослав Теофилович высказал также пожелания, чтобы некоторые номера объявляла Лилия Толмачева, и чтобы Катя тоже играла па рояле джазовую танцевальную музыку.
За несколько часов до поездки на бал у меня были записаны такие дела: 12— 15 надписей в восточной манере для разных укромных уголков квартиры, костюмы, выучить наш помер, начинить 100 эклеров, проследить за номером Кати и Васи (гимн! — очень важно!). А вот список вещей, которые нужно было захватить с собой: барабан (палки!), флейта, колокольчики, ноты, жабо, два берета, «жемчуг», парик, цирковые трусы, шарф, кивер, тренировочный костюм, бамбуковая палка, туфли (три пары), ключ (настройка), поднос. Проверить наличие трех костюмов для номера «Шемаханская царица», стаканы, надувалка для шаров, повесить картину (Арамис), две карты — дама и король — для дверей в туалеты, подушки. Кроме того, я помнила, что Святослав Теофилович хотел бы заранее услышать гимн, гонг, пластинку с «Царицей Савской» Гольдмарка.
А головной убор!? Ужас и отчаяние. И вот в последнюю буквально секунду перед выездом я сорвала с нашей елки нитку золотой канители и обвернула ее много раз (сколько было длины) вокруг головы. Получилось что-то вроде золотой шапочки. Она непостижимым образом продержалась у меня на голове всю ночь. Но все это было, конечно, не так важно, как главное наставление Маэстро: «Общее настроение: все должно быть тихо, медленно, потому что опасно (Дракон!) Грация, импровизация (но не гопак), никакой паники, все очень медленно».
«Опасное» всегда привлекало внимание Рихтера. Опасным был юноша из номера напротив в Тайшетской гостинице, опасными - свинцовые облака над Байкалом, опасны многие сочинения, уголки природы, литературные персонажи — опасное притягивало.Итак, захватив с собой все волшебные предметы по списку, вперед, на Бронную, на бал!
Надпись на дверях квартиры номер 58 стала сюрпризом и для меня:«Извините! Все уехали на дачу. С Новым Годом»!
Бал
К одиннадцати часам стали съезжаться гости. Один за другим раздавались звонки в дверь, и входили неузнаваемо прекрасные, одетые в меру фантазии и старания в маскарадныекостюмы дамы и господа, юные леди и джентльмены. Их встречали Арамис, Сашими и Тёмнозор в масках. Гостям тоже тотчас вручали маски и, минуя «буфетную» «половины» Святослава Теофиловича, провожали в комнату — «гардероб». Гости раздевались, приводили себя в порядок, выходили, и дверь за ними тотчас запиралась. Их сопровождали в зал. И тут только начисто лишенные чувства прекрасного люди могли подавить восклицания восторга и потрясения.
Полумрак. Над головой темно-синее, почти черное новогоднее небо, бездонное, усыпанное разноцветными огнями, звездами. Звезды сияют высоко над головой, исчез потолок. Они словам, эпатировать публику, и об этом не знал никто. Он и оказался единственным в своем роде, хотя среди гостей было на кого посмотреть: быстрый, как ртуть, гибкий брюнет в берете, бешено танцевавший весь вечер, величественная, в бархате и жемчугах, средневековая матрона, юный гусар в кивере, белых лосинах, черном доломане с ментиком и золотым позументом, русская матрешка с японским лицом, блоковская Незнакомка с глазами княжны Марьи...
Согласно распоряжению Марибора, в 11 часов 50 минут все прошли в освобожденную от мебели небольшую столовую, столпились там, на серванте уже ждали десятки бокалов с шампанским. За стеклянной закрытой дверью в прихожей «половины» Нины Львовны на покрытом скатертью столе (скатерть тоже долго выбирали) стояли две елки: одна со вкусом, щедро украшенная, на другой — только свечки. С первым ударом курантов подняли бокалы, стали поздравлять друг друга и Футуриста с Новым Годом, грянул первый аккорд гимна Советского Союза, над дверью вспыхнул транспарант «1988», зажглись огни на обеих елках.
Через несколько секунд все стали удивленно переглядываться: что это за листовский, торжественно-величавый, мощный, громоподобный гимн? Недоумению положил конец Папагепо, заглянувший к зал и пригласивший всех последовать его примеру: оказалось, что там за двумя роялями сидели Катя и Вася и торжественно, с полной артистической отдачей, заражая своим подъемом слушателей, исполняли гимн, сопровождая бурными пассажами знакомую мелодию.
Отгремели последние аккорды, и, осушив бокалы, гости стали постепенно проходить обратно в зал, наполнившийся теперь звучанием оркестра: «Празднества» Дебюсси. И, словно заранее сговорившись, хотя ничего подобного не было, вслед за Футуристом гости двинулись по залу в торжественном шествии. Все новые и новые персонажи вливались в него, пока, взявшись за руки, в нем не оказались все до одного. Один из самых волнующих моментов бала.
Замолк оркестр, распалось шествие. И три феи — Бирюлина, Сидорина и Таня — появились среди танцующих с подносами, уставленными самодельными шедеврами, тающими во рту. Пирожки, пирожочки, профитроли, эклеры, крендельки, печенья, ватрушки. Все шло по сценарию — танцы, угощение. Тщательность подготовки лежала в основе необыкновенной непринужденности, с которой сменяли друг друга события праздника.
Ответственность за музыку возлагалась на Тигра, одного из любимых друзей Маэстро, прославленного не только в своем искусстве, но и страстного приверженца джаза. Из магнитофона вкрадчиво, а потом все громче и громче зазвучали призывные джазовые мелодии, на глазах улетучивалась стеснительность гостей, и вот уже весь зал наполнился танцующими. Я снова обратила внимание на создание в коротких, обтягивающих, как перчатка, белых шортиках, с полностью скрытым маской лицом, чье танцевальное искусство выходило за пределы привычных представлений. На вопрос, кто это, я уверенно ответила: «Кто-то из японцев». Оказалось, Эрик Курмангалиев. Между тем программа продолжалась. Первым номером выступили прекрасная блондинка в алом — Галина Писаренко — и Василий Лобанов. Прозвучали романсы Алябьева и Гурилева. И музыка, и исполнение принесли ощущение свежести, столь дорогое сердцу Маэстро. Именно «свежесть» сочинения, композитора, исполнения он всегда считал одним из главных достоинств.
В час ночи Владимир Зива объявил номер «Шемаханская царица». Все расселись кто на полу, кто на стульях, стоявших вдоль стен. Тёмнозор и Сашими, держа занавес за его края, опустились на колени, открылась сцена, и зрители зааплодировали представившемуся зрелищу.
Сцена обозначена зеленым ковром на стене и ковром на полу. На фоне задника - в шальварах, с обнаженным животом, в шелках, драгоценных камнях, искусно причесанная — Шемаханская царица. У ее ног полулежат две прекрасные одалиски, сидит неподвижно, скрестив ноги, третья. За роялем Василий Лобанов, с присущей ему способностью с первых же звуков захватить публику, начинает играть волшебную музыку Римского-Корсакова. Запела знаменитую арию Елена Брылева.
Но, как это часто бывает, невозможно рассчитать все заранее — стеклянные плошки, в которых стояли свечи, в том числе и на пюпитре рояля, стали с треском лопаться, осколки полетели в рояли, в одалисок, в царицу. Но не шелохнулись одалиски, не шелохнулся пианист, звенел и переливался серебристый голос певицы, — лишь легкое замешательство прошелестело в зале, чтобы тут же и исчезнуть. Овация разразилась в ответ не только на прекрасное искусство, но и на проявленную выдержку.
Снова выходит Владимир Зива и объявляет актрису: появляется узкая и изящная, в туфлях на шпильках, брюках и белой блузе, с облаком золотых волос вокруг тонкого лица Лилия Толмачева. Стихи Пушкина, Блока. Опять новая краска, другие чувства, другое настроение.
Танцы. С упоением играет джаз Тигр.
Следующий номер «Torba mirabilis» — «Чудесный мешок». Это был единственный сюрприз для Футуриста, потому что все остальные номера предложил к исполнению или придумал он сам. В исполнении «Чудесного мешка» в необычных для себя амплуа выступали члены двух семей: Виолончель, Спичка, Слава Мороз, с одной стороны, и Сабина, Марибор, Катя, Вася и Саша Мельников, с другой (...).
Объявляющая — Канон-сан — несколько минут произносила ученую речь по- японски, вставляя в нее тщательно выговариваемые слова: «Torba mirabilis»! - «Чудесный мешок». Ее сменила Пифия, великолепно поставленным голосом провозгласившая: «Torba mirabilis»! — «Чудесный мешок». Представление в старинном стиле с пением и танцами в пяти частях. Часть первая: Хор-шествие «Aliquid portavimus» — «Мы что-то принесли». Часть вторая. Танец церемониальный. Часть третья. Хор «Quid-quid mirabile» — «Что-то удивительное». Часть четвертая. Танец игральный. Часть пятая. Хор «Serpens Novi Anni Draco nominatur» — «Новогодняя змея под названием Дракон» и увеселительный контрапункт. Для скрипки, двух продольных флейт, цилиндрического барабана и колокольчиков. Смешанный хор. Балет. Исполняется на латинском языке».
Снова танцы. Футурист прошелся в танце со Спичкой, и они в конце упали на пол весьма эффектно, как и все, что делают эти артисты.
Футурист был вездесущ, таинственно и неожиданно появляясь повсюду, наблюдая за всем происходящим с таким же пристальным вниманием, с каким слушает оперы Вагнера или Яначека. Он смотрел все номера стоя, весь превращаясь в слух и зрение, не сводил глаз с происходящего на сцене и в то же время не упуская из поля зрения никого из приглашенных. Впоследствии выяснилось, что ему было известно даже то, что происходило в комнате для переодевания. За весь бал он не присел ни на минуту, находился на йогах с десяти часов вечера до восьми часов утра, так как к запланированным шести часам не уложились.
И снова перед занавесом появляется Канон-сан. «Выступает любимец публики Леонид Броневой!» — торжественно объявляет она. Леонид Броневой (один из соседей Святослава Теофиловича по подъезду, так же, как и сестры Лисициан) сел за его рояль и, лихо наяривая себе аккомпанемент, исполнил «Попрыгунью стрекозу», пародируя разных эстрадных артистов.
В три часа тридцать минут открылся «пивной бар»: пиво с сосисками! Угощение пришлось как нельзя более кстати для подкрепления сил.
Следующим номером концертной программы были арабские, армянские и еврейские народные песни в благородном исполнении сестер Лисициан.
Снова танцы, и «Цирк! Цирк! Цирк!» — старательно и радостно возвестила Канон-сан. Аттракцион Ма-рибора и Славы Мороза был хорошо нам известен еще со времен Верхнего Посада. Под аккомпанемент циркового марша в юмористическом исполнении Кати Марибор и Слава демонстрировали игру мускулов, совместными усилиями пытаясь приподнять крышку рояля. После каждой неудавшейся попытки делали «комплимент». Был представлен, ко всеобщему удовольствию, и коронный номер Славы — «дрессированный медведь».
И тут произошел катастрофический сбой. Пропал занавес. Следующий номер — выступление Глори с исполнением «Старой Вены», пьесы его отца Теофила Даниловича - задерживался... Святослав Геофпловпч стоял за сценой, нервничал, а номер все невозможно было начать. Марибор сбился с ног, отыскивая занавес. Пивной бар сыграл злую шутку с ответственными за него: они свалились с ног — кто где — и находились в невменяемом состоянии, на вопросы о занавесе мычали что-то неопределенное. Наконец, Марибор нашел занавес. Папагено объявил номер «Старая Вена», и Футурист сыграл пьесу. Жаль, что настроение его было испорчено, но он все равно играл так, как только он и может.
Объявили распродажу лотерейных билетов. Посреди зала села на стул Виолончель и с завязанными глазами доставала из шапки номера. К ней немедленно выстроилась очередь, в которую встал и Футурист, вскоре отказавшийся от мысли купить лотерейный билет, побоявшись, что их не хватит.
Пока все танцевали, надолго закрыли занавес. Что-то там происходило. Наконец, сцена открылась и — гвоздь программы! Живая картина: «Рембрандт с Саскией на коленях». Режиссура Маэстро ощущалась в доскональном соответствии живой картины оригиналу, будь то костюм, поза или выражение лица. Спичка и Виолончель. Все удалось: внезапность, красота, рывок в прошлое. Вне реальности. Затихли аплодисменты, и был объявлен розыгрыш лотереи.
Все чинно сели; вышли Пифия и Виолончель. Пифия выкрикивала номер, читала четверостишия собственного сочинения в подражание японскому, как бы приоткрывающее суть предмета, выходил владелец номера и получал выигрыш: от великолепного альбома, посвященного Рихтеру и изданного все в той же Японии, французских духов, кинжала с инкрустацией, конфетки или огромной коробки конфет до... всей выручки от продажи лотерейных билетов, доставшейся прекрасной Сидорине. Бронзовый фонарь во всей его старинной красе, вычищенный, благородный, получил Тёмнозор.
И вот уже стало ясно, что пора по домам. Тихо заходили в комнату, одевались; прощальные поздравления, предчувствие, что момент уже сливается с воспоминанием о настоящем Новогоднем бале, из тех, на какие хаживают разве что Золушки и им подобные создания из волшебных сказок.
Спасибо Глори.
Обсуждение
12 января 1988 года.
В первый раз после бала я увидела Святослава Теофиловича двенадцатого января, вернувшись из Малеевки. Первый вопрос, который он задал мне, когда я пришла, был:
— Вы описали бал?
— Конечно!
— Я так и думал! Как интереееесно... Знаете, кто был лучше всех?
— ?
— Конечно же, гусар! И не потому, что он такой милый, красивый! Не по этому! А потому, что он весь вечер был в роли. Он не просто надел костюм. Он играл роль! И прекрасно. А ведь это самое главное. Не в том же дело, чтобы надеть костюм, — дело в том, чтобы играть роль в этом костюме. И он вел себя прекрасно, он полностью перевоплотился. Называли его и Петей Ростовым. В общем, он был лучше всех.
Нина Львовна присоединилась к этому мнению. Хотя произошло некоторое недоразумение: по ее словам, когда она сказала: «Ах, какой красивый костюм! Ты что, улан?» — гусар будто бы не ответил, мрачно на нее взглянув. На самом деле он боялся кивнуть головой, чтобы не слетел кивер. А Нина Львовна не заметила его легкого кивка и решила, что молодой человек не выходит из своей роли.
По десятибалльной системе Святослав Теофилович поставил балу восемь с половиной. Нашел недостатки: паузы во время цирка. Слишком много детей. Не представили Дракона, которого так хорошо сделал Миша Крышталь (и в самом деле, Дракон был великолепен, но из-за опоздания отдельных персонажей не пришлось его достойно оценить). Одна из одалисок в «Шемаханской царице» лежала спиной к публике. Выдачу выигрышей затянули. Лучшим конферансье была признана Канон-сан, которая, я отлично помню это, десятки раз подбегала к членам Оравы и репетировала свои объявления, не сделав потом в них ни одной ошибочки. Ее старательность выглядела на редкость трогательной. Почему так и не нашли оперу Гольдмарка? Куда делся «Уран»? — этой музыки тоже не было. Не пел Курмангалиев, не состоялся сногсшибательный (в прямом смысле) номер борьбы Тигра со Спичкой. Все же главной катастрофой Святослав Теофилович считал паузы (и неизвестность!!!) во время номера «Цирк».
Понравился Гимн, Живая картина, Галина Писаренко, сестры Лисициан, Толмачева, «Чудесный мешок» с Катиной музыкой, и замысел, и исполнение на латинском(!) языке. Маэстро всегда был неравнодушен к древним языкам. Он часто впоследствии напевал «Quidquid mirabile».
Долго все обсуждали — в частности и бальные интриги, как же без интриг?! Кое-кому попало за неумеренность в пристрастии к алкоголю. Но потом выяснилось, что надо срочно («иначе ничего невозможно делать!») ответить на письма. Написали 21 письмо. Святослав Теофилович, сидя на уголке стула, приговаривал: «Вот это мне нравится! Темп есть!»
Фотография с новогоднего бала на Большой Бронной, 1988

Лев Николаевич Наумов
Остров радости
Каждая моя беседа с Рихтером оставляла сильнейшее впечатление, каждая встреча с ним для меня была подобна шоку. Гениальность его проявлялась во всем.
Рихтер как личность сыграл в моей жизни огромную роль. Я помню концерт в Малом зале Московской консерватории, где он играл «Остров радости» Дебюсси (Рихтер очень любил эту музыку). Это было удивительное ощущение открытия, радостного, свободного, гениального — чудо, которое передать невозможно.
Впервые я услышал о нем еще до войны. Тогда все в Консерватории говорили, что есть такой Рихтер, который гениально играет Шестую сонату Прокофьева, и что сам автор обожает его игру. А увидел я Рихтера впервые в классе у Генриха Густавовича, — он играл Сюиту соль минор Баха. Рихтер перевернул все мое представление о Бахе. Вместо привычного детализированного и «разукрашенного» исполнения каждой части в отдельности, он создал целое из разноплановых композиций — вторая часть контрастировала с первой, третья со второй, и получался цикл, в котором эти контрасты звучали как нельзя лучше. Потом я слышал подобное исполнение у Гулда, который играет монолитно, но с такой степенью активности, что порабощает уже с первой ноты.
Познакомились мы с Рихтером так. Время от времени на дверях класса Нейгауза в Консерватории появлялась записка: «Генрих Густавович болен, занимается дома». И ученики отправлялись к нему домой, и там играли на двух ужасных роялях. Однажды во время такого занятия я застал Рихтера, и Генрих Густавович, уходя, попросил его со мной позаниматься. И я Рихтеру играл. Он поразил меня своей добротой и какой-то застенчивостью. Потом мы часто встречались у Нейгауза дома. Это были чудесные вечера. Помню, как замечательно Рихтер и Ведерников вдвоем импровизировали на этих роялях.
У Рихтера были удивительные руки — не «пианистические», а похожие на руки скульптора, огромные; они вызывали представление не о нежном, тонком искусстве музыки, а о глыбах мрамора или глины. Станислав Генрихович Нейгауз рассказывал, что, когда он был маленьким, то очень любил смотреть на руки Рихтера во время его занятий с Генрихом Густавовичем. Эти руки были такими удобными для исполнения, что, казалось, только так и можно играть, и что это очень просто.
«Просто играть!» Когда я бывал на концертах Рихтера, у меня всегда, вместе с восторгом, возникало странное ощущение: все казалось таким простым и ясным, как будто срывался занавес или какой-то покров, и оставалась истина, которая должна быть перед лицом каждого исполнителя. И после концерта я бежал к роялю и думал: «Вот теперь-то мне все понятно, вот сейчас сыграю так же!» Ничего подобного! Рихтеровское исполнение пробуждало вдохновение и в то же время затрудняло работу, поднимая исполнительскую планку на небывалую высоту. Чтобы играть «просто», надо быть Рихтером.
Хотя Святослав Теофилович не хотел преподавать — он в большой степени был педагогом на сцене. Его исполнение открывало такие горизонты, такие новые области, что каждый задумывался. Рихтер никогда не играл привычно. Любую вещь, даже самую заигранную, он исполнял не так как все. Он как будто переворачивал все вверх дном, а на самом деле сочинение становилось чище, более увлекательным и как будто новым, точно оно и не заигрывалось вовсе.
Рихтер играл, как мне казалось и не очень удачные произведения, хотя сам говорил: «Я играю только что люблю, и всегда хорошее. Слушая его игру, я часто думал о том, что исполнитель является одновременно и соавтором композитора, как бы дорисовывающим то, что в нотной записи, вероятно, и нельзя передать. Сам же Рихтер считал, что самое главное — «ничего не делать» помимо автора, а играть только то, что написано в нотах. Так же говорил и Нейгауз и, быть может, Рихтер от него и унаследовал такое отношение к исполнительству Они были очень похожи: по масштабу, по устремлениям, по честности, по отношению к музыке как к чему-то святому, по уважению к автору. Выполнить все указания, которые стоят в нотах, для Рихтера было обязательно. На первый взгляд, он как бы сковывал себя этим. Но при этом его игра разительно отличалась от всех других исполнений. Исполнение Рихтера было настолько индивидуальным, и в то же время настолько «классическим», что, казалось, после него уже невозможно играть по-иному. Он очень сдержанно относился к музыкантам, которые играли субъективно — к такого рода исполнителям он относил, например, Гленна Гулда, хотя и считал его гениальным музыкантом.
Святослав Теофилович часто мне говорил, что ненавидит, когда во время кино- или телесъемки исполнения показывают его лицо: заметив это, он мог, например, показать язык прямо в камеру. «На лице отражена моя мучительная работа, — говорил он, — а это не то, важен лишь результат». Он считал, что на концерте нужно только слушать. Мне же как раз было интересно не только слушать, но и смотреть, наблюдать за ним, потому что лицо отражает такие таинственные переживания, которые руками и пальцами нельзя передать даже на самом хорошем рояле. Мне важна мимика. Она может иногда даже противоречить тому, что играют, или соответствовать, или дополнять, но равнодушного, отрешенного лица во время исполнения я не признаю. Лицо Рихтера было поразительным. Помню одно исполнение финала «Апассионаты» — никакая аудиозапись не может этого передать, это надо было видеть! Мимика Рихтера напоминала сцену из «Короля Лира», где Лир идет по степи, его предали, а на его голову обрушиваются буря, молнии, гром, град, и он рвет на себе волосы. Само же исполнение казалось столь простым...
У Рихтера в исполнении участвовало все тело, от кончиков пальцев на ногах до макушки головы — он играл всем существом, и за роялем всегда напоминал мне пантеру или льва. Он был могуч, организм был у него превосходный, и я считаю, что он умер необычайно рано — казалось, мог бы прожить еще лет пятьдесят. Выносливость его поражала. Когда Слава просил меня аккомпанировать ему концерты, над которыми он работал, я всегда с радостью соглашался. Иногда он спрашивал совета. Я осторожно что-то предлагал, он милостиво соглашался: «Да, пожалуй». Потом: «А теперь давайте пересядем, поменяемся роялями... А теперь пригласим послушать Ниночку». И продолжалось это часов пять-шесть. Я изнемогал. Тогда он говорил: «Лева, я вижу, что Вы устали. Идите домой, а я позову аккомпанировать Яшу Мильштейна». И продолжал репетировать.
Я любил следить за движениями Рихтера во время игры. Это было увлекательно, как детектив. Например, он мучился с какой-то трелью в моцартовском концерте, она ему не удавалась. При его-то возможностях — не удавалась трель! И вдруг он сказал: «А вы знаете — я понял, как это сделать! Надо в этот момент взмахнуть левой рукой, и тогда освобождается энергия и все получается». Это было так мудро и в то же время просто!
Рихтер замечательно, нестандартно, оригинально умел говорить обо всем. Например, любил с гостями обсуждать, кто из композиторов гениальный, а кто просто хороший.
— Кого мы назовем гениальным? — спрашивал он.
— Баха! — отвечаю я.
— Ну нет, Бах — вообще вне всякой классификации, он выше всех. А гениальные — это Моцарт, Бетховен...
А потом оказывалось, что он Гайдна любит играть больше, чем Моцарта. Из русских композиторов он выделял, прежде всего, Мусоргского, и нежно любил Римского-Корсакова, особенно первую картину «Сказания о невидимом граде Китеже» — она его пленяла чистотой. Еще Рихтер любил спрашивать:
— А кто из композиторов был хорошим человеком?
Я говорю:
— Наверное, Бородин был хороший человек.
— Да, да, он был добрый. А вот Вагнер был гениальный композитор, но человек паршивый. А Лист был хороший, он помогал друзьям, делал аранжировки, чтобы пропагандировать работы тех музыкантов, которых он ценил. Бетховен был, наверное, трудный человек.
Он изучал биографии, интересовался обстоятельствами жизни композиторов. Однажды у него в гостях мы слушали «Молоток без мастера» Булеза — поэму для голоса с оркестром. Это трудная музыка, но Рихтер уверял: «Это не шарлатанство, я точно знаю, что Булез — не авантюрист, а замечательный музыкант, поэтому нам надо еще раз послушать и постараться понять».
Я люблю возиться с различной техникой, был кинолюбителем, много фотографировал. И меня поражало, как Святослав Теофилович ненавидит все, связанное с техническим прогрессом. Он вздыхал о свечах и каретах; самолет для него не существовал вообще. Когда понадобилось ехать на гастроли в Америку, он плыл на пароходе, а когда добирался в Японию, то ехал через всю страну с гастролями, пересаживаясь на самолет лишь на Дальнем Востоке; а на обратном пути — вновь турне с востока на запад, которое он специально планировал, чтобы не лететь. Во время путешествия играл в музыкальных школах, рабочих клубах — и в этом вновь проявлялись его простота и величие.
Я счастлив, что однажды в мою жизнь, как вихрь, ворвался Святослав Рихтер, этот грандиозный «остров радости».
Воспоминания записала Екатерина Алленова

Рудольф Борисович Баршай
Святослав Рихтер
Святослав Теофилович любил хорошие репетиции и всегда многого требовал от оркестра. Из-за этого у него возникали трения с некоторыми дирижерами.
Как-то я исполнял совместно с оркестром де Франс, отнюдь неплохим, Четвертый концерт Бетховена с одним известным пианистом. Были запланированы лишь три репетиции, включая и одну с солистом. Естественно, и во время репетиции с солистом я работал над звучанием оркестра. Пианист, наконец, вышел из себя и в перерыве отправился жаловаться в дирекцию оркестра: «Дирижер не репетировал с оркестром и начал заниматься этим только в моем присутствии». Святослав Теофилович не принадлежал к числу подобных «звезд». Когда он играл с оркестром, его интересовало все произведение, в том числе и звучание оркестра. Поэтому это были всегда неподражаемые концерты. Как солист он никогда не играл на противопоставлении с остальными музыкантами, а всегда требовал сыгранности ансамбля. Если это было неосуществимо, он впоследствии старался не работать с такими дирижерами.
В Новосибирске мы хотели исполнить концерт Бриттена, и я занимался подготовкой оркестра. Когда Святослав Теофилович приехал, его игра с самого начала была настолько захватывающей, что оркестранты пришли в восторг и репетировали с необыкновенным энтузиазмом. Они превзошли самих себя. Такое часто случалось с музыкантами, играющими с Рихтером, независимо от того, был ли это квартет или оркестр.
Так случилось, например, с Квартетом Большого театра, с которым Рихтер исполнял Квинтет Франка. Квартет был хорошим, но когда появился Рихтер, возникло ощущение присутствия гиганта, сила которого подняла этих четырех музыкантов в воздух и заставила летать, преумножая их силы. Во время совместного исполнения Концерта Бриттена я отчетливо ощущал, как за моей спиной от рояля шла совершенно нечеловеческая сила.
Когда Святослав Теофилович выступал с камерным оркестром, он репетировал как обычный оркестрант. Он не любил проигрывать все «от А до Я» и всегда требовал, если было необходимо, повторить то или иное место. Проигрывание от начала до конца Рихтер рассматривал как потерянное время.
Однажды мы с Валентином Берлинским репетировали у него дома на Арбате — с десяти утра, без единого перерыва. Рихтер не нуждался в перерывах. Между делом Нина Дорлиак предлагала нам чай и бутерброды. Берлинский и я работали в то время в музыкальной школе имени Ипполитова-Иванова, и в четыре часа начинались наши занятия. В три часа Валя подтолкнул меня:
— Нам скоро надо уходить!
— Молчи! — ответил я, и мы продолжали играть. Через десять минут он вновь толкнул меня:
— Рудик, мы должны идти!
В половине четвертого он сказал Рихтеру:
— Слава, нам надо идти. У нас в четыре часа занятия.
— Нет, нет! Мы играем до четырех!
В половине пятого мы уже безнадежно опаздывали. Добраться от Арбата до Таганки занимало как минимум сорок минут.
— Слава, мы опаздываем на занятия!
Святослав Теофилович вскипел, захлопнул рояль и громко сказал:
— Итак, мы либо даем концерты, либо преподаем!
Таким образом, мы не пошли на занятия, а остались репетировать до позднего вечера. Был только один перерыв, когда Рихтер принял холодный душ. Затем он репетировал дальше. И так было не один раз. Не могу вспомнить, чтобы он когда-нибудь чувствовал себя уставшим.
Святослав Рихтер вел себя с коллегами чрезвычайно обходительно и относился к ним с большим пониманием. Он никогда не раздавал команды направо и налево. Самое большее, что он позволял себе, — это негромкие замечания дирижеру, если хотел услышать несколько иную игру.
В 1955 году я был в составе Квартета имени Чайковского с Рихтером в Будапеште. Мы устраивали квартетные вечера и исполняли квинтеты Шумана и Шостаковича. Рихтер давал сольные концерты. Совершенно необыкновенно исполнял «Апассионату». Он произвел громадное впечатление и имел неимоверный успех. Сам же Святослав Теофилович был доволен собой довольно редко. Во время ужина, после того, как мы вернулись к себе в гостиницу, он расстроено сказал: В «Апассионате» я слишком рано перешел к кульминации».
Стемнело. «Идем спать», — сказал Рихтер. Моя комната находилась напротив его комнаты. Когда я лег, то услышал звуки «Alborada del gracioso». Ее Святослав Теофилович хотел через несколько дней исполнить в Москве на концерте, программу которого он составил из произведений Дебюсси и Равеля. Он был неудовлетворен качеством исполнения и играл до утра. Но незадолго до концерта убрал это произведение из программы, так как все еще был недоволен своим исполнением. Лишь намного позже он все же сыграл его. Что это было за исполнение! Думаю, что сам Рихтер на этот раз должен был быть им доволен.
Я встречал немногих людей с подобной самокритичностью, но все они причислялись к самым большим талантам. Известно, что только над первыми тактами траурного марша из «Героической симфонии» Бетховен работал в течение десяти лет, прежде чем нашел свое решение.

Лазарь Наумович Берман.
Святослав Рихтер - человек и музыкант
Впервые мы встретились в 1946 или 1947 году. Шел весенний экзамен в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Ученица Нейгауза, талантливая пианистка Тамара Гусева играла Второй концерт Рахманинова, а Рихтер, ещё совсем молодой, пришел в школу по просьбе Нейгауза — своего учителя, чтобы ей проаккомпанировать. Ну а я, тогда ученик младшего класса, вышел переворачивать ему ноты. Рихтер так интересно, художественно играл свою партию, так мастерски, что слушать солистку было просто невозможно. В итоге она даже получила плохую оценку комиссии за свое выступление. А меня он после выступления поблагодарил, и я этим очень гордился...
Мои встречи с Рихтером были редкими, но для меня они были всегда незабываемыми (я не говорю о встречах на улице или концерте, когда мы только здоровались).
В 1955 году я обратился к нему с просьбой послушать Восьмую сонату Прокофьева, так как мой учитель А.Б.Гольденвейзер сказал мне, что этой музыки он не понимает и полезен мне быть не может. Я пришел к Рихтеру домой. Он меня встретил сам и пригласил пройти в студию, где стоял рояль (только один!). Замечу кстати, что у американского пианиста Вэна Клайберна дома этих роялей более десятка. Так мне рассказывали.
Сначала маэстро обратил моё внимание на висевшие на стене некоторые его художественные работы, потом пригласил сесть за рояль. Меня несколько удивило, что на пульте рояля стоял небольшой портрет одного из великих композиторов. К сожалению, я не помню сегодня, кого именно. Рихтер, видимо, заметив мое удивление, сказал: «Сегодня я люблю именно его. Ну а завтра здесь, быть может, будет стоять портрет другого — того, кого я буду любить завтра».
Это была наша единственная встреча за роялем. За пять часов Рихтер не только открыл мне глаза на музыку Восьмой сонаты, но и вообще на исполнение Прокофьева, его музыки. Основное в его указаниях было то, что Прокофьева следует играть не как романтическую музыку, а скорее как Бетховена. Его указания всегда были очень полезными, они были полны конкретных сравнений, иногда понятных, быть может, ему одному. Вот два примера.
Конец второй части: «Грезы кончились, сон прошел, перед тобой только пустой стол, одинокая тарелка и селедка на ней». Середина финала: «А здесь толпы людей растекаются по улицам». Иногда (даже часто) он садился за рояль, играл сам, причём даже его внешние движения были такими же, как во время концерта. Ещё одно замечание: «Вы это очень хорошо сыграли, и я никак не могу понять, что мне здесь не нравится» (это было сказано после исполнения второй части).
После этой единственной встречи моя Восьмая соната преобразилась. Гольденвейзер, послушав её, сказал: «Теперь я понимаю, что это гениальное произведение». Так Восьмая соната заняла прочное место в моём репертуаре.
Через несколько лет так случилось, что мы долго гуляли по ночной Москве, говорили, в частности, о Листе, о его Трансцендентных этюдах, которые я только что записал. Рихтер послушал их и похвалил. Я рассказал ему о том, что на эту работу меня вдохновило его исполнение восьми этюдов, которые он часто тогда играл в концертах. Но он никогда не играл остальные четыре, причем всегда одни и те же, в том числе и « Chasse - neige » («Метель», № 12). На мой вопрос «почему?» он ответил, что остальные четыре ему не нравятся, в том числе и «Метель». Я попробовал напеть начало мелодии этого этюда и сказал: «Но ведь это так прекрасно, неужели и это вам не нравится?» Он ответил: «Это мне нравится, но вот дальше мне уже не нравится». И напел продолжение той же мелодии.
Однажды мы встретились в Музее имени Пушкина, ставшем позднее и местом последнего прощания с ним. Тогда мы просто перемолвились несколькими словами. Интересно, что при каждой встрече Рихтер обязательно спрашивал, играю ли я современную музыку. И на этот раз он снова спросил меня об этом. Почему это всегда происходило, мне так и осталось неизвестным.
Наша новая встреча состоялась в 1994 году в Имоле, куда он приехал специально, чтобы играть для учеников и педагогов Академии, где я преподаю. Он уже сильно изменился, но играл совершенно гениально четыре баллады Шопена. В перерыве я узнал, что он просит меня прийти к нему после концерта. Когда я вошёл к нему, он был один. Совершенно неожиданно меня охватило несказанное волнение. Я полностью потерял самообладание, разрыдался и кинулся ему на грудь. Он тоже обнял меня. Я не мог говорить от волнения, говорил больше он. Он, оказывается, помнил подробности всех наших встреч, говорил, что очень устал, что надо прекращать играть, что он уже стар.
Почему я был в таком состоянии ? Я оплакивал всё хорошее, что оставил в России, покинув её. Это встречи с друзьями, русской природой, разрыв с концертной жизнью, частью которой я сам являлся много лет и как исполнитель, и как слушатель, неповторимая атмосфера концертных залов, где для меня в течение многих лет неприступной вершиной возникал Рихтер. Какое-то предчувствие говорило мне, что эта наша встреча последняя в моей жизни. Так оно и произошло. Больше мы не виделись.
Вспоминаю слова Гольденвейзера: «Надо любить музыку в себе, а не себя в музыке». Мне кажется, что Рихтеру были одновременно свойственны обе любви.
Личность Рихтера не вписывается только в музыкальные рамки. Это художник, мыслитель в плане общечеловеческом.
Я бы разделил творчество Рихтера минимум на три периода. Это молодой Рихтер сороковых-пятидесятых, полный огня и страсти, набрасывающийся на рояль как лев на оленя, ещё не успев сесть за инструмент. (Помню его «Дикую охоту» из упомянутых Трансцендентных этюдов Листа на Всесоюзном конкурсе в Москве в 1945 году.)
Другой период — назовём его «Рихтер в славе». Это время признания за границей. Он сохранил многое, взятое из молодых лет,но появилась большая углублённость (вернее, самоуглублённость), любование музыкой (и, пожалуй, самолюбование). Именно тогда у него появились очень медленные порою темпы, иногда даже слишком медленные — как в сонате Шуберта си-бемоль мажор op . posth .
Эстетика Рихтера требует отдельного исследования. Его импрессионисты (Дебюсси, Равель) просто волшебны, с каким-то отрешённым звуком, законченностью (я бы сегодня сказал, компьютерной законченностью) каждой фразы. Трудно сказать, где он был лучше. Он был лучше везде! (Когда был в форме...)
У Нейгауза он взял дивное многоцветье звучания и еще более обогатил его. Неожиданно, уже в зените славы, он вдруг пришёл к Шопену и уже не расставался с ним до последних дней.
Рихтер последних лет — это Рихтер-монумент, но монумент действующий, мудрый, иногда уже уходящий в иной мир.
Рихтер был истинно русским пианистом, ибо он опирался всегда на великие традиции русского пианизма. И он был всегда гражданином своей Родины.
Коммунистический режим причинил ему много страданий. Отец Рихтера был расстрелян перед входом в Одессу немецких войск только за то, что был немцем. Мать покинула Одессу вместе с отступавшими немецкими войсками. Из-за этого Рихтера много лет не выпускали на Запад, опасаясь, что он не вернётся. Его звала из Германии мать. Но он всегда возвращался на свою землю, к своим слушателям. Вот и летом 1997 года он после трёхлетнего отсутствия, связанного с лечением, вернулся в Россию, вернулся, чтобы здесь умереть.